Художественный мир В. Набокова и русская литература XIX в.: Генетические связи, типологические параллели и оппозиции
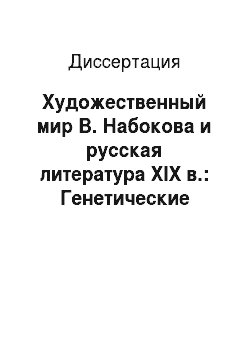
О влиянии теории «текущего времени» А. Бергсона на поэтику модернизма см., напр.: Ksicova D. Secese. Slovo, а tvar. Brno, 1998. S.30−40. ловность художественного времени в сотворенной им реальности: «Я отсек сиамское Пространство вместе с поддельным будущим и дал Времени новую жизнь. Я хотел написать подобие повести в форме трактата о Ткани Времени, исследование его вуалевидного вещества… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 2. В.НАБОКОВ ИА.П. ЧЕХОВ
- ГЛАВА 3. В.НАБОКОВ И Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ
- ГЛАВА 4. В.НАБОКОВ И Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
- ГЛАВА 5. В.НАБОКОВ И ФЕНОМЕН РУССКОЙ САТИРЫ
- ЧАСТЬ III.
- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
- XIX. — XX ВЕКОВ
Художественный мир В. Набокова и русская литература XIX в.: Генетические связи, типологические параллели и оппозиции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
См.: Александров В. Е. Набоков и потусторонность: Метафизика, этика, эстетика. СПб., 1999.
14 Айхенвальд Ю. Вступление// Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 23.
Достоевский философы и мыслители весьма посредственные. Во всяком случае, отнюдь не оригинальные, а безусловно вторичные. На самом деле можно говорить лишь о неких соответствиях (да и то чрезвычайно осторожно) между мыслью художественной, выраженной в произведении, и разного рода идеологическими концепциями, с которыми она коррелирует.
С другой стороны, писатель, который задумал бы положить в основание своего произведения некую идеологическую, философскую или этическую, концепцию (какой бы глубокой и правильной она ни была), обречен на двойную неудачу. Ибо мир, созданный им, не будет живым, а мысль «научная» неизбежно предстанет в выхолощенном, ущербном и искаженном виде. Такова плачевная судьба всех тенденциозных произведений.
Тайна творения новых миров велика, но завеса над ней была приоткрыта Ф. И. Тютчевым в великом стихотворении «Silentium!». Внутреннюю структуру стихотворения организует развернутая метафора: «космос души человеческойкосмос мироздания». Обе системы герметичны и в то же время взаимопроникающи — одна отражается в другой15. Но подразумевается и третья система — поэзия. Она словно объем-лет и заключает в себе две предыдущие. Заключает, впрочем, парадоксальным образом, ибо высшим законом словесного искусства провозглашается императив: «молчи!».
В чем смысл сего парадокса?
Поэтическое credo Тютчева продолжает линию невыразимости, начатую в русской поэзии знаменитым стихотворением В. А. Жуковского. Однако в стихотворении «Silentium!», как у Жуковского в «Невыразимом», речь идет не о бессловесно.
15 Ср.: Франк С. Л. Космическое чувство в поэзии Тютчева. С. 312−340. сти, а о наполненном молчании: «И лишь молчание понятно говорит"16. Творить миры, подобные вселенной — космосу внешнему и внутреннему, не называя и не объясняя словом их глубинного, сокровенного смысла. Ведь: «Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи ,."17.
Осмыслить художественный космос Набокова как развернутую аллюзию (осознанную или, что вероятнее, бессознательную) на это стихотворение Тютчева18 — значит понять структуру и скрытые законы его бытия. В прозе Набокова, как и у Тютчева, тема творчества объемлет и заключает в себе тему «потусторонности» (точнее, тему взаимопроникновения двух систем — индивидуального сознания и инобытия). Эти две темы не противостоят друг другу, а неразрывно, органично взаимосвязаны.
Потому-то здесь «окончательного слова нет, а есть некие белые пятна вместо слов, лакуны, которые автор и не особенно стремится заполнить, довольствуясь, как клондайкский первопроходец, вешками вокруг золотой жилы"19, ведь определению словом (не воссозданию!) поддается лишь смысловое ядро некоей логической концепции — окончательное слово о «живой жизни» — в том числе и о сотворенной художественным гением сочинителя — невозможно.
И не только набоковская проза, но и любое подлинное произведение искусства заключает в себе некое «таинствен.
16 Жуковский В. А. Избранные сочинения. М., 1982. С. 120. Ср.: Манн Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М., 2001. С.27−33.
17 Тютчев Ф. И. Стихотворения. М., 1978. С. 97.
См.: Александров В. Е. Набоков и потусторонность. С. 9.
19 Шульман M. Op. cit. С. 20. ное в своей простоте сообщение"20. Художник творит «живую жизнь», незавершенную и потому не поддающуюся окончательному определению. «Набоковское творчество, — как справедливо отмечает М. Шульман, — все устремлено к некоему нена-зываемому ядру, скрытому глубоко внутри себя, невидимому, возможно даже как бы постороннему, как песчинка в жемчужине — но определяющему все верхние перламутровые сверкающие слои"21. Это ядро не может быть названо, ибо это ген живой реальности. Его можно лишь «угадывать», бесконечно приближаясь к постижению.
Фантастический реализм в особенности предполагает игровой принцип организации произведения. Ведь если писатель, стремясь проникнуть в сокровенный подтекст «жизни действительной», обречен, по словам Достоевского, «угадывать и ошибаться», — то, бессознательно или сознательно, он неизбежно переносит эту игровую модель в свое творение. «Искусство — божественная игра, — писал Набоков. -Эти два элемента — божественность и игра — равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного творца. При всем том искусство — игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вымысел"22.
Владимир Набоков чрезвычайно остро ощущал сотворен-ность нашего мира, и своей жизни в частности. Это ощущение свойственно многим художникам XX в. — Г. Гессе, Ф. Кафке, Дж. Джойсу, М. Булгакову, Б. Пастернаку и другим.
20 Ibid. С. 40.
21 Ibid. С. 14.
22 Набоков В. В. Федор Достоевский// Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 185.
Впоследствии метафора «жизнь человеческая — художественное произведение» ляжет в основу поэтики постмодернизма: «Мир как текст — эта формула эстетики. размывает привычную границу между литературой и реальностью"23.
Однако генезис этой развернутой метафоры восходит к произведениям русских писателей XIX в.
Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним.
Читаем по складам, смеемся, плачем. спим, писал еще Н.М.Карамзин24. Во след ему Пушкин так завершал своего «Онегина»:
Блажен, кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала полного вина, Кто не дочел ее романа.
И вдруг умел расстаться с ним. (П.- 5.164) .
Ю.М.Лотман так комментировал эти строки: «Поэт, который на протяжении произведения выступал перед нами в противоречивой роли автора и творца, созданием которого, однако, оказывается не литературное произведение, а нечто прямо ему противоположное — кусок живой Жизни, вдруг предстает перед нами как читатель, т. е. человек, связанный с текстом. Но здесь текстом оказывается Жизнь"25.
В развитие поэтической мысли Пушкина Достоевский пи.
Липовецкий М. Закон крутизны// Вопросы литературы, 1991, №№ 11−12. С. 5.
24 Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М., 19 66. С. 236. Ср.: Лотман Ю. М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий// Лотман Ю. М. А. С. Пушкин. СПб., 19 97. С.728−729.
25 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 107.
РОССИЙСКАЯ ¦ГОСУДАРСТВЕННАЯ 41 БИБЛИОТЕКА сал: «Жизнь — целое искусство, жить значит сделать художественное произведение из самого себя" — «жизнь есть тоже художественное произведение самого Творца, в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения» (Д.-18.13−13.256). Творческий стиль Достоевского отличает ярко выраженная тенденция к созданию концентрированных художественно-документальных амальгам и симбиозов. Так, в одном из оригинальнейших своих эссе, в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе», писатель рассказал, как мельком увиденный случайный прохожий вдруг глянул на него — точь-в-точь как некий Соловьев — герой газетной хроники, и вот уже в его воображении этот образ начинает реми-нисцировать, сквозь него просвечивают то Гарпагон, то Скупой рыцарь, то вдруг Акакий Акакиевич, а читатель провидит в нем ряд литературных героев, сотворенных художественной фантазией самого Достоевского — г-на Прохарчина, Подростка и др. И вот «мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное» (Д.-19.73). Замечательно, что сюжет о лошади, которую секут по глазам кнутом (из цикла «О погоде» Некрасова), «ожил» в мире Достоевского сперва в литературной реальности (первый сон Раскольникова), а затем — в качестве воспоминания из собственной жизни («Дневник писателя» за 1876 г. — Д.-22.26). Поэтическая ткань произведений Достоевского буквально соткана из сложно пересекающихся и еще более сложно взаимодействующих сюжетных и образных мотивов — взятых равно как из «жизни действительной» — из личных воспоминаний или газетной хроники, так и из литературных сочинений.
Для Набокова законы сотворения художественной реальности и «жизни действительной» тоже едины. В подтексте собственной жизни он видел те же игровые модели, по которым сам организовывал свои произведения: это «крестословицы», шахматные задачи, головоломки и, наконец, волшебная картинка, составленная из мелких кусочков: «Найдите, где спрятан матрос» (Н.- 4. 302)26. Роскошное пиршество разнообразных игровых моделей представляет Набоков своему читателю в «Аде»: разнообразные «коллажи» и мозаичные конструкции, изысканные игры Ады и не столь утонченные увлечения Вана, игры героев в анаграммы и «Скрэббл», их шифрованная переписка и т. п.
В этом смысле, — пишет А. А. Долинин, — все произведения Набокова можно считать рациональными моделями его метафизического, иррационального универсума, где персонаж по отношению к авторскому сознанию занимает такое же положение, как человек вообще по отношению к «потусторонности» «27 .
В своей творческой практике Набоков осуществляет эстетическую позицию автора по отношению к своему герою, аналогичную отношению Бога-Творца к человеку. М. М. Бахтин так определял суть этой позиции: «Это — вненаходимость автора герою, любовное устранение себя из поля жизни гео о роя, очищение всего поля жизни для него и его бытия». В.
26 Ср. в «Лолите»: «Спокойно произошло слияние, все попало на свое место, и получился, как на составной картинке-загадке, тот узор ветвей, который я постепенно складывал с самого начала моей повести с таким расчетом, чтобы в нужный момент упал созревший плод» (Н1.-2.333).
2 7.
Долинин А. После Сирина// Набоков В. В. Романы. М., 1991. С. 13. Ср. также: Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С.7−180- Пехал 3. Владимир Набоков — роман как защита// Коэзд-са 01ошисепз1а XXXV. О1ошоис, 1998. 3.141−146.
28 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. романе «Bend Sinister» тип отношений между автором и героем, между их мирами таинственно, но вполне определенно указывает на существование еще одного структурного уровня — уровня бытия Бога. Ведь если герой Набокова обрел бессмертие, перейдя за невидимую грань («стена исчезла, как резко выдернутый слайд», — Н1.-1.398), и воссоединился со своим создателем, то в ком обретает бессмертие человек? Ответ очевиден: в лоне своего Творца. Роман Набокова трехмерен: уровень бытия героя — художественная реальность — так соотносится с миром «жизни действительной», где обитает автор, как уровень автора — с предощущаемым трансцендентным бытием Бога. А благодаря этому в сознании внимательного к деталям читателя возникает «подозрение о незамкнутости пространства, догадка о чьем-то присутствии в ясном романном бытии"29, точно так же, как в сознании духовно чувствительного человека — догадка о незримом, но всепроникающем присутствии Бога.
Поэтому доминантный принцип организации художественного текста у Набокова — игровой прием разгадывания, выполняет здесь столь важные смысловые функции. Главная из них — организация напряженных «сотворческих» отношений между читателем и автором в процессе «разгадывания» и одновременно созидания новой нравственно-философской и эстетической концепции мира. Набоков создал «сложный русский роман,. — пишет современный исследователь, — подразумевавший несколько уровней понимания, несколько глубин прочтения, более того, несколько возможностей толкования его смысла и разгадки задач, поставленных перед читателя.
С. 16.
29 Шульман М. Op. cit. С. 18.
30 ми" .
Homo ludens — таков устойчивый литературный имидж писателя .
Однако не столь уж серьезна была и русская классическая литература. Во всяком случае, взаимоотношения между автором и героем, а соответственно, и читателем здесь складывались порой весьма прихотливо. Вот, например, роман «Евгений Онегин». В главе 1-й Пушкин рекомендует героя как своего приятеля, отмечая сходство или подчеркивая различия. Поначалу Онегин и автор романа живут в одном мире, на одном структурном уровне. А затем начинают происходить довольно странные вещи. «Письмо Татьяны предо мною- // Его я свято берегу .» (П.- 5. 60). Интересно, кто бы мог дать его поэту? Да еще и оставить на память. Неужели Евгений? Примерно с этого момента автор все чаще предстает скорее всезнающим повествователем, чем приятелем героя. Но и эта маска порой спадает, обнаруживая истинное лицо Демиурга (например, когда поэт проигрывает в своем творческом воображении возможное продолжение судьбы погибшего Ленского — сначала в стиле возвышенно-романтическом, а затем сугубо реалистическом). И наконец в финале романа маска снята окончательно, герои вновь возвращены «в лоно» своего создателя.
В романе «Пнин» Набоков обнажает этот игровой прием31, используя его для создания сложных психологических и эс.
Носик Б. Мир и дар Владимира Набокова. СПб., 1995.
С. 238.
31 Ср. «сигнальную» структурообразующую аллюзию на письмо Татьяны Онегину, но уже о письме Пнина к его возлюбленной Лизе: «Письмо по случаю осталось в моих бумагах» (Н1.-3.164). тетических эффектов. Именно благодаря внезапному, хотя исподволь подготовленному заранее32, выходу автора на структурный уровень героя, между ними возникают парадоксальные отношения притяжения-отталкивания. Если автор-творец относится к «милому Пнину» во многом как к своему alter ego — с огромной симпатией и сочувствием, то, как только они оказываются в одном мире, где Владимир Владимирович уже счастливый соперник своего героя — в любви и карьере, его покровительственное сочувствие становится оскорбительным. Обнаруживается скрытая враждебность с одной стороны и обидчивость с другой («. я написал Тимофею Пнину в самых сердечных выражениях, какие смог подобрать, предлагая ему помочь мне любым способом и в любой степени, для него удобных. Его ответ удивил и обидел меня», -HI.-3.167). Зато, вновь став автором, Набоков вознаграждает любимого героя пророческими знаками, предсказывающими счастливое будущее: это и чудом не разбившаяся прекрасная ваза, и финал романа, когда, храбро избегнув всех опасностей на своем Крошке-Седане, Пнин, «наконец-то свободный, рванул по сияющей дороге, сужавшейся в едва различимую золотистую нить в мягком тумане, где холм за холмом творят прекрасную даль и где просто трудно сказать, какое чудо еще может случиться» (HI.-3.171).
С течением времени модели организации отношений между автором — рассказчиком — героем в творчестве Набокова все более усложнялись, развиваясь в направлении обнажения игровой природы взаимоотношений автор — персонаж.
32 См., напр., упоминание набоковского псевдонима Сирин, рядом с реальными Буниным и Алдановым, предвосхищающее его упоминание на страницах романа — уже как персонажа, (Н1. — 3 .10 7) .
Так скрытый парадокс романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» заключается в том, что в нем воссоздан процесс постижения героем-рассказчиком не столько другой души, сколько самого себя (как роковая дама Нина Речная разыгрывала перед героем-рассказчиком якобы свою подругу): «Я — Себастьян или Себастьян — это я, или, может быть, оба мы — кто-то другой, кого ни один из нас не знает» (Н1. 1.191). Этот первый англоязычный роман Набокова автобиографичен и является не чем иным, как его прощанием с самим собой — русским писателем.
Самый загадочный вариант координации нескольких субъектов повествования внутри единого нарративного пространства — в «Бледном пламени». «Текстура» произведения воплотила многомерное бытие слова-образа, во всем разнообразии его понятийно-ассоциативных культурологических вариаций. Принцип «растворенности» автора в своих героях, присущий поэтике Набокова, в «Бледном пламени» обрел новое качество: автор буквально творит героев из самой словесной массы, структурируя из языкового хаоса различные стилевые потоки. Он словно «просвечивает» сквозь каждого персонажа. В романе мы видим три варианта: создатель его свободно живет в автобиографическом слове Шейда, которое творит образ истинного художникакомпрометирует изнутри, делая его неавторитетным, слово Кинбота, в котором персонифицирован тип столь презираемого Набоковым критика-биографа, или, самый оригинальный вариант, когда автор «просвечивает» сквозь своего антигероя.
Присутствие Творца в словесной плоти каждого из героев рождает иллюзию, будто авторство принадлежит им. Но это иллюзия, к созданию и одновременно разоблачению которой стремился Набоков — единственный и бесспорный автор макротекста «Бледного пламени».
В «Аде» повествование, перебиваемое комментариями Ады, Люсетты, «издателя» и других, двоится, троится и множится, внезапно переключаясь с 3-его лица на 2-е и 1-е, а затем обратно. Или вдруг «дробится» на структурные элементы, когда Ван Вин — герой-рассказчик и, по умолчанию, автор романа, назван инициалами «В.В.» и сквозь маску вымышленного героя-автора проступает лик истинного Демиурга — некоего высшего существа, которое в образе всевидящего Ока Бога, Кантова ока наблюдает за происходящим (Н1. 4. 3 5 9, 3 8 8, 431) 33. Парадокс, но видимое умножение рассказчиков творит эффект единого субъекта повествованияТворца романа, главного сновидца, который через взаимоналожение и взаимопроникновение многих субъектов обеспечивает «единственность основной реальности» (Н1.-4.595) художественного текста.
Не менее парадоксальна, хотя и в ином роде, повествовательная модель романа «Прозрачные вещи» — она видимо расколота, и лишь под определенным углом зрения складывается в цельную конструкцию. Наррация ведется от лица не.
34 -л скольких местоимении — он, я, ты, мы. Автор-повествова.
Ср. наблюдение H. Букс: «» Камера обскура" В. Набокова воспроизводит пародийную оппозицию «киноглаза» как символа киноискусства — образу Глаза Божьего и в этом значении воспринимается как аллюзия на картину И. Босха «Семь смертных грехов», где на темном полотне изображены сцены греха, отраженные в Божественном Оке. Тематика греховная и тематика эсхатологическая объединены в этом произведении в единый круг, что соответствует сюжетному и композиционному построению романа" (Букс H. Ор. cit. С. 114) .
34 Об этом см., напр.: Pechai Z. Roman Vladimira Nabokova тель предстает существом невидимым, но всеведущим (Д.-7. 14 6) — как это типично для классического романа, а в то же время лик его множится и дробится на несколько субъектов, существующих в разных измерениях: писатель R. (наделенный некоторыми биографическими чертами самого Набокова), который в продолжение романного действия переходит с уровня земного бытия на инобытийныйоднажды мелькнувший некий, также писатель, Омир ван Балдиков (HI.-5.72) весьма прозрачная анаграмма Набокова, и, наконец, ведущий нарративный субъект — трансцендентное «мы» (см. Интервью 1972 г. — HI.- 5.598−599) .
Между различными ликами авторского «я» в тексте (а точнее, на уровне подтекста) протягиваются тончайшие, легонькие нити: приветственная фраза трансцендентного мы («Привет, персонаж!» — HI.-5.11) повторена затем писателем R. («Привет, Персон!» — HI.-5.33), а в финале романа, когда совершается окончательное разоблачение и мы оказывается я (см.: HI.-5.96), ранее свойственное писателю R. обращение «сынок» (ср.: Н1.-5.35) звучит уже от лица этого я, настоящего повествователя. Этим приветствием автор встречает своего персонажа на пороге инобытийной реальности (HI.-5.97). Круг, таким образом, замкнулся: роман начался с приветствия персонажу — Персону от мы-автора — из реальности инобытийной в земную, и им же закончился — но уже от лица я-автора и при переходе персонажа из реальности земной в потустороннюю.
Ключ к «шкатулке с секретом» дает анализ имени героя «Прозрачных вещей» — Хью Персон (Hugh Person). Само имя представляет собой фонетическую амальгаму местоимений he.
Transparent Things// Rossica Olomucensia XXXVI. Olomouc 1998. S.25−34. он) и you (ты). Этот глубинный нарративный пласт вскрывает оговорка Арманды: не удосужившись выговорить начальную согласную имени, она произнесла его как you (см.: HI.-5.44). Так был на миг приоткрыт читателю тайный подтекст. Два нарративных ракурса сфокусированы в имени главного персонажа. Повествование в 3-ем лице (он — he) -традиционно-классическая модель отношения автора к своему герою. И она в «Прозрачных вещах» — на поверхности, ибо именно так, he, говорит о своем персонаже автор-повествователь. Вместе с тем имя героя, образуемое фонетическим наплывом двух местоимений, указывает на синтез традиционного {он — he) и некоего нового, диалогического отношения автора к своему герою. Собственно, роман и начинается с попытки мы-автора обратиться к своему герою на ты: «Привет, персонаж!». Но, во-первых, мы-автору напрямую общаться с персонажем не разрешили (некие высшие силы по своим высшим, трансцендентным соображениям), а во-вторых, не услышал сам персонаж (мотив глухоты возникнет еще раз, в решающий момент его судьбы — HI.- 5.92). Таким образом, потенциал возможного непосредственного общения авторгерой остался нереализованным. Но читателю об этом нереализованном потенциале необходимо помнить. И каждый раз, когда мы видим перед глазами имя Hugh, мы должны вспоминать, что перед нами персонаж, не услышавший голоса своего Творца, не реализовавший возможности быть на ты со своим Создателем. Быть может, именно поэтому герой романа назван просто путем персонификации своей родовой принадлежности? Эта неиндивидуализированная безличность не удостоена личного имени35. Читателю на это указывают не раз:
35 Автор отмечает, что Персон — это «испорченное «Петер-сон» «(Н1.-5.12), тем самым как будто давая своему гена первых же страницах person превращается в Person просто повышение литеры («А, вот и нужный мне персонаж. В качестве персонажа Хью Персон .» — HI. — 5 .11−12), а затем еще одна, совсем откровенная подсказка-напоминание: «для настоящего отчета нам надлежит выделить одну лишь персону — Персона» (HI.-5.45).
Итак, фамилия героя безлична, а собственно имя — не что иное, как закрытое для диалога местоимение 3-его лица he, ибо другой его элемент — диалогичное you осталось нереализованным36 .
Сложная, порой запутанная и хитроумная игра масками автора, рассказчика и героя — один из излюбленных приемов Набокова. В его творчестве она имеет серьезное философское и эстетическое обоснование. «Любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извивы и последуешь им» (HI.-1.191). Смысл творчества — в том, чтобы «сознательно жить в любой облюбованной тобою душе — в любом количестве душ — и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени» (HI.-1.191)37. Так автор осуществляет «идею эстерою имя индивидуальное. Но это не более чем «отвлекающий» маневр, поскольку фамилия Петерсон столь же безличнотипологична, как и Персон. Что же касается другого предлагаемого варианта — Парсон (см. Н1.-5.12, 35,), то это, конечно, один из примеров попытки «облагородить» свою тривиальную фамилию. Черта, типичная для людей средних, обыкновенных.
3 6.
Ср.: «Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С.69).
37 Ср. также в романе «Дар»: «. он старался, как везде и тической любви"38.
Набоковское понимание позиции автора в художественном произведении коррелирует с эстетической концепцией М. М. Бахтина, разработанной в его труде «Автор и герой в эстетической деятельности», а, по существу, предвосхищает основные ее положения, поскольку эта работа Набокову была неизвестна. «Сознание автора, — писал М. М. Бахтин, — есть сознание сознания, то есть объемлющее сознание героя и его мир сознание, объемлющее и завершающее это сознание героя моментами, принципиально трансгредиентными ему самому, которые, будучи имманентными, сделали ли бы фальшивыми это сознание"39.
Творец живет в каждом из своих созданий, но при этом, предоставляя им видимую свободу и не показывая своего «лица», любовно и ненасильственно управляет их жизнью. «Набоков, — писала Н. Берберова, —. учит ., как читать по-новому. В современной литературе. мы научились идентифицироваться не с героями, как делали наши предки, но с самим автором, в каком бы прикрытии он от нас ни прятался, в какой бы маске ни появлялся"40.
И все же эта модель взаимоотношений между автором и героем возникла еще в русской литературе XIX в. Она была создана Достоевским уже в первом его романе «Бедные лювсегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками, и душа бы влегла в чужую душу .» (Н.-3.33) .
38 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 13.
39 Ibid. С. 14.
40 Берберова Я. Курсив мой: Автобиография. С.189−190. ди": «Во всем, — писал он брату Михаилу, — они привыкли видеть рожу сочинителяя же моей не показывал. А им и не в догад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может» (Д.-28,1.117).
Многие новации Набокова в области наррации предвосхитила также поэтика «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. В этом, уникальном по смелости изобретения творении была создана оригинальная модель повествования, построенная на «диалогических» отношениях субъектов разных уровней: автора («издатель»), рассказчика («летописец») и персонажей (авторы «Оправдательных документов»).
Вообще же прием «маскировки» автора под «издателя» чужих «Записок» известен давно и пользовались им очень часто («Капитанская дочка» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Записки из подполья» Достоевского и др.). Так что приоритет здесь принадлежит не Набокову, а русским писателям XIX в.
Но наиболее близка к изощренным повествовательным схемам Набокова модель нерасчленимого, в высшей степени прихотливого, сплетения масок автора — рассказчика — персонажа, которую изобрел Чернышевский в одном из малоизвестных своих произведений — незавершенном романе «Повести в повести"41. Намеренно запутывая читателя, автор выступает здесь под несколькими псевдонимами — Эфиоп, Н. Чернышевский, Л. Панкратьев, называет себя и переписчиком, и неким лицом, которое с готовностью дает «маску своей под.
41 С романом В. Сирин вероятнее всего познакомился в процессе работы над четвертой главой «Дара». Ср. упоминание о нем в тексте: «. сохранились, кроме „Пролога“, две-три повести, какой-то „цикл“ недописанных „новелл“ .» (Н.- 3.259). писи"42 каждому из многочисленных рассказчиков этого оригинальнейшего произведения. И, наконец, почти признается в своем авторстве: «Итак, покорнейше прошу считать меня автором „Рукописи женского почерка“ и „Рассказа Л.Д.Верещагина“, приписывать мне все, все до последнего слова .» (Чр. — 12 .145) .
Насколько оправдано наше предположение о творческом следовании Набокова за писателем, столь активно нелюбимым и даже презираемым? Но у Набокова «нелюбовь» к собрату по перу отнюдь не исключала возможности активного использования его художественных приемов. Интенсивность использования может быть прямо пропорциональна «нелюбви"43.
Чернышевский-беллетрист — явление в русской литературе уникальное. Гениальный, пророчески оригинальный теоретик, предвосхитивший в своих романах ультра-модернистские эстетические новации искусства XX в.44, — и писатель, в своей творческой практике более чем посредственный. Набоков испытал влияние Чернышевского на глубинном уровне усвоения художественных принципов. Вместе с тем эта параллель наглядно показывает, чем «эксперимент ради эксперимента», лишь наскоро сметанный с содержательной структурой произведения, отличается от игры как единственно возможной формы воплощения этико-философской концепции автора .
42 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 193 91 953. Т.12. С. 144. Ссылки на это издание даны в тексте.
43 Ср.: Сараскина Л. Набоков, который бранится .// В. В. Набоков: pro et contra. С.542−571.
44 Ср. анализ М. М. Бахтиным «Перла создания» как новаторской структуры, предвосхитившей полифонический роман: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С.76−79.
Виртуозная игра масками автора, рассказчика и персонажа — отличительная черта поэтики Набокова, сформировавшаяся в его творчестве независимо от и до знакомства с романом Чернышевского. Так что речь здесь, конечно, идет не о заимствовании приема у Чернышевского. Гораздо важнее другое: многие эстетические новации, которые принято связывать с открытиями искусства модерна, авангарда и постмодерна, не только были применяемы русскими писателями XIX в. на практике, но и теоретически осмыслены как принцип организации художественного текста.
Русскую литературу XIX в. отличает исключительное разнообразие форм субъективированного повествования45. Условно можно выделить три основные разновидности, соответственно степени «остраненности» автора от сотворенной им «объективной» реальности художественного текста: повествование от лица персонажа, психологически и нравственно близкого автору (например, «Повести Белкина», рассказанные от лица путешествующего русского дворянинагерои-повествователи в «Записках из Мертвого дома», «Униженных и оскорбленных», а также в рассказе «Сон смешного человека» Достоевскогостилизованные рассказчики Н. С. Лескова и др.) — перевоплощение в «чужое» сознание иного, чем у автора, психологического склада (например, «Капитанская дочка», где Пугачевский бунт увиден глазами молодого дворянина Гринева, обязанного счастьем своей жизни и проникшегося сочувствием к тому ужасному человеку, чудовищу, которого сам Пушкин в «Истории Пугачева» называет не иначе, как бунтовщик и злодейМакар Девушкин в «Бедных людях», Хроникер в романе «Бесы» и герой рассказа «Кроткая».
45 Ср.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С.210−311.
Достоевского, Максим Максимыч в «Герое нашего времени» Лермонтова, герой «Записок сумасшедшего» Гоголя и др.) и, наконец, повествование от лица персонажа, чье слово изначально неавторитетно и скомпрометировано («Записки из подполья», «Бобок» Достоевского, пародийно стилизованные рассказчики в «Дневнике провинциала в Петербурге» и «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина и др.).
У Набокова герои, типологически близкие автору — в интеллектуальном, моральном и духовном плане (Годунов-Чердынцев, Цинциннат Ц., Адам Круг, Себастьян Найт, Пнин) ,-обычно включены в кругозор объективного (и сочувствующего) повествования. Напротив, субъективированное повествование используется для «освоения» изнутри «чужого» сознания, цель его — исследование психологии личности с иным, чем у автора, типом сознания — Смуров («Соглядатай»), или маргинально-криминальным — Герман («Отчаяние»), Гумберт Г. («Лолита»). «Некоторые мои персонажи, -так объяснял сей парадокс писатель, — без сомнения, люди прегадкие, но. они вне моего Я, как мрачные монстры на фасаде собора — демоны, помещенные там, только чтобы показать, что изнутри их выставили» (Н1. 2.577) .
Следующий логически закономерный шаг субъективированного повествования — создание «мозаичного» целого, составленного из отдельных рассказов. Принцип организации подобной художественной структуры был сформулирован Чернышевским в романе «Повести в повести». Каждый из многочисленных рассказчиков, как объясняет писатель, «беспрестанно противоречит всем остальным, еще больше и усерднее заботится разрушать на следующей странице то, что сам написал на предыдущей, так, чтобы выходил бессвязный ряд отрывков, которых, повидимому, невозможно слить в одно целое. Но только повидимому: авторы „Перла создания“ или сговорились между собою, или, не сговорившись, очень хорошо понимают мысли друг друга и пишут совершенно заодно, так что. создается „История белого пеньюара“ — связная,. из этих клочков, которые имеют между собой внутреннее единствоэтому помогают и сами авторы „Перла создания“, но у каждого из них выходит своя особая история .: в мыслях каждого „Перл создания“ пересоздается по характеру внутренней жизни пересоздающего лица» (Чр.-12.131) .
Однако не Чернышевский был изобретателем «мозаичного» принципа сотворения художественного целого: он лишь теоретически осмыслил и развил то, что открыл Лермонтов в своем уникальном по экспериментаторской смелости романе. Еще В. Г. Белинский обратил внимание на оригинальность сю-жетно-композиционной модели романа46. Набоков назвал эту модель «спиральной» и увязал с принципом повествования от лица нескольких рассказчиков: «фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока наконец он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых» (Н1.-1.52 6).
Фокус" многомерной повествовательной модели «Героя нашего времени», однако, не исчерпывается одним лишь «оптическим» приближением к нам главного героя: благодаря взаимоналожению и пересечению различных точек зрения, здесь возникают весьма сложные нравственно-психологические эффекты.
Набоков явно наследовал этот принцип: в своих произ.
46 См.: Белинский В. Г. Герой нашего времени// Белинский.
B.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1952 — 1956. Т.4.
C. 267. Ср. также: Эйхенбаум Б. М. «Герой нашего времени"// Эйхенбаум Б. М. О прозе. Сборник статей. Л., 19 69. С.257−305. ведениях он творит различные системы «зеркальных» отражений личности героя в множестве «чужих» сознаний. Так в «Соглядатае» автор проводит, как писал Набоков, «расследование, которое ведет его (героя — А.З.) через обставленный зеркалами ад и кончается тем, что два лица сливаются в одно"47. Смуров самоустраняется из жизни, продолжая свое бытие в множестве зеркальных отражений, оставленных им в сознании других людей. Если в «Соглядатае» воссоздана разрушительная фаза процесса, то в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» — созидательная фаза эстетического со-творения образа героя. «Осколочные» отражения личности Себастьяна Найта в сознании людей, знавших его, фокусируются в целостный его образ, — и на волшебном экране проявляется истинный лик героя, увиденный сквозь призму любовного, понимающего сознания автора. Но зато сам герой умр е т.
Возможен и более сложный, до конца не проясненный вариант — как в романе «Прозрачные вещи». Главный принцип эстетического постижения «души человеческой» и создания художественного образа выражен Набоковым через развернутую метафору: «Жизнь человека уместно сравнить с персонажем, танцующим во множестве обличий вкруг собственно «я»: так овощи из первой нашей книжки с картинками окружали спящего мальчика — зеленый огурец, синий баклажан, красная свекла, картофель pere, картофель fils, женственная спаржа и многие, ох как многие иные — их кружащий ronde несся все быстрей и быстрей, образовав наконец прозрачное, смешанного окраса кольцо вокруг покойника или плане.
47 Набоков В. В. Предисловие к английскому переводу романа «Соглядатай» («The Eye»)// В. В. Набоков: pro et contra. С. 58. ты" (Н1.-5.86). В подтексте метафоры, профанирующей фундаментальные религиозно-экзистенциальные понятия, скрыт вопрос: во что, в какой образ сложится в конце концов это множество зеркальных фрагментов личности персонажа? И в финале романа автор, повторив свое сравнение в свернутом виде и уже на следующем витке образной спирали, дает нам ответ. «Разномастные кольца сомкнулись вокруг, кратко напомнив картинку из страшной детской книжки о торжестве овощей, все быстрей и быстрей летящих по кругу, в середине которого мальчик в ночной рубашке отчаянно порывается пробудиться от радужного дурмана приснившейся жизни. Последним его видением была добела раскаленная книга или коробка, становившаяся совершенно прозрачной и совершенно пустой» (Н1.-5.96- выделено — А.З.). «Тонкая пленка плоти» (Н1.-3.22) сгорела, земное тело-тюрьма, «книга или коробка», оказалась пустой. Что представляло собой то сущностное ядро личности, которое перешло из земное реальности в инобытие, — осталось неизвестным. И было ли это ядро? Надо все же полагать, что было, — иначе кого бы приветствовал «на пороге» инобытия словами «сынок» сам автор (см. Н1.-5.97)?
Набоков унаследовал от русских писателей XIX в. (от Лермонтова через Чернышевского), значительно усложнив его, прием повествования от лица множества рассказчиков как наиболее продуктивный способ написания «истории души человеческой» и сотворения многомерного целостного образа героя.
Другая важная особенность игровой поэтики Набоковаисключительная реминисцентная насыщенность его произведений, художественная ткань которых буквально пронизана сетью изысканных и прихотливых цитаций, в том числе реминисценций, парафраз и аллюзий, из мировой литературы. Отношение самого Набокова к этому очевидному факту, однако, противоречиво и может показаться странным. «Я. никогда не мог понять, — писал он, — почему от каждой моей книги критики неизменно начинают метаться в поисках более или менее известных имен на предмет пылких сопоставлений. За минувшие три десятилетия в меня швырялись (ограничусь лишь немногими примерами этих артиллерийских игрушек) Гоголем, Толстоевским, Джойсом, Вольтером, Садом, Стендалем, Бальзаком, Байроном, Бирбомом, Прустом, Клейстом, Макаром Маринским, Мари Маккарти, Мэридитом (!), Сервантесом, Чарли Чаплином, баронессой Мурасаки, Пушкиным, Рускиным и даже Себастьяном Найтом"48. А между тем пародию.
— свободные вариации на чужие темы — Набоков называл своего рода подкидной доской, «позволяющей взлетать в высшие сферы серьезных эмоций» (Н1.-1.97), и считал ее неизменным спутником истинного искусства («пародия всегда сопутствует истинной поэзии» — Н.-3.13).
Ключ к разрешению этого очевидного противоречия — в различении реминисценции как следствия «заимствования» (от таких «сопоставлений» яростно отбивался Набоков) и реминисцентной организации текста как нового способа художественного освоения реальности.
Замечательно, что именно этот путь — от «подражательности» до реминисцентной организации текста как эстетического приема — прошла русская литература в течение XVIII.
— XIX веков. Наша изящная словесность родилась в XVIII в. как литература переводная, заимствованная и подражательная, и приблизительно вплоть до 2-й половины XIX в. не.
4 8.
Набоков В. В. Предисловие к английскому переводу романа.
Приглашение на казнь" («Invitation to a Beheading»)//.
В.В.Набоков: pro et contra. С. 47. существовало даже понятия о плагиате как о чем-то постыдном. «Заимствования» лишь доказывали высокий уровень культуры автора и считались достоинством.
На протяжении нескольких десятилетий вольные переводы или «русифицированные» переложения из произведений западноевропейской литературы49 были почвой для оригинального творчества русских поэтов и драматургов. Так творчество И. А. Крылова состоит по преимуществу из переложений басен Эзопа и Лафонтена, которые под пером русского баснописца обрели совершенно иное национальное и эстетическое качество. Показательна история создания Жуковским знаменитой «Светланы»: эта первая в русской литературе оригинальная романтическая баллада родилась как этико-философская антитеза «Людмиле» — русифицированному переводу баллады немецкого поэта Г. А. Бюргера.
Отнюдь не чужда «подражательности» даже великая комедия А. С. Грибоедова, хотя автор ее принадлежал к «романтикам-архаистам» — пуристам в области языка, боровшимся за абсолютную национальную самобытность русской словесности. Пьеса тесно связана с западноевропейской драматургией XVII — XVIII вв., в частности с комедиями Ж.-Б.Мольера «Мизантроп», Р. Шеридана «Школа злословия» и др.50 Даже.
49 Генетические отголоски этих русифицированных переложений легко уловимы в ранних набоковских переводах «Кола Брюньона» и «Алисы в стране чудес»: «Николка Персик» и «Аня в стране чудес».
50 На очевидное сходство строк из монолога Альцеста («Мизантроп») с финальными строчками заключительного монолога Чацкого обратил внимание еще М. Булгаков в «Жизни господина де Мольера» (Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989;1990. Т.4. С.229−230. Ссылки на это издание знаменитая реплика Фамусова: «Ах, боже мой, Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?» — не что иное, как русифицированный вариант «Что скажет миссис Грандис?» из комедии Т. Мортона «Подталкивай плуг» (17 98 г.). Один из самых образованных людей своего времени, Грибоедов при написании «Горе от ума» свободно и очень активно использовал темы, сюжеты и образы современного ему европейского театра. Но русский писатель подчинил их своим, совершенно оригинальным творческим задачам и создал «вершинное» произведение национальной драматургии, настолько самобытное, что инонациональные его истоки едва различимы.
Сама история зарождения и становления русской светской литературы, а также исключительная способность нашей культуры усваивать инонациональные влияния и, трансформируя, делать «чужое» своим («всемирная отзывчивость» русского духа) — все это предполагало возникновение особого типа художественного мышления, отличительной чертой которого следует признать повышенную реминисцентную насыщенность текста.
В какой-то момент у русских писателей возникает стремление к суверенизации, желание дистанцироваться от своих великих предшественников, и прежде всего от властителя дум эпохи романтизма — от Байрона.
Нет, я не Байрон, я другой,.
Еще неведомый избранник,.
Как он, гонимый миром странник, даны в тексте). О том, что мотив клеветы в «Горе от ума» развивается по схеме, близкой к «Севильскому цирюльнику» П. Бомарше, писал Ю. Н. Тынянов (см.: Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горе от ума"// Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С.350).
Но только с русскою душой51, -гордо заявлял юный Лермонтов. А несколькими годами раньше, в 182 5 г., уже зрелый Пушкин писал А. А. Бестужеву: «Никто более меня не уважает «Дон-Жуана» ., но в нем ничего нет общего с «Онегиным» «(П.-10.104).
Замечательно, но именно в «Евгении Онегине» влияние Байрона приобрело качественно иной характер: байроническая поэзия уже не объект «подражания», а культурологиче.
52 ский знак — символ романтического типа культуры. Так возникает совершенно новый художественный прием культурологического «подсвечивания» образа героя: знаки байронизма неизменно сопутствуют герою Пушкина, но не роман «Евгений Онегин» — подражание «Дон Жуану», а главный его герой — «пародия» (П. — 5.129, 130) на байронического разочарованного скитальца.
Пушкинский «Онегин», как заметил еще Ю. Н. Тынянов, «сплошь литературен: герои и героини являются на фоне старых романов как бы пародическими тенями"53.
Прием реминисцентного «подсвечивания» литературного персонажа или всего произведения (в форме скрытой или явной цитации, аллюзии, прямой и полемической реминисценции, сюжетной и структурной парафразы) оказался весьма продуктивным для русской литературы.
Свободные вариации на «чужие» темы характерны для Пушкина (например, пародирование традиционных сюжетных.
51 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1969. Т.1. С. 231.
52 Об этом см.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957; Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.
53 Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина"// Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 66. схем в «Повестях Белкина» или оригинальное решение «фаустовской темы» — в «Сцене из Фауста» и, в виде скрытой.
5 4 парафразы, в «Медном всаднике»). Очевидная вариация шекспировского «Отелло» — драма Лермонтова «Маскарад». Лермонтовым оригинальные парафразы на темы чужих произведе.
55 нии вообще чрезвычайно любимы. Так, писатель вполне сознательно ориентирует героя своего романа на пушкинский «оригинал», когда дает ему фамилию, которая должна вызвать ассоциации с Онегиным56.
Подобные свободные вариации чаще всего строятся по принципу следования-отталкивания, когда реминисцентная ориентация на «оригинал» одновременно включает в себя и элементы полемики. Например, образ Обломова — вариация Манилова, возникнув в русле программного для писателей «натуральной школы» гоголевского влияния, не только значительно расширил национально-историческое и философское содержание этого характера, но во многом и полемически переосмыслил его.
Полемическая ориентация характерна для прозы Н. С. Лескова и Н.Г.Помяловского57, а прямой ввод в произве.
54 См.: Эйхенбаум Б. М. Болдинские побасенки Пушкина// Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С.343−347- Эпштейн М. Фауст и Петр на берегу моря// Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны. М., 1988. С.41−64.
55 См.: Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки// Эйхенбаум Б. М. О литературе. С.165−167, 207 .
56 Ср.: Белинский В. Г. «Герой нашего времени». С. 2 65.
57 Об этом см., напр.: Kostrica V. Studie z ruske klasicke literatury. Praha, 1986; Аннинский Л. А. Три еретика. М., 1988; Pospisil I. Proti proudu. Studie о дение литературных персонажей (Молчалин, Глумов, Лаврец-кий и другие) — характерная черта поэтики Салтыкова-Щедрина58 .
Прием реминисцентного «подсвечивания» — неотъемлемый элемент творческого метода Достоевского. Так почти все его герои «при всей их самобытности обязательно поставле.
59 ны в какую-то историческую или литературную перспективу" и существуют внутри сложной системы историко-культурных и литературных ориентаций.
Литература
на эту тему настолько огромна, что даже вкратце воспроизвести ее не представляется возможным. По степени напряженной интертекстуальной насыщенности его произведений Достоевский сопоставим лишь с Набоковым: здесь нет буквально ни одного образа, ни одной ситуации или сюжетной линии и хода, которые бы ни воспроизводили — в форме сознательных или бессознательных реминисценций, аллюзий, парафраз, цитаций, пастиша — мотивы и образы мировой литературы.
Пародирование известных литературных сюжетов — один из излюбленных приемов Чехова60. Например, известная басня Крылова в подтексте «Попрыгуньи» придает ироническую окраску повествованию61, а повести «Душечка» — одноименная.
N.S.Leskovovi. Brno, 1992. с О.
А.С.Бушмин назвал это «приемом оживления героя» (Бушмин A.C. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. Л., 1987. С. 57−64). См. также: Чернец Л. В. «Как слово наше отзовется .». М., 1995. С.161−177.
59 См.: Чичерин A.B. Сила поэтического слова. М., 1985. С. 137 .
60 См.: Эйхенбаум Б. М. О Чехове// Эйхенбаум Б. М. О прозе. С. 359. f. 1.
Менее очевидна другая, трагическая литературная паралпоэма И.Богдановича. Но более всего склонен писатель к пародийному снятию целой литературной традиции. Так, рассказы «Смерть чиновника» и «Толстый и тонкий» — саркастическая перелицовка всей гуманистической линии о «маленьком человеке», в частности, гоголевской традиции. Повесть «Дуэль» — трагикомическая версия одного из романтических сюжетных мотивов русской литературы.
Не столь очевиден реминисцентный подтекст пьесы «Вишневый сад». Но если приглядеться, то ироничная ориентация на комедию А. Н. Островского «Лес» — как на образец традиционной драматургии, станет очевидной. У обеих пьес аллегорическое название (в обоих случаях — из мира природы), символизирующее дворянскую Россию: но если у Островского мы видим начало разорения «дворянских гнезд», то у Чехова — финальную фазу этого процесса. Главные героини — молодящиеся дамы, тратящие на любовников все деньги (Раневская — последние) — на смену дворянству приходят деловые люди (у Островского это еще необразованный купец, у Чехова — уже цивилизованный предприниматель). Ориентируя на уровне подтекста свою пьесу на комедию А. Островского, Чехов подчеркивает тот качественный переворот, который он совершил в структурной модели современной драмы.
Перелицовка комических сюжетов в трагические и наоборот — едва ли не доминантный способ художественного мышления Чехова.
Пародия вся — в диалектической игре приемом, — писал.
Ю.Н.Тынянов. — Если пародией трагедии будет комедия, то б 2 пародиеи комедии может быть трагедия". Один из самых экстравагантных примеров перелицовки сюжета трагического лель: Дымов — Базаров. 62 Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь. С. 22 6. в комический — гоголевский «Ревизор» как пародия на «Бо.
63 риса Годунова" .
Примеры сознательных парафраз в истории русской литературы многочисленны, их ряд может быть продолжен. Одна из важнейших функций пародии в эволюционном процессе -«обнажение условности, раскрытие речевого поведения, ре.
64 чевои позы". Однако не менее, если не более значительна роль неполемической реминисцентной ориентации образов, сюжетов и ситуаций: она углубляет историко-культурный и философский подтекст произведения, усложняют его смысловую структуру.
Множественность подтекстовых связей следует признать отличительной чертой русской литературы XIX в., а это позволяет говорить о том, что интертекстуальная стратегия постмодерна зарождалось в недрах классического искусства. Уже в «Евгении Онегине», как отмечал Ю. М. Лотман, «неслыханное дотоле обилие цитат, реминисценций, намеков до.
65 предела активизируют культурную память читателя ." .
Набоков развивается в русле этой художественной традиции, когда активно использует в своих произведениях все возможные (и невозможные) варианты и формы реминисцентной ориентации художественного текста. Этот прием он назвал пародией: «когда. Федор в «Даре» упоминает о «духе пародии», радугой играющей над струей подлинной «серьезной» поэзии, он говорит о пародии как о легкомысленной, тон.
63 См.: Последний разговор с С. М. Эйзенштейном. Публикация И.В.Вайсфельда// Вопросы литературы, 1969, № 5. С. 253.
64 Тынянов Ю. Н. О пародии// Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 310.
65 Лотман Ю. М. Пушкин. Очерк творчества// Лотман Ю. М. Пушкин. С. 195. кой, пересмешливой игре, такой, как пушкинская на Державина в «Ехед1 топитеп1: ит» «(Н1. 3.604).
У истоков набоковского, «расширительного» понимания пародии — творческий опыт Пушкина (ср.: «Заметка о «Графе Нулине» «), у которого пародия обретает качественно иной, в сравнении с привычным характер: она перестает быть только средством осмеять, «унизить», а оказывается «средством познать"66.
Замечательно, однако, что «расширительное» понимание пародии родилось у Набокова в процессе работы над романом о Чернышевском. Ведь «дух пародии» царил на страницах «Повести в повести», и именно здесь принцип реминисцент-ной организации текста был теоретически осмыслен как игровой прием: «вообразите, — пишет Чернышевский, — что авторы „Перла создания“ — подражатели: один — Гоголя, другой — Жорж Занда, третий — Диккенса, четвертый — Гёте. Ну что, например, если вдруг окажется, что вся история „Белого пеньюара“ — перевод одного из величайших созданий новой европейской поэзии?» (Чр.- 12.138,139) .
В творчестве Набокова варианты пародии бесконечно многообразны. Это может быть реминисцентный код произведения, ориентирующий его на творчество другого писателя. Символично, что реминисцентный ключ к первому произведению В. Сирина, роману «Машенька», — пушкинские мотивы и образы67. Другой комплекс литературных ассоциаций — из Тургенева, вызывает фамилия главного героя, Ганин: Гагин.
Фрейлих С. Пародия как прием (О Пушкине и Эйзенштейне)// Вопросы литературы, 1991, № 5. С. 131.
67 См. комментарий О. Дарка — Н.-1.411−413- Левин Ю. Заметки о «Машеньке» В.В.Набокова// В. В. Набоков: pro et contra. С.364−374 и др.
— фамилия брата героини повести «Ася"68. И эта ориентация имеет свой смысл: герой Сирина так же не решился на любовь, отказавшись от свидания с возлюбленной, как и герой Тургенева. Набоков воспроизвел классическую ситуацию русской литературы (ср. статью Чернышевского «Русский человек на rendez-vous»), повторив ее уже в ином времени и в иных исторических обстоятельствах.
Имя героя, главного или второстепенного, часто выполняет у Набокова роль реминисцентного ключа к произведению. Так именами персонажей задана ориентация на Достоевского в «Соглядатае» и в «Приглашении на казнь», а в «Даре» имя главного героя, Годунов-Чердынцев, зачинает пушкинскую музыкальную тему, которая затем уходит в подводное течение романа. В «Камере обскура» ориентация на произведения Л. Толстого о супружеской измене («Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Дьявол») задана женскими име.
69 нами .
Совершенно новый принцип сотворения образа героя применил Набоков в повести «Отчаяние». Здесь тесно переплелись три реминисцентные доминанты: на Пушкина, Гоголя и Достоевского. Причем, в отличие от линий Пушкина и Достоевского, которые включены в кругозор героя и реализуют.
Об ориентации на тургеневский «усадебный» роман см.: Целкова Л. Н. Op. cit. С. 21. 69 См., напр.: Hyde G.M. Vladimir Nabokov: America’s Russian Novelist. London, 1977; комментарий В. Л. Шохиной к «Камере обскура"// Набоков В. В. Романы. М., 19 90. С.535−536- Букс Я. Op.cit. С.100−101- Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина// Набоков В. В. Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб., 2000. Т.З. С.30−32 и др. себя явно10, гоголевская линия присутствует как бы тайно71 — на уровне опорных «сигнальных» образов, отсылающих читателя к повестям «Нос» и «Записки сумасшедшего».
Ориентация на Гоголя задана уже в названии повести: «Отчаяние» вызывает фонетические ассоциации с известным восклицанием Поприщина — «Молчание!». Унаследован от Гоголя и образ-мотив зеркала — один из доминантных в набо-ковской повести (Н.- 3.339, 344−345, 347, 359, 370, 387, 403). У Гоголя этот образ был стержневым в «Носе"72, мелькнул в «Записках сумасшедшего» (см. Г.-3.161) и вновь появился в эпиграфе к «Ревизору» («На зеркало неча пенять, коли рожа крива»). Не случайно именно Набоков обратил внимание на особое, мистико-трансцендентное значение зеркальной символики у Гоголя (см.: Н1.-1.433). Гоголевские мотивы зачинают набоковскую повесть и завершают ее ударным аккордом: последняя дата дневниковых записей Германа, 1 апреля, — день рождения Гоголя.
Скрытое указание на неоригинальность, вторичность, -иными словами, пародийность Германа появляется уже на первой странице повести: он — левша (Н./3.333). Чуть поз.
1 0.
Цитаты и реминисценции из Пушкина разбросаны по тексту (Н.- 3.368, 369, 373, 388, 442, 457, 460), а название романа «Преступление и наказание», имена его автора и главного героя, то и дело возникают на страницах повести (Н.-3. 386,440, 449, 458) .
71 т—|.
Его имя лишь однажды, да и то в комическо-одомашненном варианте гоголь-моголя (Н.-3.349), возникло на страницах повести и, не узнанное героем, вновь ушло в подтек-стовые глубины.
72 См.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 197 7. Т.З. С. 43, 54, 57, 61, 62. Ссылки на это издание даны в тексте. же возникнет и взаимоотражающая пара «зеркало"/"олакрез» (Н.- 3.344−345). И тогда становится ясно, что фигура Германа является не чем иным, как зеркальньш отражением. Но чьим?
Связующее звено всех трех реминисцентных линий — имя героя повести, убийцы-сумасшедшего с раздваивающимся сознанием (ему всюду мерещатся двойники)73. Понятно, что оно — от Германна из «Пиковой дамы». И чтобы распутать клубок реминисценций, надо вспомнить, что в творческом воображении Достоевского образ Раскольникова возник в том числе и как вариация пушкинского Германна (отсюда парафраза из «Пиковой дамы» в четвертом сне Раскольникова: см. Комментарии к роману — Д.-7.382). Набоков возвращает читателя к первообразу своего героя — преступнику и безумцу Герман-ну, от которого позднее, разделившись, «отпочковались» персонажи Гоголя и Достоевского.
В финале все три реминисцентные линии из классической литературы вновь соединятся в завершающем контрапункте, за которым последует ёрнический выверт в духе гоголевского Поприщина и одновременно — современного публичного политика: «Может быть, все это — лжебытие, дурной сон, и я сейчас проснусь где-нибудь — на травке под Прагой. Хорошо, по крайней мере, что затравили так скоро.
Я опять отвел занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как.
73 Реминисцентные линии Гоголя и Достоевского здесь переплелись, так как тему «Двойника» Достоевский, по мнению Набокова, унаследовал от Гоголя: «» Двойник" Достоевского — лучшее из его сочинений, хоть оно и представляет собой бессовестное подражание Гоголевскому «Носу» «(Н1.-3.612). дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь» (Н.- 3.4 62) .
Ключевое слово «молчание» (как и дата 1 апреля) обнажает ориентацию на Гоголя. Не столь явны реминисцентные истоки самой мизансцены. Разоблаченный преступник, а под ним внизу — затаившаяся в ожидании толпа. Если присмотреться, станет ясно: это обернувшийся реальным лжебытием пророческий сон двух литературных злодеев — Самозванца и Раскольникова.
Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей, двери на лестнице отворены настежь, и на площадке, на лестнице и туда вниз — всё люди, голова с головой, все смотрят, — но все притаились и ждут, молчат. Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли ." (Д.- 6.213), так повторится у Достоевского, в преображенном виде, пророческий сон пушкинского Самозванца.
Мне снилося, что лестница крутая Меня вела на башнюс высоты Мне виделась Москва, что муравейникВнизу народ на площади кипел И на меня указывал со смехом, И стыдно мне и страшно становилосьИ, падая стремглав, я пробуждался (П.-5.201), -с этими словами появлялся в трагедии Пушкина Григорий Отрепьев .
Так линии Пушкина, Гоголя и Достоевского, сложно и прихотливо сплетаясь, организуют внутреннюю композицию «Отчаяния».
Реминисцентные сигналы, тем более подаваемые столь последовательно, случайными быть не могут. В чем их смысл ?
Ключевое значение для понимания набоковской повести имеет скрытая в подтексте цитата из «Моцарта и Сальери»: «Гений и злодейство — две вещи несовместные» (П.-5.314). Эта этическая аксиома, прозвучавшая сперва как предостережение, но вовремя Сальери не услышанная74, в финале, когда злодеяние уже совершилось, настигает его. Теперь пушкинский Сальери обречен на вечную муку сомнения в своей гениальности: «. Но ужель он прав, // И я не гений?» (П.-5.315).
Этическая аксиома Пушкина — точка соединения темы преступления и творчества в повести «Отчаяние». Набоков-ский герой не гений отнюдь не потому, что допустил промах и оставил на месте преступления улику, а потому, что он убийца. Завершающим аккордом звучит трагикомическая парафраза на тему Сальери: «Я стоял над прахом дивного своего произведения, и мерзкий голос вопил в ухо, что меня не признавшая чернь может быть и права. Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, — и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением .» (Н.- 3.4 57) .
Вообще приходится лишь удивляться тому, как могли критики и среди них один из самых тонких и чуткихВ. Ходасевич, не почувствовать набоковского сарказма и всерьез анализировать трагедию Германа-художника75. Доста.
74 Тогда Сальери ее отверг и с кощунственной дерзостью опроверг: «(Бросает яд в стакан Моцарта)» (П.-5.314) .
75 См.: Ходасевич В. О Сирине// В. В. Набоков: pro et contra. С. 249. См. также: «Таким образом, проблематика романа — порядка вовсе не философского, не морального, а чисто художественного. Драма Германа — драма художни-ЬСЭ. f cL Н S убийцы» (Ходасевич В. «Современные записки», книга 56// Классик без ретуши. С.120). точно напомнить одну, убийственную в глазах Набокова-художника деталь: его герой не замечает различий между предметами. В то время как для истинного художника «всякое лицо — уникум» (Н.-3.357), ибо он «видит именно разницу», а «сходство видит профан» (Н.-3.357), — Герман не замечает даже собственной неповторимой индивидуальности. Первый встречный бродяга, на его взгляд, как две капли воды похож на него — только ногти подстричь да пиджак переменить .
Герман находится на низшей, в системе ценностей Набокова, ступени развития. Это самовлюбленный мещанин и амбициозный графоман, существо крайне примитивное, склонное к философским разглагольствованиям в марксистском духе76. И потому, наверное, благожелательный отклик на свое сочинение предполагал найти в СССР (см.: Н.-3.428). А «гениальная» способность, которой чрезвычайно гордится герой, — писать разными почерками и литературными стилями (за неимением ни одного своего) есть не что иное, как знак распада его сознания. Вместе все это дает малосимпатичный комплекс графомана-маньяка.
В решении темы безумия — одной из кардинальных экзистенциально-философских проблем человеческого духа77, Набоков явно наследует и Пушкину, и Гоголю, и Достоевскому. Но Гоголю прежде всего.
В «Истреблении тиранов» писатель назвал марксистскую идеологию «шелухой от истины», вычитанной «у каких-то площадных софистов» (Н.-4.387).
Оригинальное исследование феномена безумия в русской литературе XIX — XX вв. принадлежит чешскому ученому И. Поспишилу: Pospisil I. Fenomen silenstvi v ruske literature 19. a 20. stoleti. Brno, 1995.
Эпиграфом к своей книге «Николай Гоголь» Набоков предпослал монолог несчастного Поприщина: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мноюзвездочка мелькает вдалилес несется с темными деревьями и месяцемсизый туман стелется под ногамиструна звенит в туманес одной стороны море, с другой Италиявон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?» (Г.-3.17 6) .
Для Набокова здесь сфокусировано главное о Гоголе, о его творчестве и о его героях. В трагически нерасчленимый узел сплелись клиническое помешательство — смешение мыслей у мелкого чиновника, просто не перенесшего своих неудач, — и мистические прозрения духа человеческого, прорвавшегося, в высшем перенапряжении земных возможностей, в инобытие и открывающем нам некую запредельную тайну. Гоголь, писал В. Розанов, «имеет тайную силу вдруг заснуть и увидеть то, чего вовсе не содержится в действительности, увидеть правдоподобно, ярко ,."78. Произошло «внезапное смещение рациональной жизненной плоскости» (Н1.-1. 503), и читатель прозревает, сквозь бред скорбного духом Поприщина, трансцендентные пейзажи иных миров и высшую истину: что человек беззащитен и несчастен, а мир жесток и что все мы вернемся к родимой матушке, домой, на «небеса обетованные».
Таков высший срез безумия у Гоголя.
Но в «Записках сумасшедшего» не менее важен и срез комический, обличительный. Гоголь безошибочно точно назвал нравственную первопричину помешательства Поприщина: неудовлетворенное самомнение и амбиции «маленького человека», питающиеся соками грандиозного презрения к окружающим мужикам (в число которых попадает не только плебс — купцы, бабы, и пр., но и свой брат чиновник-дворянин).
Презрение ко всему и вся — центральный мотив в гоголевской повести (Г.-3.161,162,163−164,173), перешел по наследству к герою «Отчаяния». И подобно Поприщину, который огромный разрыв между реальной данностью своей жизни и претензиями амбиции мог скомпенсировать, лишь совершив в безумном воображении фантастический скачок со стула титулярного советника на трон испанского короля, — Герман также пытался, преодолев «земное притяжение» своей бездарности, взлететь в ранг гения. Оба потерпели фиаско и остались запертыми: один в сумасшедшем доме, где по его душу явился доктор в образе «канцлера» — «великого инквизитора», другой — в номере провинциальной гостиницы, а пришел за ним «опереточный» жандарм.
Однако, в отличие от несчастного Поприщина, у которо.
8 Розанов В. М.Ю.Лермонтов// Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 265. го мешанина из клочков и обрывков его примитивных, невежественных взглядов перемежалась все же и с прозрениями истины, гуманистической и мистической, — у Германа никаких намеков на высшее безумие нет, ибо иного измерения бытия, кроме грубо материального, он не знает и не признает. «Небытие Божие доказывается просто» (Н.-3.393), -убежден герой «Отчаяния».
В этом существенная разница между гоголевским и набо-ковским безумцами. Помешательство Германа, лишенное даже малейших признаков трансцендентности, — это лишь неотвратимое клиническое следствие интеллектуальной, нравственной и духовной деградации этой личности.
Не случайно мотивы сумасшествия и преступления в повести «Отчаяние» соединились. Здесь поставлен тот же, унаследованный от Пушкина вопрос, который был сформулирован Достоевским в «Преступлении и наказании»: «болезнь ли порождает. преступление или само преступление. всегда сопровождается чем-то вроде болезни?» (Д.-6.59). Набоков отвечает на него, по существу, так же, как в свое время Достоевский: преступление есть нравственная болезнь, а потому психическое расстройство — неизменный его спутник. Подобно Раскольникову, Герман пытается спланировать во всех деталях и «идеально чисто» исполнить задуманное, но оставляет на месте преступления важнейшую улику — палку с именем убитого («Ведь все было построено именно на невозможности промаха, а теперь оказывается, промах был, да еще какой, — самый пошлый, смешной и грубый», — Н.-3. 457). У него наблюдается аберрация восприятия и памяти, а в сцене убийства, как и у Раскольникова, — распад сознания .
Помимо прочих (получение страховки и удовлетворение «авторских» амбиций), злодейство Германа преследовало и цели экзистенциально-мистические. Убийство своего двойника (как оказалось, мнимого) было не чем иным, как попыткой героя бежать от самого себя. Отсюда — неожиданная в его устах, но упрямо повторяемая цитата из Пушкина: «а есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб. замыслил я побег. давно завидная мечтается .» (Н.-3.369). Побег куда? Очевидно, в своего двойника. «Гениальный» замысел Германа состоял в том, чтобы подбросить полицейским убитого Феликса в качестве своего трупа. Мелькает «пробный» сюжет о том, как Феликс убил Германа. Наконец, игривые мечтания о кинематографическом дублере, который бы заменял актера, когда тот вынужден «отлучиться» из художественной реальности фильма, — все это внушает читателю мысль об аллегорическом самоубийстве.
Однако такое самоубийство предполагает переход в инобытие, а Герман — убежденный материалист. Герой «Отчаяния» находится на столь низкой, грубо материальной ступени развития, что не в состоянии даже в воображении своем предположить возможность бытия в ином, духовном измерении. И от «входного билета» туда, подобно героям Достоевского — Самоубийце из «Приговора» и Ивану Карамазову, -заранее отказался79.
Побег «в зазеркалье» невозможен для Германа еще и потому, что, как показал Набоков, ничто не может освободить человека (даже если он лишен нравственного чувства и не способен ощутить свою вину) от ответственности за содеянное. Совершенный грех возвращает героя на «землю» — в.
79 «Философские медитации» Германа (Н.-3.391−392,394), в карикатурно-пародийном варианте, повторяют трагические раздумья Самоубийцы из «Приговора» (Д.- 23.14 6−148). ад материальной предопределенности, где он должен понести наказание за свое преступление. —.
Очевидно, личность именно с такими, как у Германа, нравственно-психическими данными склонна бежать от себя. Но бежать ей некуда, ибо бессмертия для нее не существует. Каждому дано будет по вере его. Как предрек Свидри-гайлов, «будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (Д.-6.221). Убив другого человека, герой «Отчаяния» действительно убил себя (как Раскольников) и навеки остался в небытии (паспорт отобрали), так как выход в инобытие он закрыл для себя сам. Мистический страх, который испытывал Герман при виде своего отражения в зеркале, пророчески предсказывал, что побег от себя невозможен и инобытие вытолкнет его, навсегда заперев в тюрьме материального мира. «Зеркала, слава Богу, в комнате нет, как нет и Бога, которого славлю. Все темно, все страшно .» (Н.-3.461) .
Иррациональное «затемнение» этой фразы («как нет и Бога, которого славлю») — свидетельство того, что в глубине даже самого примитивного создания живет тайное знание о бытии Божием. Это знание о своей загробной судьбе более явно, хотя тоже на уровне подсознания, сказалось в замечательной шараде Германа: «Отгадай: мое первое значит «жарко» по-французски. На мое второе сажают турка, мое третье — место, куда мы рано или поздно попадем. А целое.
— то, что меня разоряет" (Н.-3.362). Разгадка: «шо — кол.
— ад". Ассоциативный ряд, надо признать, мрачноватый.
Отчаяние — вот удел атеиста, преступника, бездарного графомана, одним словом, антигероя. Таков нравственно-философский итог набоковской повести.
И тогда становится понятно, почему все аллюзии с автором «Преступления и наказания» здесь подчеркнуто саркастичны и даже карикатурны. «Если Набоков только пародировал Достоевского, то герой. топчет его ногами"80. Агрессивно-презрительное отношение к Достоевскому включено Набоковым в кругозор антигероя. Герой «Отчаяния» топает ногами не на одного только творца «Преступления и наказания», но буквально на все: на Бога и на бессмертие, на женщину, с которой живет, и вообще на всех окружающих. Единственно, что ему мило, это марксистская классовая теория. И тогда возникает вопрос: кто здесь кого отрицает? Герман — Достоевского, или. ? Не потому ли «Преступление и наказание» столь ненавистно герою, что это еще одно зеркало, поставленное перед ним автором? И зеркало явно обличает.
Если художественный мир Пушкина, к которому герой благожелателен, нравственно выталкивал его, то мир Достоевского отрицает его. Не замечаемый Германом гоголевский мир отражает его истинный, карикатурно-уродливый образ, обличая абсолютную духовную нищету этого безумца и высвечивая нравственную первопричину распада этой личностималообоснованное чувство превосходства над людьми.
И все три зеркала загоняют героя «Отчаяния» в угол.
В повести «Отчаяние» Набоков с гениальной последовательностью и органичностью применил совершенно новый принцип создания образа героя: автор окружает своего персонажа системой реминисцентных зеркал, каждое из которых высвечивает то, что созвучно творческому миросозерцанию того или иного великого писателя. Сам Набоков выступает в роли дирижера, управляющего полифонической симфонией реминисцентных отражений, складывающихся наконец в целост.
80 Носик Б. Ор. сл^. С. 285. ный образ героя своего времени — пошлого среднеевропейского обывателя, обуреваемого манией величия и жаждой публичной славы.
В романе «Ада» густая сеть скрытых и явных аллюзий и парафраз из произведений русских писателей XIX в. — Пушкина (Н1. 4.20−22, 42, 110, 155, 167, 238, 251−2 52, 308, 437), Лермонтова (Н1.-4.2 б, 167, 176, 236, 255, 317, 421−425), Тургенева (Н1. 4.50, 105), Достоевского (Н1.-4.4 б, 235−236, 346), Л. Толстого (Н1. — 4.13, 34, 35, 38, 66, 165, 167, 231, 291, 314), Чехова (Н1. — 4.87, 113, 114−115, 227, 188, 286, 414−416, 439, 495) и др. , — подобно системе капилляров, пронизывает художественную ткань романа. Однако полигенетичность81 текста, помимо очевидной функции гротескового пародирования и «снятия» литературной традиции классического романа, обрела здесь и принципиально новое качество.
Реальность для Набокова «всегда была и навеки останется формой памяти, даже в самый миг восприятия» (Н1. 4.213). Отсюда принцип нерасчленимого триединства реальности — воображения — памяти в акте творчества (Н1.-4.42, 108,111−112, 126,182,195,210,243,244,245,259) 82. Воображение — это форма памяти, — сказал писатель. —. Воображение зависит от ассоциативной силы, а ассоциации питаются и подсказываются памятью. Когда мы говорим о живом личном воспоминании, мы отпускаем комплимент не нашей способности запомнить что-либо, но загадочной предусмотрительности Мнемозины, запасшей для нас впрок тот или иной элемент, который может понадобиться творческому воображению,.
81 Ср.: Тамми П. Заметки о полигенетичности в прозе Набокова// В. В. Набоков: pro et contra. С.514−528.
82 Ср.: Pechai Z. Описание мира романа Владимира Набокова// Rossica Olomucensia XXXI. Olomouc 1993. S.25−36. чтобы скомбинировать его с позднейшими воспоминаниями и выдумками" (Н1.-3.605−606).
Критики сразу обратили внимание на то, что в сочинениях В. Сирина воспоминание играет первенствующую роль. М. Кантор полагал, что сосредоточенность на воспоминаниях неизбежно ограничивает перспективы молодого писателя: когда потенциал прошлого будет исчерпан, наступит творческий кризис. Единственная возможность преодолеть кризиссбросить «бремя памяти», выйдя за пределы воспоминании. Главная ошибка М. Кантора, как и других критиков, заключалась в том, что категорию памяти они рассматривали в традиционных рамках реалистического искусства, понимая ее как воспоминание о бывшем на самом деле. Потенциал таких воспоминаний у каждого человека действительно ограничен. Но в мире Набокова память неисчерпаема, ибо она — креативная память. «Присяга на верность Мнемозине означает для Набокова, — как справедливо указывает М. Шульман, готовность к творческому акту, а не консервацию, — воспоминание и вымысел действуют по одному закону, их неожиданно объединяющему, — закону творчества"84. В мире Набокова Мнемозина — доминанта сочинительства, то есть процесса сотворения новой реальности художественного мира. Как говорит в «Даре» о своем будущем романе писатель Федор: «Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и тогда напишу» (Н.-3.174).
Статус творческой доминанты «страстная энергия памяти» (Н.-4.171) обрела, начиная с романа «Другие берега»,.
83 Кантор М. Бремя памяти (о Сирине)// В. В. Набоков: pro et contra. С.234−237.
84 Шульман M. Op. cit. С. 34. сформировав одновременно и литературный хронотоп романа автобиографического типа (ср.: «Память, говори!»).
Так «ключом к воссозданию прошлого оказывается ключ о сискусства». А в творческом процессе, по признанию самого Набокова, «память играет центральную, хотя и бессознательную роль и все держится на идеальном слиянии прошлого и настоящего. Вдохновение гения добавляет третий ингредиент: во внезапной вспышке сходятся не только прошлое и настоящее, но и будущее — ваша книга, то есть воспринимается весь круг времени целиком — иначе говоря, времени больше нет"86.
В «Аде» симбиоз реальности — воображения — памяти сформировал всеобъемлющую метафору организованного сна (HI.- 4. 45, 80, 97, 113, 120, 122, 203, 345−351, 432). Концепция организованного сна, полемически ориентированная на учение З. Фрейда (сам Набоков в Интервью журналу «Time» назвал лекцию Вана антивенской — HI.-4.594), возникла у писателя под влиянием «онирической» сюрреалистической прозы87, а также различных физико-психологических теорий XX в. (см. Комментарий С. Ильина и А. Люксембурга — HI.-4. 650) .
Имеет она, однако, генетические связи и с русской ли.
85 Набоков В. В. Марсель Пруст// Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 211.
86 Набоков В. В. Искусство литературы и здравый смысл// Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. С. 474.
87 Ср.: Джорджио де Кирико. СонАрто А. Манифест, написанный ясным языкомАрто А. Письмо главным врачам лечебниц для душевнобольныхЭрнст М. Видения полусна// Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М., 1994. С.135−136,140−141, 151−152,182−183 и др. тературой XIX в.
Так, в своей лекции «Что есть сон? .» (Н1. 4 .34 5−351) Ван Вин разрабатывает, дополняя ее категорией памяти, концепцию Достоевского, высказанную в его известных размышлениях о художественных снах: «В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека» (Д.-б.45−46) 88. Сновидец здесь приравнивается к великим художникам, а вся картина, увиденная во сне, — к произведению искусства.
Вообще набоковская концепция сновидческой реальности из всех писателей XIX в. ближе всего именно Достоевскому, творческому воображению которого свойственны подобные метаморфозы, когда реальность действительная естественным и «натуральным» образом преображается в литературную и на.
8 8.
См. также: «. в снах, и особенно в кошмарах,. иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что. Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди .» (Д.- 15.74). оборот.
Ориентация на Достоевского, построенная по принципу следования-отталкивания, задана мелькнувшей на страницах романа почти дословной цитатой из «Дневника писателя»: «факту ни за что не сравняться с фантазией» (Н1. 4. 127) 89. Эта «сигнальная» аллюзия с эстетикой Достоевского полемична и подчеркнуто саркастична, ибо для Набокова высшая форма бытия — как раз сотворенная воображением и памятью писателя реальность художественного произведения.
В этом смысле Набокову, бесспорно, ближе пушкинская концепция творческого сна:
И забываю мир — и в сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем,.
89 Ср.: «Для меня, напротив: что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких возможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей. Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазии. что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, — никогда вы не сравнитесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили — всё выйдет слабее, чем в действительности.. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей взгляд и кто в силах? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника» (Д.- 22.91, 23 .144) .
И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться наконец свободным проявленьемИ тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей (П.-3.248) .
В «Аде» высшая реальность сотворенной действительности окончательно заступила место реальности в кавычках, «бывших ей вместо когтей», которыми она вынуждена «цепляться за вещественность» (Н1.-4.212), чтобы продолжить свое существование.
Отнюдь не жизнь действительная, а высшая реальность бытия индивидуального сознания предоставляет художнику.
90 ^ ^ материал для творчества. Единственно достойный предмет искусства — жизнь воображения, понимаемого как форма памяти, вобравшей в себя весь культурный опыт человека, а значит, не только его личные воспоминания, но и память о том необъятном мире художественного вымысла, который предоставляет ему искусство.
Единственно истинна в «Аде» реальность художественного текста, пронизанного реминисценциями («воспоминаниями») из мировой литературы: даже виноград здесь пушкинский (Н1.-4.243), а Люсетта пользуется платком, искомканным «в столь многих старинных романах» (Н1. 4.355) .
Слава Логу" (Н1.-4.42,50), — эта ключевая фраза ориентирует роман на известный евангельский текст: «В начале было Слово, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез него начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была.
90 Ср.: Декларация 27 января 1925 года// Антология французского сюрреализма. С. 137, 138- Boyd В. Nabokov’s Ada: The Place of Consciousness. свет человеков" (Ин.1.1−4).
Зачатки этого эстетического принципа — в поэтике Достоевского. «Слово бытийствует"91 в его романах: многократно повторяясь и вариируясь в своих многочисленных и разнообразных образно-понятийных и ассоциативных связях, оно рождает «ударный» образ, который существует как понятие, тема и мотив, а также на уровне образа персонажа. Именно бытие многозначного и многомерного слова-образа организует сложную сюжетно-композиционную модель романов Достоевского, их лексико-стилистическую плоть, в которой автор и воплощает свою религиозно-философскую и нравственную по.
92 зицию .
Но если эстетика Достоевского была положительно ориентирована на евангельскую концепцию Божественного, животворного и созидающего Логоса, то Набоков скорее отталкивается от нее. Он творит свой эстетический аналог христианской концепции Логоса. А усеченная форма (Лог вместо Логос) подчеркивает не только нераздельность Бога и Слова, но, что для автора романа гораздо важнее, — суверенную самодостаточность его Лога по отношению к Логосу религиозному. Стихия художественного, а не христианского Слова царит в мире Набокова. Отсюда и кощунственно пародийные вариации на библейские темы (Ардис — Эдем, Ван и Ада — Адам и Ева, Неопалимый Овин — Неопалимая Купина и ДР.) .
Ермилова Г. Г. Восстановление падшего слова, или о фило-логичности романа «Идиот"// Ф. М. Достоевский и мировая культура. М., 1999. С. 79.
92 ^.
Об этом см.: Злочевская A.B. «Монологизирующие центры» романов Ф.М.Достоевского// Ф. М. Достоевский и мировая культура. М., 2002.
Создатель романа — Бог этого мира, наделен волшебной способностью «творить жизнь из ничего» (Н1.-1.4 98). Точнее, из самой плоти языка: «Перед нами поразительное явление: словесные обороты создают живых людей» (Н1.-1. 459) 93. А читателю дарована исключительная привилегия присутствовать при самом акте зачатия (см.: Н1.-4.14−60,77- 67, 83−85) .
Поэтику «Ады» организует принцип (намеченный еще в «Лолите»), когда метафоры оживают: «постепенно и плавно. образуют рассказ. затем. вновь лишаются красок» (Н1. 4.593) 94. Метаморфозы здесь возможны весьма изощренные. Так эквилибристические упражнения Вана, с которыми он выступает перед домашней публикой Ардиса, а затем гастролирует по фантастическим меж (=вне)национальным территориям, — не что иное, как «живая картина», представляющая метафору «поставить. с ног на голову» (Н1.-4.180). А та реализует себя и в состоящей из двух «половинок» глобальной модели мироздания Терра — Антитерра, где фантастическая Терра — кривое зеркало нашей корявой земли (Н1.-4.28), и в столь любимом Набоковым и его героем искусстве словесного цирка, где артистами выступают «слова-акробаты» и «фокусы-покусы» (Н1.-4.213). И когда повествователь говорит, что «на сцене Ван производил фигурально то, что в позднейший период жизни производили фигуры его речи,.
9 3.
Набоков отмечает «характерный диккенсовский прием: словесная игра, заставляющая неодушевленные слова не только жить, но и проделывать фокусы, обнажая свой непосредственный смысл» (Набоков В. В. Чарлз Диккенс// Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. С.111). 94 Ср.: Лейрис М. Метафора// Антология французского сюрреализма. С. 343. акробатические чудеса, никем не жданные и пугающие малых детей" (Н1.-4.180−181), — это, конечно же, не столько о Ван Вине, сколько о самом В. В. (на этой странице Ван Вин и назван инициалами).
Следующая фаза сотворения художественного мира — когда цепочки слов, прихотливо сплетаясь с литературными реминисценциями, дают импульс зарождению сюжетов. Из фонетических ассоциаций возникла и история инцеста (см.: Н1.-4.594), хотя говорит об этом Набоков не без доли эстетского кокетства.
Однако цепочка слов: insect — scient — nicest — incest (насекомое — ученый — милейший — инцест), родившись из игры в английские анаграммы (Н1.-4.88,258,381), — и в самом деле оказалась сюжетообразующей. Экспозиция: милейшая героиня романа — юный ученый-натуралист, поглощена своими насекомыми, а в Ардисе ожидается ежегодное нашествие особых, билингвистических «кровососов» — камаргинско-го комара — Moustiques moskovites (Hl.-4.7 6). Затем лексический ряд insect1а вплетается в тему incest1а: одно из первых острых эротических переживаний Вана — от близости с девочкой, склонившейся над диковинным рисунком, в котором цветок «Венерино зеркало» неуловимым образом преображается в бабочку, а затем скарабея (этот образный ряд вновь воскреснет — как знак нового витка эротического напряжения, уже между Ваном и Люсеттой), а нарастание сладострастия — с мотивом зуда от укусов реминисцирующих «шатобриановых комаров». Кульминация наступает спустя несколько дней после игры в анаграммы, когда реализует себя ключевая пара слов insect — incest: «в последних числах июля в этих местах с дьявольским постоянством появлялись самки шатобриановых комаров» (Н1.-4.105). И наконец в «Ночь Неопалимого Овина» свершился инцест. Так аллюзия с романами Шатобриана — одна из доминантных в «Аде», вплетается в образно-лексический комплекс инцеста.
Анаграмма insect — incest вызывает и другой ряд литературных ассоциаций — с Достоевским. Ряд «ударных слов"95 безобразие — сладострастие — насекомое {таракан, клоп, тарантул, фаланга) организует центральный образно-семантический комплекс романа «Братья Карамазовы». А мотив о самке насекомого, поедающей своего самца (см.: HI.-4.133−134), восходит к эссе Достоевского о царице Клеопатре: «в прекрасном теле ее кроется мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Всё это похоже на отвратительный сон» (Д.-19.13 6- выделено А.З.). Однако то, что для Достоевского было сном отвратительным, в «Аде» оказывается своего рода сном-оборотнем, попеременно фосфорицирующем то дьявольским, то ангельским светом. Образ набоковской героини по отношению к Достоевскому полемичен, ибо осуждение порока в духе христианской морали Набокову чуждо.
Ему ближе понимание страсти, воплощенное в романе «Братья Карамазовы». Отсюда — скрытая на уровне подтекста связь общей ситуации «Ады» со строками из «Оды к радости» Шиллера, которые декламировал Дмитрий Карамазов: У груди благой природы Всё, что дышит, радость пьетВсе созданья, все народы За собой она влечет;
95 См.: Чичерин A.B. Идеи и стиль. М., 1965. С.179- Осмоловский О. Н. Из наблюдений над символической типизацией в романе «Преступление и наказание"// Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. JI., Т.7, 1987. С.81−90.
Нам друзей дала в несчастье, Гроздий сок, венки харит, Насекомым — сладострастье. Ангел — Богу предстоит (Д.-14.99).
Герои романа Достоевского живут в фокусе сверхвысокого напряжения магнитных силовых линий, возникающего между полюсами мирового Добра и Зла: «Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (Д.-14.100). Но главная и самая страшная в своей изначальной амбивалентности тайна — это красота, ибо в сердце человека идеал содомский с идеалом Мадонны нераздельны. «Красота — это страшная и ужасная вещь !. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей» (Д.-14. 100) .
Набоков, по существу, наследует это понимание красоты и чувственной любви: образ Ады, подсвечиваемый попеременно то демоническим, то ангельским светом, существует в точке сопряжения идеала содомского и идеала Мадонны, а ее опаляющая красота — это «красота сама по себе, воспринимаемая здесь и сейчас» (Н1.-4.75). Свою концепцию красоты и страсти Набоков воплотил в композиционной модели, построенной на сплетении образно-ассоциативных линий: Адаscient — insect — incest (HI.-4.88), ada — ardor (Hl.-4. 47), ada — ardors — arbors (HI.-4.77), ardor — Ардис.
9 6.
Парадиз, ада — «из ада» (HI.-4.39). Имя героини — в точке пересечения доминантных образно-лингвистических линий романа и в центре оси, соединяющей полюса мироздания — Ад.
9 б.
Ардис — это не только «стрекало стрелы» (Н1.-4.217), но и неточная анаграмма Парадиза. и Рай. Фантасмагорический мир «за пределом счастья» (Н1. 2.206), где блаженство неотделимо от ужаса, а рай от ада, — мир нимфолепсии, уже был изображен в «Лолите», с которой «Ада» генетически связана.
На новый виток спирали поднялась в «Аде» концепция творчества. «Существует некая точка духа, — писал А. Бре-тон, — в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, передаваемое и непередаваемое, высокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия. И напрасно было бы искать для сюрреалистической деятельности иной побудительный мотив, помимо надежды определить нако.
97 «^ нец такую точку». В «Аде» такой точкой стала «новая нагая реальность», которая открывается героям через «язвящие наслаждения, огонь, агонию» страсти (Н1.-4.212) и поднимает «животный акт на уровень даже высший, нежели уровень точнейшего из искусств или неистовейшего из безумств чистой науки» (Н1.-4.212), — питается соками художественной реальности, но и требует запечатления в ней, ибо сама по себе хотя и «допускала воспроизведение», но «существовала лишь миг» (Н1.-4.212). И если раньше в мире Набокова высшее наслаждение давало вдохновение сборного, музыкально-математически-поэтического типа (Н.-4.289), то теперь к этому триединству, в духе уже постструктурали-стической концепции «эротического текстуального», подключилась стихия чувственности (ср. работы Р. Барта «Удовольствие от текста, «Фрагменты любовного дискурса» и др.).
Сексуальное и творческое начала слились в одно нераздельное целое. «Оргазм искусства, — как будет сказано в романе «Прозрачные вещи», — сквозит по спинному хребту с.
9 7.
Бретон А. Второй манифест сюрреализма// Антология французского сюрреализма. С. 290. несравненно большею мощью, чем любовный восторг или метафизический ужас" (Н1.-5.95). Не случайно и любимые занятия героев «Ады», наряду с любовными (но и они не лишены филологического привкуса), — лингвистические игры и чтение. Или, что лучше, жизнь в произведении, когда герои словно проживают изнутри различные ситуации из мировой литературы, — скажем, столь частые у «русских романистов» сюжетные мотивы игры и дуэли (Н1.-4.168−174,294−302). Сама история любви Ады и Вана, прокомментированная многочисленными научными трудами по энтомологии и энциклопедическими словарями, «подсвеченная» роскошным эстетическим фоном (см.: Н1.-4.135,138−139), не просто вариирует один из древнейших эротических сюжетов мирового искусства — она на наших глазах рождается из художественных текстов (Библия, «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Езда в остров любви» В. Тредиаковского, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Рене» и «Атала» Шатобриана, «Манон Леско» Прево, «Сильна как смерть» Мопассана и многие другие). «Библиотека предоставила декорации для незабываемой сцены Неопалимого Овинаона распахнула перед детьми свои застекленные двериона сулила им долгую идиллию книгопоклонстваона могла бы составить главу в одном из хранящихся на ее полках старых романовоттенок пародии сообщил этой теме присущую жизни комедийную легкость» (Н1.-4.136). Но движение художественной реальности на этом не прервалось: история любви Ады и Вина проросла в памяти людей и сама стала легендой (Н1. — 4.395−396) .
Поэтика «Ады» реализует главный тезис эстетики Набокова: «всякая великая литература — это феномен языка, а не идей» (Н1.-1.511). Язык оказывается связующим звеном между сюрреалистическим типом художественного мышления и эстетикой постмодерна, «каналом, соединяющим оба источника воображаемого"98. Автоматическое письмо как способ высвобождения стихии подсознательного трансформируется в интертекстуальность как форму бытия культурного самосознания личности. Главная героиня романа, как отмечают современные комментаторы, — «триединая русско-английская-французская культурная традиция, какой мы, конечно же, не обнаружим в нашей земной реальности, но какая сложилась в трехъязычном внутреннем мире Набокова, ощущавшего себя ее выразителем и носителем» (Н1.-4.615).
Творчество Набокова всегда было обращено к читателю-полиглоту, что принято считать экстравагантной, на грани эпатажа чертой его текстов. С годами набоковский «языковой коктейль» становился все насыщеннее, обретя наконец в «Аде» качество одной из доминантных характеристик поэтики. Собственно, Ардис — это и есть Парадиз полилингвистического мышления.
Читатели, беспрекословно приняв условия игры (благо, она и в самом деле увлекательна), самозабвенно ломают головы над разгадыванием мультиязычных набоковских ребусов, шарад и «крестословиц», порой лишь сетуя на ограниченность своих лингвистических познаний. Если же на минуту от этого занятия отвлечься, то стоит, по-видимому, задаться простым вопросом: а почему, собственно, художественный мир Набокова предполагает наличие такого vis-a-vis — полиглота?
Не будем забывать, что читатель у Набокова всегдаalter ego автора. Предполагается, что и он, как Набоков, мог бы сказать о себе: «Моя голова говорит по-английски, сердце — по-русски, а ухо предпочитает французский» (HI.;
98 Исаев С. Предисловие// Антология французского сюрреализма. С. 11.
2.587). Перед нами мультиязычная «эхокамера» художественного сна автора, в которую он своим избранным читателям предлагает заглянуть.
Однако полилогизм художественного мышления, как и множественность реминисцентных ориентаций, отнюдь не исключительная прерогатива эстетики Набокова — генезис его восходит к русской классической литературе. Произведения русских писателей пестрят иностранными словечками и фразами. Даже герой «Очарованного странника» Лескова — про.
99 стой русскии человек Флягин, называл себя конэсером (connaisseur {франц.) — знаток). Не редкость в наших романах XIX в. и целые фрагменты иностранного текста, чаще всего французского, как, например, в «Войне и мире» (отсюда, наверное, франкоязычные афоризмы из произведений Л. Толстого на страницах «Ады» — Н1. 4.165, 223) .
Смешение языков" на сценической площадке большинства набоковских произведений — факт общеизвестный. Но стихия многоязычия царила и на страницах пушкинского «Онегина». Причем варваризмы здесь не объект осмеяния (как, скажем, в «Бригадире» Д. И. Фонвизина или «Горе от ума» Грибоедова) — в «Евгении Онегине» свершилось осознание того, что тип культуры русского дворянства представляет собой не монокультуру и не механическое «смешение» различных инонациональных влияний, а нерасчленимый симбиоз поликультуры100. Полилогизм — отличительная черта русского просвещенного сознания, и именно в многоязычии — специфика русского типа культуры. И вот парадоксальнейшее тому подтверждение: Татьяна, «русская душою» (П.-5.87) и «апофеоза русской женщины» (Д.-26.140), была воспитана исключительно на.
99 Лесков Н. С. Собр. соч.: В б т. М., 1973. Т.З. С. 9.
100 См.: Гуковский Г. А. Ор. cit. французских и английских романах. Более того: «Она по-русски плохо знала. И выражалася с трудом на языке своем родном» (П.-5.58).
На страницах «Евгения Онегина» впервые возникли полилогические каламбуры и реминисценции — совершенно в духе игровой поэтики Набокова. Так эпиграф ко 2-й главестрочка из Горация: «О rus!» (по-латыни — деревня), которая переведена как: «О Русь!» (П.-5.31). Но перед нами не просто каламбур101 — за ним и пушкинская ирония (Россиябольшая деревня), и серьезная мысль культуролога: духовные истоки русского человека — в деревне.
На обыгрывании ассоциативного каламбура «умы в тумане» — «туманный Альбион», построено и пушкинское определение генезиса романтизма и его нравственно-эстетической природы (см.: П.-5.52−53).
Знаменитый труд Набокова — его Комментарий к «Евгению Онегину», позволяет воочию убедиться, как из сложнейшего сплетения реминисцентных мотивов и образов мировой литературы, а также многочисленных, всепроникающих иноязычных влияний рождается у Пушкина высший синтез русского романа. «Сочинение Пушкина, — писал Набоков, — это прежде всего явление стиля, и с высоты именно этого цветущего края я окидываю взором описанные в нем просторы деревенской Аркадии, знаменитую переливчатость заимствованных ручьев, мельчайшие рои снежинок, заключенные в шарообразном кристалле, и пестрые литературные пародии на разных уровнях, сливающиеся в тающем пространстве. Перед нами вовсе не «картина русской жизни» — в лучшем случае, это картина, изображающая небольшую группу русских людей, живущих во втором десятилетии XIX в., имеющих черты сходст.
Ср.: Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1987. С. 393. ва с более очевидными персонажами западноевропейских романов и помещенных в стилизованную Россию, которая тут же развалится, если убрать французские подпорки и если французские переписчики английских и немецких авторов перестанут подсказывать слова говорящим по-русски героям и героиням. Парадоксально, но, с точки зрения переводчика, единственным существенным русским элементом романа является именно эта речь, язык Пушкина, набегающий волнами и прорывающийся сквозь стихотворную мелодию, подобной кото.
1 по рой еще не знала Россия".
Мультиязычное художественное мышление самого Набокова реализовало лингво-эстетический потенциал русской культуры. «Русский читатель старой просвещенной России, — писал Набоков, — конечно, гордился Пушкиным и Гоголем, но он также гордился Шекспиром и Данте, Бодлером и Эдгаром По,.
10 3.
Флобером и Гомером, и в этом заключалась его сила".
Но Набокову пришлось пройти (так распорядилась судьба) труднейший путь восхождения к художественному полило-гизму, — путь, который на каждом этапе мог обернуться трагедией творца, но завершился его высшим торжеством. Сначала характерное для русского дворянина многоязычное воспитание, а затем уникальный, до него, по существу, не имеющий аналога в истории мировой литературы переход художника с русского языка на английский. «Личная моя трагедия, — сказал Набоков в одном из интервью, —. это то, что мне пришлось отказаться от родного языка, от природ.
Набоков В. В. Вступление переводчика// Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 36. 03 Набоков В. В. Писатели, цензура и читатели в России// Набоков В. В. Лекции по русской литературе. С. 26. ной речи, от моего богатого, бесконечно богатого и послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка" (Н1.-2.572). Но автора и переводчика «Лолиты» ожидало разочарование еще более глубокое. «Увы, тот „дивный русский язык“, который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку» (Н1. 2.38 6) .
Это разочарование, однако, уже заключало в себе начало восхождения к высшему синтезу многоязычного Парадиза Ардиса в «Аде». «Телодвижения, ужимки, — продолжал писатель, — ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое ., а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английскино столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвле-ченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу в историческом плане между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа» (Н1.-2.386−387). Прочувствовав изнутри в процессе перехода с одного языка на другой сильные и слабые стороны, возможности каждого из них, сделав их своими и, очевидно, уже иным, не отчужденным взглядом иностранца осматриваясь в иноязычных мирах, Набоков приступает к сотворению новой, мультиязычной модели мира, где он «снимает сливки» с многоязычной палитры мирового искусства. Пиршество многоязычия в «Аде» — богоборческая в своей сути попытка творца романа вернуть человечеству изначально единое Слово, которым оно обладало до библейского «разделения языков».
Полилогизм художественного мышления сформировал специфический хронотоп набоковских книг.
Он пишет ни о чем, действие происходит нигде"104, таково и должно быть впечатление читателя неподготовленного, воспитанного на литературе «реалистической», где детали, характеризующие время и место действия, прописаны четко и «достоверно». А литературный хронотоп набоковских книг всегда почти вне (=меж)национальный и вневременный, и в этом его специфика. Набоков и сам не однажды говорил о том, что национально-пространственные декорации и макеты его книг — все эти русские, английские, немецкие, французские «площади и балконы» — весьма условны и исключи.
105 тельно субъективны.
104 Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 331.
10 5.
Ср.: «Когда-то у меня ушло около сорока лет на то, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, а теперь мне следовало выдумать Америку. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить небольшое количество средней «реальности» (странное слово, которое ничего не значит без кавычек) в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет значительно более трудным, чем это было в Европе моей юности, когда действовал с наибольшей точностью механизм восприимчиво.
Подзаголовок «Ады», «семейная хроника», видимо ориентирует текст на жанровую модель романа-хроники и соответствующую пространственно-временную модель.
Хроникальный" тип художественного мышления в его конкретных жанровых модификациях глубоко и всесторонне исследован на материале мировой, в частности русской литературы, современным чешским ученым И. Поспишилом106. Литературный хронотоп в романе-хронике отличают специфические черты: 1) ограниченное и замкнутое пространство хроникального «малого мира» (городок, деревня, село и т. п.) противопоставлено «большому миру» и одновременно связано с ним (главным образом, мотивом дороги: приезд, отъезд, встречи, вести из «большого мира»), благодаря чему два «мира», взаимодействуя, ведут «диалог» о жизненных ценностях, о назначении человека, о перспективах развития общества- 2) романное время имеет тенденцию к «замедлению», «торможению» и характеризуется концепцией одного временного ряда (т.е. хроника повествует о жизни одного героя или группы персонажей и заканчивается их смертью, возможно также повествование о каком-либо завершенном этапе их жизни).
Действие «Ады», как кажется на первый взгляд, также сосредоточено на ограниченном пространстве поместья Арсти и запоминания. Движимый техническими соображениями, заботами о воздушной глубине и перспективе (тут пригородный газон, там горная поляна), я соорудил некоторое количество североамериканских декораций" (Н1. 2.378−379, 383) .
106 См.: Pospisil I. Ruska romanova kronika. (Prispevek k historii a teorii zanru). Brno, 1983; он же: Labyrint kroniky. Brno, 1986. дис, куда герои неизменно возвращаются, время строго хронометрировано, а в Ардисе имеет тенденцию к замедлению. Однако сходство это чисто внешнее (отсюда иронично-пародийное «оживление» С. Т. Аксакова и его героя, Багрова-внука, и «сигнальное» упоминание лета Господня И. ШмелеваН1. 4.147−149, 387 107). Перед нами образчик столь любимых Набоковым обманных, мнимых решений. На самом деле и Ардис — место не «ограниченное», а «соборно-мифологическое», и время здесь не замедленно — оно представляет собой нерасчленимый симбиоз прошлого — настоящего — будущего, а хронометраж его, всегда подчеркнуто саркастичный (Н1.-4. 120), — не более, чем иллюзия.
Тема времени — одна из центральных в романе. Исследования Вана интерпретирует, в стиле популярных в XX в. научно-фантастических романов, современные концепции в физике (ср.: Н1. 1.506−507- 4.325), теорию «текущего времени» А. Бергсона (ср.: Н1.-4.362−363)108 и др. На самом же деле «научность» трактатов героя не более как видимость, к созданию которой стремился автор. Выстраивая от лица своего героя, новую физико-математическую философскую концепцию времени, претендующую на «научное» объяснение «реального мира», Набоков тайно указывает читателю на ус.
Ср.: Есаулов И. Праздники. Радости. Скорби.
Литература
русского зарубежья как завершение традиции// Новый мир. 19 92, № 2. С.232−242- Аверин Б. В. Романы В.В.Набокова в контексте русской автобиографической прозы и поэзии. Автореф. дис.. доктора филол. наук. СПб., 1999.
1 Г) R.
О влиянии теории «текущего времени» А. Бергсона на поэтику модернизма см., напр.: Ksicova D. Secese. Slovo, а tvar. Brno, 1998. S.30−40. ловность художественного времени в сотворенной им реальности: «Я отсек сиамское Пространство вместе с поддельным будущим и дал Времени новую жизнь. Я хотел написать подобие повести в форме трактата о Ткани Времени, исследование его вуалевидного вещества, с иллюстративными метафорами, которые исподволь растут, неуловимо выстраиваются в осмысленную, движущуюся из прошлого в настоящее любовную историю, расцветают в этой реальной истории и, столь же неприметно обращая аналогии, вновь распадаются, оставляя одну пустую абстракцию» (Н1.-4.540−541). Категории времени и пространства здесь не характеристики «реального» мира, а образы, на равных взаимодействующие с образами персонажей, с метафорами, сюжетными мотивами и др. и органично вплетенные в словесную ткань романа. Перед нами художественная реализация теории литературного хронотопа. «В литературно-художественном хронотопе, — писал М. М. Бахтин, — имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримымпространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп"109. Литературный хронотоп «Ады» мифолого-фантастический, а время здесь, как, впрочем, и в других книгах Набокова, неотделимо от пространства — это пространство-время (см. Н1.-4.74,75, 151, 152, 155- 5.37, 4 7−48, 67, 69, 87−90) .
109 Ср.: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе// Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 198 6. С.121−122 .
Достижение той высшей точки, где свершается тотальное освобождение духа, о котором мечтали сюрреалисты, в «Аде» свершается здесь и сейчас — в момент соития Вана Вина и Ады Вин «где-то в Северной Америке, в девятнадцатом веке, — будучи наблюдаемым в звездном свете вечности» (Н1.-4. 213). Да и сама их любовь существует вне пространственно-временного измерения: «Я никогда никого в моей жизни не полюблю так, как тебя, никогда и нигде, ни в вечности, ни в бренности, ни в небесах, ни в Ладоре, ни на Терре, куда, говорят, отправляются наши души» (Н1.-4.155).
Шутовской прообраз такого мифологического хронотопав романе «Униженные и оскорбленные». Вне (=меж)национальная система координат — «без мест, без городов, без лиц» (Д.-3.335), в которой рассказана история князя Валков-ского одним из «буффонных» персонажей, подобна фантастическому одеялу из разноплеменных «лоскутов» — вымышленных городов, имен и перебивки временных отрезков. Набоковская мозаика «из пространства и времени» (Н1.-2.587) также не лишена ёрничества, но природа ее принципиально иная. Чаще всего фантастическая разноплеменная сценическая площадка возникает по принципу ассоциативно-фонетическому (ср., например, «море между Нитрой и Индрой», «газеты Ладоры, Ладоги, Лагуны, Лугано и Луги» — Н1.-3.369−4.178).
Топография «Ады» по своей пестроте уникальна. Образно-метафизическая матрица сего эстетического феномена дана на первых страницах романа: «Бабка Вана по матери, Дарья („Долли“) Дурманова, приходилась дочерью князю Петру Земскову, губернатору Бра-д'Ора, американской провинции на северо-востоке нашей великой и пестрой отчизны, в 1824-м женившемуся на Мэри О’Рейли, светской даме ирландской крови» (Н1.-4.13). Иноязычные метаморфозы русских имен (Дарья — Долли), для русских дворянских семей и русских романов типичные (вспомним толстовских Пьера, Ки-ти, Долли или княжну Алину, Полину вместо Прасковьи и Селину вместо Акульки — у Пушкина), в сочетании со столь же типичным смешением кровей «постепенно и плавно» мутируют, преображаясь в топографические гибриды. Затем эти возникшие путем «перекрестного скрещивания» (HI.-4.69), или «инбридинга» (HI.-4.131) топографо-культурологические мутанты, вроде госпожи Тапировой, француженки, говорившей, впрочем, по-английски с русским акцентомрусского зеле.
11 О ного долларамягкого ладорского французскогочусскои клиники П. О. Темкинадройниязыков креолизированного и канадийского и др., — заселят пространственно-временную площадку романа.
Нечто похожее уже было у Пушкина. Вот, например, Иван, слуга Альбера из «Скупого рыцаря», явный языковой фантом, поистине мистическое вкрапление в инонациональную культурную среду, ничем, кроме игривости поэтического воображения автора, не объяснимое.
Мысль нарисовать в романе «межнациональную» обстановку, в которой бы не было «ничего русского, это общеевропейская (и северо-американская) обстановка» (Чр.-12.127), — возникла еще у Чернышевского. Причем знаком такой «общечеловеческой» сценической площадки должна была стать межнациональная «русская» кухня. Свое полноценное развитие этот прием получил у Набокова в «Аде» (HI.-4.53,82, 152, 241−253). Но истоки его находим уже у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Пред ним roast-beef окровавленный,.
110 Рискнем предположить, что это слово представляет собой буквенную амальгаму, скалькированную с чеховской «ре-никсы» — «чепухи» (см. «Три сестры» — Ч.-13.174) .
И трюфли, роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Стразбурга пирог нетленный Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым (П.-5.13).
Пестрая топография «Ады», пространственная и культурологическая, зародилась в недрах ее мультиязычной игровой стихии из мозаики многоязычной лексической ткани, в которой реализовал себя полилогизм культурного и художественного мышления русского образованного человека XIX в. Ключевой термин романа инцест — инбридинг (HI.-4.131)111 реализует себя на всех уровнях его формально-содержательной структуры: лексическом, стилистическом, образно-метафорическом, сюжетном, философском и т. д.
Принцип инбридинга во многом формирует и художественное время романа: все события свершаются здесь в фокусе двойной экспозиции, двойного наплыва (HI.-4.198) прошлого — будущего или настоящего — будущего.
Мифолого-фантастический" литературный хронотоп «Ады» имеет типологически близкий аналог в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина — экспериментальной версии повествования хроникального типа. И если «Ада» — роман о бытии индивидуального сознания, то история Глупова повествует о бытии рабского коллективного сознания, как впоследствии и романы Набокова «Приглашение на казнь» и «Bend Sinister».
Развернутая метафора сна организует образную систему «исторической хроники» Салтыкова: «Человеческая жизнь.
111 Ср.: Джонсон Д. Б. Лабиринт инцеста в «Аде» Набокова// В. В. Набоков: pro et contra. С.395−428. сновидение,. и история — тоже сновидение"112. Эта поэтическая модель оптимально решала творческую сверхзадачу писателя — показать изначальную «фантастичность» самого содержания русской истории (С.-Щ.- 2.294), его бредовую сущность: покончив с одним безумием, здесь немедленно приступают к осуществлению очередного бреда (см.: С.-Щ.- 2.453). Причем и гротесковый образ кантонической модели общественного устройства, в которой фантастический абсурд российской истории достигает своей кульминации, предстает у Салтыкова в форме сна г целого систематического бреда, родившегося в голове Угрюм-Бурчеева: «Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли. Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, — все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев. переворачивался на другой бок и снова начинал другой такой же сон .» (С.-Щ. — 2. 44 9) .
Логике бредового сна соответствует сюрреалистическое время «Истории .», с его асимметричным сдвигом художественной реальности города Глупова по отношению к действительной истории России. «Летопись. обнимает период времени с 1731 по 1825 год» (С .-Щ. — 2. 2 94) , — таковы временные рамки «хроники». Обе даты одновременно «реальны» и «фантастичны», но по принципу асимметрии. Первая явно.
112 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т.2. С. 411. Ссылки на это издание даны в тексте. фиктивна: если «исторические времена» начались с въезда в город первого князя «из варягов», возопившего: «Запорю!» (С.-Щ.-2.306), — то между этим «событием» и 1731 г. образуется «зазор», природа которого явно иррациональна. Построение Петербурга, свершившееся сразу по «призвании варягов» («прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами», — С.-Щ.-2.304), вообще «зависло» в сетке временных координат.
Зато финальная дата выглядит «реальной», ибо ассоциируется с событиями действительными: «поклонение Мамоне» и последовавшее затем явление Угрюм-Бурчеева — с царствованием «либерала» Александра I и воцарением жесткого Николая I. Но именно она-то и фантастична: ведь «история прекратила течение свое» (С.-Щ.- 2.472), когда на город налетело мистическое «Оно». А это «событие» никаких аналогов в «жизни действительной» не имеет. И тем более оно не имеет никакого отношения к разгрому восстания декабристов в 1825 г.
Непосредственное содержание описываемых. событий, -отмечал один из комментаторов «Истории .», — или — точнее.
— процессов не только далеко не укладывается в рамки 1731.
— 1825 годов, но и, как правило, вообще не может быть приурочено исключительно к какому-либо определенному времени, сатирически совмещая в себе некоторые общие признаки совершенно различных эпох, различных периодов развития русского самодержавного государства" (С.-Щ.-2.521) .
Все даты «хроники» Салтыкова «узнаваемы» и в то же время фиктивны. Перед нами нерегулярное нарушение принципа условности художественной реальности.
Взаимопересекающиеся «наплывы» двух временных реальностей — исторической и художественной — достигают у Салтыкова порой фантасмагорической степени сложности. Так, если место действия, «соборный» город Глупов, — гротесковый аналог России, то градоначальники — ее самодержавных правителей. Понятно, что градоначальник с «органчиком» вместо головы или градоначальник с фаршированной головой.
— фантастический гротеск и аналогов в «жизни действительной» не имеют. Но большинство градоначальников Глупова представляют действительных правителей России то в «расщепленном» (Петра I, например, представляют Двоекуров и Бородавкин), то, напротив, «соборном» виде (Угрюм-Бурчеев.
— конденсированное воплощение градоначальников, одержимых «административным восторгом», — соединяет черты Николая I, Аракчеева и Петра I). А на эти гротесковые переплетения дополнительно накладываются соотношения между глупов-скими градоначальниками и действительными правителя России (см. «Опись градоначальникам», где эти соотношения подчеркнуто точно зафиксированы).
Сказание о шести градоначальницах" - замечательный образчик сюрреалистического видения истории России. Перед нами не просто гротесковый вариант реальной истории женского правления на российском престоле, когда едва ли не с интервалом в две недели, сменяли одна другую правительницы, имевшие весьма сомнительные на него права.
Клементинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу" (С.-Щ.-2. 328), — в реальной истории внезапных падений российских правительниц и их фаворитов такое случалось нередко. И если все эти «беспутные» Ираидки и Клемантинки имеют с реальными историческими персонажами (Екатериной I, Анной Иоанновной, Елизаветой, княжной Таракановой и др.) сходство лишь обобщенно-типологическое, то не узнать в Амалии Карловне Штокфиш Екатерину II невозможно: «полная, белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами» (С.-Щ.-2.327). Такой запутывающий «игровой» маневр, когда в явно вымышленный, фантасмагорический сюжет «из истории» вдруг вживляется образ из «жизни действительной», для литературы XIX в. уникален113. Замечательно, что в фокусе периода безначалия оказывается именно образ бесспорно «узнаваемой» ШтокфишЕкатерины II. Но при этом Амалия Карловна — третья в списке самозванных правительниц Глупова, в то время как Екатерина II — последняя из правительниц на русском престоле, а свой переворот она совершила в 17 62 г. — в год, когда вступил в должность Двоекуров, положивший конец женскому безначалию. Никакая логика, ни человеческая, ни историческая, ни фантастическая, не в силах объяснить эти примеры в высшей степени хитроумного и совершенно иррационального переплетения временных наплывов.
В подтексте сюрреалистического хронотопа «Истории .» лежит библейская формула времени: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (Псал.8 9.5). Функцию скрытой сигнальной ориентации на эти отрывки из Библии выполняет саркастический пародийный хронометраж событий в главе «Сказание о шести градоначальницах»: «был, по возмущении, уже день шестый», «был, после начала возмущения, день седьмый» (С.-Щ.-2.334,336). Уникальность литературного хронотопа «исторической хроники» Салтыкова в том, что время здесь, как позднее в «Аде», «соборно-фантастическое»: не только история «женского правления».
13 У Салтыкова он осложнен еще и «двойным наплывом» временных пластов: содержательница заведения Сан-Кюлот, которой в начале женского безначалия перебили стекла, «оказалась сестрою Марата» (С.-Щ.-2.323). на российском престоле, длившаяся с 1725 г. (восшествие на него Екатерины I) по 1796 г. (конец царствования Екатерины II), уложилась в 7 дней, но и вся история России, ее прошлое, настоящее и будущее, поместилась на временной площадке 1731 — 1825 гг.
История одного города" - это не только гротесковая пародия на историю России — она связана с современностью и «прорастает» в будущее. Функцию актуализации прошлого выполняют и подчеркнуто саркастичные замечания «издателя» («возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него», — С.-Щ.-2.295), и знаменитые «анахронизмы» (С.-Щ.- 2.298, 313, 314, 317, 319, 371), которые «издатель» обычно называет примерами прозорливости «летописца» и среди которых — «телеграмма» — предшественница набоков-ских «бипланов», «каблограмм», «аэрограмм» и других технических изобретений века двадцатого, создающих в его романах эффект временного наплыва на век Х1Х-ый.
В жанровую модель «исторической хроники» Салтыков «вживляет» и свой прогноз. Так повествование об ультрабредовых (даже в сравнении с «войнами за просвещение» Бо-родавкина) «реформах» Угрюм-Бурчеева — это не только гротесковая картина преобразований одержимых «административным восторгом» градоначальников прошлого (хотя этот карикатурный образ соединил черты Петра I, Аракчеева, Николая I), в которой сконцентрирована их абсурдная сущность, но и будущего «нивелляторства»: «В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще. Тем не менее нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивелляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин» (С.-Щ.-2.448−449).
Здесь — карикатурный фокус истории России, собравший в одну точку, ее прошлое — настоящее — будущее, ибо кан-тоническая фантазия Угрюм-Бурчеева синтезировала «идеи прямолинейности» нивелляторов старого закала с возникающими «почти на наших глазах» идеями всеобщего осчастливления современных коммунистов и социалистов. А осуществление целого систематического бреда, зародившегося в голове Угрюм-Бурчеева, предстает как будущее России.
История одного города" - это «организованный сон» об истории государства Российского: изгибы пространственно-временной ткани произведения и его образной системы чудовищны и фантасмагоричны, а в то же время возникшая картина воссоздает образ нашей истории в его интуитивно-подсознательном преломлении и постижении.
Развернутая метафора «жизнь есть сон» активно, в самых различных образных модификациях и с различными художественными заданиями, использовалась русскими писателями XIX в. Это и роль «пророческих» снов в произведениях Пушкина, и его же метафора «творческого сна», «психологические» сны героев Достоевского и Л. Толстого, «сноподобная» гротесковая реальность «Истории одного города» Салтыкова и др.
Зародившись в поэтике русской классической литературы, художественная модель сновидческой реальности подготавливала сюрреалистический, внутренне сложно структурированный хронотоп набоковских романов.
Важное указание на глубинное типологическое сродство поэтики Набокова и Салтыкова — присутствие в их текстах библейских формул сотворения мира. Трехуровневая модель повествования (уровень бытия героя, художественная реальность, так соотносится с миром «жизни действительной», где обитает автор, как уровень автора — с предощущаемым трансцендентным бытием Бога) предвосхищает эстетическую мифологему постмодернизма «мир — как текст». * *.
Один из самых ярких выразителей экспериментальных устремлений литературы межвоенного и послевоенного периода, Набоков вместе с тем принадлежал к художникам «классической» ориентации (Г.Гессе, М. Булгаков, Б. Пастернак и др.). Свое понимание диалектики взаимодействия культурных ценностей прошлого и новаций современности писатель высказал, хотя и с несколько преувеличенным романтическим пафосом, в «Подвиге»: XX в., опровергал расхожее мнение герой романа, это отнюдь не «черная» дыра в истории развития человеческого духа, напротив, «такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках,. все это проявилось теперь с небывалой силой» (Н.-2.241).
Рецепция произведения искусства в новых социально-исторических и культурных условиях напрямую зависит от потенциала его возможных интерпретаций. Это тот случай, когда в процессе интерпретации произведения «интертекстуальность» в максимальной степени реализует себя фактор активности читателя-«получателя», в то время как роль автора, его субъективного замысла минимизирована.
Известный чешский русист И. Поспишил ввел весьма продуктивное, на наш взгляд, понятие «свободной смысловой валентности»: «Если воспринимающая среда найдет в воспринимаемом произведении свободную валентность и соответствующий элемент в своей системе, может возникнуть новая интерпретация произведения"114. Степень «открытости» художественного текста определяется его способностью образовывать новые «смысловые валентности». Таким образом, рецепцию литературного произведения, писал в развитие этой мысли другой чешский ученый, В. Костшица, определяют два главных момента: «неисчерпаемость внутреннего содержания выдающегося произведения и бесконечная изменчивость исторических условий, в которых оно воспринимается. Из этого следует, что каждое новое поколение вырабатывает свой тип отношения к конкретным культурным ценностям, делая акцент, в соответствии с задачами и требованиями времени, на те составляющие, которые представляются наиболее важными. для современности"115. Способность художественного текста образовывать новые «смысловые валентности», определяет потенциал его возможных интерпретаций и в новых социально-исторических условиях.
Набоков в своем восприятии классики сделал акцент на том, что было созвучно его миросозерцанию художника XX в., его эстетическим исканиям, и, уже на следующем витке «цветной спирали» литературного процесса, творчески освоил новаторские тенденции русской литературы XIX в. В художественном методе писателя своеобразно проросли, обретя новое качество, наиболее оригинальные открытия и эстетические эксперименты русской классической литературы.
114 Розр1ёИ I. Gogolovi Starosvetsti statkafi jako роИ-valencni text// Ы.У.6одо1 а паёе с! оЬа. 01ошоис, 1984. Б. 94 .
115 КозЬг1са V. Содо1 а паёе с1оЬа// М.У.Содо1 а паёе с1оЬа. 3.8.
Но Набоков не только наследовал предшественникам — он совершил переворот в читательском восприятии художественного текста.
Литература
XIX в. редко поднимала покров над тайной искусства: на «видимом» уровне своих творений авторы давали читателям «уроки» нравственности, «объясняли» жизнь в ее социальных, духовных или мистических проявлениях, а эстетические эксперименты скрывали в глубинных, подтекстовых слоях произведения, оставляя утонченное наслаждение от «угадывания» оригинальных художественных решений читателю «посвященному». В классических текстах поэтические средства воздействует на подсознание «наивного читателя», заставляя его плакать, негодовать или восторгаться, наивно переживать перипетии сюжета и сопереживать героям.
Набоков, напротив, намеренно обнажая игровое начало в поэтике и подчеркивая «сделанность» своих книг, требует от читателя сознательных усилий, интуитивных и интеллектуальных, для проникновения за поверхностный поэтический слой — в этический и философский смысл произведения. Если понимание поэтических приемов обогащает восприятие классического произведения, позволяет проникать в его «тайные» смыслы, то постижение набоковских текстов вообще невозможно без осмысления всех тонкостей и хитростей их поэтической структуры. Читатель, воспитанный на классической литературе, перед книгами Набокова останавливается в недоумении: он видит лишь нагромождение художественных приемов и не видит смысла.
Искусство Набокова, как справедливо заметила еще Н. Берберова, адресовано новому читателю116, способному к активному и сознательному игровому сотворчеству. Сам пи.
116 Берберова Я. Курсив мой: Автобиография. С. 18 9. сатель мечтал встретить «хорошего» читателя, «счастливого и запыхавшегося», который «прочтет книгу не сердцем и не столько даже умом, а позвоночником», и тогда они кинутся «друг другу в объятия, чтобы уже навек не разлучатьсяесли вовеки пребудет книга"117.
А между тем в Интервью Би-би-си на вопрос: «Для кого вы пишете? Для какой публики?» — Набоков ответил: «Я не думаю, что художнику следует беспокоиться по поводу своей публики. Лучшая его публика — это человек, которого он видит каждое утро в зеркале, пока бреется. Я думаю, что публика, которую воображает художник, когда он воображает подобные вещи, — это комната, полная людей, носящих его маску» (Н1.-2.575). И это — самый оригинальный из набо-ковских парадоксов. Поэтика писателя всегда была рассчитана на «догадливого» читателя, то есть читателя — alter ego автора, который увлеченно и самозабвенно играет с сочинителем в предлагаемые игры на предлагаемых условиях, позволяя тем самым автору превратить процесс написания книги в «составление красивой задачи — составление и одновременно решение, потому что одно — зеркальное отражение другого, все зависит от того, с какой стороны смотреть» (HI.- 3.562) .
Приоритет изобретения такой модели взаимоотношений между читателем и творцом принадлежит Набокову всецело, русская изящная словесность XIX в. ее не знала.
Набоков В.В. О хороших читателях и хороших писателях// Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. С. 29,25.
ЧАСТЬ II.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ И ДРУГИЕ.
Реминисцентные связи с русской изящной словесностью, в отличие от многочисленных и разнообразных цитаций и аллюзий с литературами западноевропейской и американской, отличаются у Набокова внутренней системностью, а характер творческих отношений писателя с каждым из великих предшественников своеобразно индивидуализирован.
Построение этой части диссертации следует не хронологическому принципу, но усложнению модели следования-отталкивания, которая определяет алгоритм творческих связей Набокова-Сирина с русскими писателями XIX в.: от приятия этико-философских и эстетических ценностей художественного мира Пушкина и Чехова через парадоксальные связи с миром Достоевского до видимо пренебрежительного отношения к Чернышевскому и, наконец, тотального «отрицания» сатиры как рода искусства. Причем именно последняя параллель — с великими русскими сатириками, Гоголем и Салтыковым-Щедриным, оказывается наиболее противоречивой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Творчество Владимира Набокова — сочинителя, критика и исследователя литературы — являет собой высший синтез наиболее продуктивных и оригинальных тенденций как в русской, так и в западноевропейской и американской литературах XIX — XX вв.
Эстетическое целое своих произведений писатель «создавал. не по западным образцам, — как справедливо заметил еще А. Долинин, —. а на фоне отечественной традиции и в борьбе с ней, доказывая — через полемику, отталкивание, даже дискредитацию — свою к ней причастность"1. Набоков-художник синтезировал отечественную и западноевропейскую традиции. И если на синхронном уровне он воспринял импульсы, идущие от современной ему западноевропейской литературы (в частности, от прозы Г. Гессе, Ф. Кафки, Х. Л. Борхеса, А. Роб-Грийе, Дж. Джойса, М. Пруста и др.), и в этом смысле его экспериментальные новации коррелируют с особенностями художественного стиля других русских писателей XX в. (прежде всего А. Белого и М. Булгакова), то на диахронном — импульсы, шедшие от мировой литературы предшествующих эпох, но от русской классической прежде всего.
Владимир Набоков усваивал и трансформировал, преломляя и пропуская сквозь фильтр своей творческой индивидуальности, самые оригинальные и в перспективе развития искусства XX в. наиболее плодотворные тенденции, инспирированные русской классической литературой.
Изучение художественного космоса В. Набокова в контексте генетико-типологических связей с мировой, в том числе русской литературой XIX — XX вв. — актуальная задача со.
1 Долинин А. А. Цветная спираль Набокова. С. 458. временного сравнительного литературоведения. Решение ее требует многопланового, фундаментального исследования, и оно — в будущем. Но уже сейчас можно сделать вывод о том, что именно русская доминанта предопределила рождение грандиозного мультинационального эстетического целого литературного наследия Набокова-Сирина.
Ментальность русского человека, как феномен культурологический, заключает в себе скрытую амбивалентность: стремление к самобытной изолированной замкнутости и одновременно — к конвергентности и беспредельной широкости.
Очевидно, что творчество Набокова-Сирина в полной мере реализовало именно последнюю тенденцию. Как ни парадоксально, но именно эта особенность мышления художникаего исключительная по своей интенсивности способность к рецепции и усвоению «разноплеменных» творческих импульсов, чаще всего давала основание для того, чтобы считать его «западником».
Как нам представляется, место В. Набокова в ключевом для нашей культуры диалоге между «западной» и «отечественной» ориентациями не столь однозначно.
Русское мироощущение соединяет в себе два противоположные начала: «коллективное», традиционно связываемое с влиянием восточным, азиатским, и «индивидуалистическое», западническое. Ценные рассуждения о соотношении этих двух тенденций в рамках единой русской ментальности находим у С.Франка. «В противоположность западному, — писал философ, — русское мировоззрение содержит в себе ярко выраженную философию «МЫ» или «МЫ-философию». Для нее последнее основание жизни духа и его сущности образуется «МЫ», а не «Я» «2. При этом, однако, «Я» не поглощается «МЫ».
2 Франк С. Л. Сущность и ведущие мотивы в русской филосомежду этими категориями возникают более сложные корреляции: «каждое «я» не только содержится в «мы», с ним связано и к нему относится, но можно сказать, что и в каждом «я» внутренне содержится, со своей стороны, «мы», так как оно как раз и является последней опорой, глубочайшим корнем и живым носителем «я». Короче говоря, «мы» есть такое конкретное целое, в котором не только могут существовать его части, неотделимые от него, но которое и само внутренне пронизывает каждую часть и в каждой наличествует полностью"3. «Я» и «МЫ», по мысли философа, находятся во взаимодействии, образуя единое диалектическое целое «соборности» .
Приходится, однако, признать, что объединение в рамках ментальности русского человека начал индивидуалистического и коллективного в синтезе «соборности» остается целью скорее страстно желаемой, но отнюдь не действительно достигнутой. Для русских писателей XIX в. обретение гармонии между «Я» личности и «Мы» общины, Отечества или всего человечества было камнем преткновением и ключевым вопросом жизни, как отдельного человека, так и всего общества. Л. Толстой увидел гармонию единения всей нации в реальности Отечественной войны 1812 г., но то был лишь момент истории. Достоевский готов был увидеть ее в реальности созидаемого русской нацией на протяжении веков и, наконец, обретенного единства Царя и народа. Но, как показала история, действительность этого единства оказалась иллюзорной.
Лишь Пушкину, по-видимому, синтез «Я» и «МЫ» был дан в реальности его многогранного и все же цельного религифии// Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 159. 3 Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 179. озного сознания. С. Франк увидел нераздельность обеих категорий, «Я» и «МЫ», в единстве «соборности» в известном стихотворном отрывке:
Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. На них основано от века По воле Бога самого Самостоянье человека, Залог величия его. Животворящая святыня! Земля была без них мертва, Как. пустыня,.
И как алтарь без божества (П.- 203, 425) .
В то время как цитирующие эти строки обычно делают акцент, сообразно собственной системе ценностей, либо на любви к «родному пепелищу» и «отеческим гробам», либо на «самостоянье человека», С. Франк писал: «Здесь изображена связь духовного индивидуализма с духовной соборностью: «любовь к родному пепелищу», органически связана с любовью к родному прошлому, к «отеческим гробам», и их единство есть фундамент и живой источник питания для личной независимости человека, для его «самостояния», как единственного «залога его величия». Единство этого индивидуально-соборного существа духовной жизни пронизано религиозным началом: связь соборного начала с индивидуальной, личной духовной жизнью основана «по воле Бога самого» и есть для души «животворящая святыня» «4.
4 Франк С. Л. Религиозность Пушкина// Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 225.
Творческая индивидуальность Владимира Набокова, в контексте так понятого русского менталитета, без сомнения, являет собой яркое исключение. Ибо художественный мир писателя воплотил миросозерцание в высшей степени индивидуалистическое. Но тяга к «соборности» русскому сознанию и самосознанию, по-видимому, свойственна изначально, даже вопреки индивидуальным особенностям мироощущения конкретной личности. И у автора «Ады» она тоже сказалась, хотя и парадоксальным образом.
После Пушкина он был следующим, кому удалось органично соединить в себе две, по видимости, противоположные линии отечественной общественно-философской мысли — западническую и русскую, повторив этот синтез в новом контексте и на иной культурологической почве XX в. «Соборность» набоковского индивидуального сознания проявилась в том, что он создал уникальное эстетическое целое мультия-зычного и мультинационального художественного космоса своих произведений.
Во многом благодаря этому его литературное наследие оказалось в фокусе мирового художественного процесса XX в. и одновременно — на «пороге» смены двух моделей эстетического и культурологического мышления. Творческий стиль Набокова-Сирина, возникнув в процессе взаимодействия экспериментальных исканий в отечественной классике и в западноевропейском искусстве XX в., сплавил в единый и целостный эстетический организм элементы художественного мышления «классического» типа, с одной стороны, и различных модернистских, авангардных и поставангардных течений в западной литературе XX в., с другой.
Причем русская доминанта мышления Набокова-художника сыграла чрезвычайно важную роль в процессе рождения и формирования этого уникального для мирового искусства XX в. синтеза.
Эстетические новации русских писателей XIX в. подготовили возникновение и предопределили многие существенные черты этого художественного целого. Так новое, уже сюрреалистическое качество обрела в набоковской прозе сно-видческая реальность, возникшая в произведениях Гоголя, Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Сложные модели субъективированного повествования с прихотливыми, порой изощренными «мозаичными» сюжетно-композиционными построениями, возникшие в прозе Лермонтова и Чернышевского, а также напряженная интертекстуальность и, как следствие, всепроникающая пародийность русской изящной словесности XIX в. (в особенности произведений Пушкина, Достоевского и Чехова) — все это сформировало постмодернистскую поэтику набоковской прозы. Наконец, генезис мультиязычной поэтической модели мира Владимира Набокова — уникальном феномене мирового искусства XX в., восходит к свойственному русской классической литературе художественному полилогизму.
Через набоковскую версию мистического реализма протянулись нити от западноевропейского романтического «двое-мирия» и фантастического реализма Достоевского в XIX в. к творчеству Г. Гессе и М. Булгакова как двум, европейской и русской, разновидностям этого художественного метода в веке двадцатом. Специфические особенности антиутопий Набокова-Сирина, проникающих в глубины общественного сознательного и подсознательного, определили их особое место связующего звена между русской и западноевропейской модификациями жанра в литературе XIX — XX вв.
Не меньшую роль, чем новации в области поэтики, сыграли русские корни ментальности Набокова — художника и критика, в той достаточно неоднозначной и даже противоречивой модели взаимоотношений, которые связывают творчество писателя с ведущими направлениями западноевропейского литературного процесса XX в. — с экзистенциализмом, сюрреализмом и постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистским комплексом как ведущим философско-кри-тическим и художественным феноменом современной культуры.
Ощущение изначального трагизма бытия, одиночества личности во враждебном «сущностном» окружении, интерес к постижению сокровенного смысла «отдельного» феномена, взятого вне его социально-общественных связей — все эти отличительные черты экзистенциалистского мироощущения, бесспорно, родственны Набокову. И все же элементы экзистенциального мирочувствования, наиболее ощутимые в творчестве Достоевского и, в особенности, «поздних» Л. Толстого и Чехова, вообще же для русской литературы XIX в. мало характерные, в творческом методе писателя присутствуют лишь косвенным образом5.
Знаменателен в этом смысле набоковский анализ повести «Смерть Ивана Ильича». «Я считаю, — объяснял он студентам, — что это история жизни, а не смерти Ивана Ильича. Физическая смерть, описанная в рассказе, представляет собой часть смертной жизни, всего лишь ее последний миг. Согласно философии Толстого, смертный человек, личность, индивид, человек во плоти уходит в мусорную корзину Природы, дух же человеческий возвращается в безоблачные выси всеобщей Божественной Любви, в обитель нирваны — понятия, столь драгоценного для восточной мистики. Толстовский догмат гласит: Иван Ильич прожил дурную жизнь, а раз дурная жизнь есть не что иное, как смерть души, то, следова.
5 Ср. отрицательный отзыв Ж.-П.Сартра о повести «Отчаяние»: Сартр Ж.-П. Владимир Набоков. «Отчаяние"// В. В. Набоков: pro et contra. С.269−271. тельно, он жил в смерти. А так как после смерти должен воссиять Божественный свет жизни, то он умер для новой жизни, Жизни с большой буквы"6.
Высказав свое понимание соотношения земного и потустороннего в жизни человека, Набоков здесь, по существу, снял «экзистенциалистский» смысл самого «экзистенциалистского» творения Л.Толстого. Смерть, в такой интерпретации толстовской повести, не имеет самостоятельной сущностиэто лишь момент перехода души человеческой из грубой бутафории мира физического, где царят «эгоизм, фальшь, лицемерие и прежде всего тупая заданность"7, к свободе и истинной жизни в вечности. Напряженный интерес к экзистенциальным проблемам жизни человеческого духа и в то же время неизменный перевод разговора о смерти в углубленные размышления о нравственном содержании жизни — отличительная черта русского культурного сознания и русского искусства на протяжении веков его существования.
Сложны, а во многом и противоречивы параллели, связывающие творчество Набокова с сюрреализмом8 и искусством постмодерна9. Этого вопроса мы, по неизбежности, коснемся в самых общих чертах.
Обратим внимание на соотношение концепций безумия, в.
6 Набоков В. В. Лев Толстой. С. 308.
7 Ibid. С. 311. g.
Впервые в ряд других молодых писателей-сюрреалистов В. Сирина поставил еще Б. Ю. Поплавский (см.: Поплавский Б. Ю. О смерти и жалости в «Числах"// Новая газета. 1931. 1 апреля).
9 См., напр.: Fokkema D. The semantic and syntactic organisation of postmodernism texts// Approaching postmodernism. AmsterdamPhiladelphia, 1986. P.81−98. основных своих чертах общую у сюрреалистов и поструктура-листов-постмодернистов10, с одной стороны, и набоковское видение проблемы, с другой. В то время как сюрреалисты, а также ведущие теоретики постструктурализма (М.Фуко, Ж. Де-лез и др.) неизменно подчеркивали творческую продуктивность синдрома шизофрении, у Набокова, несмотря на несомненный интерес писателя к теме безумия и ее интерпретацию в ключе иррационально-сюрреалистическом, сумасшествие есть знак ущербности и неполноценности личности. В мире Набокова, как мы видели, гений может быть только личностью здоровой, жизнелюбивой и гармонично развитой.
Многое связывает автора «Ады» с искусством постмодерна. Это прежде всего отличительные черты поэтики, а также тенденция к эротизации творческого процесса, доминантное пародийно-ироничное игровое начало и мультиязычие текстов. И все же более точно было бы говорить о нем как о предтече постмодернизма, ибо некоторые существенные моменты стиля писателя, определяющие его творческую индивидуальность, явно противоречат теоретическим основам этого литературного направления.
В первую очередь это касается концепции «смерти автора» в тексте, которая изначально чужда мироощущению Набокова — и человека и писателя. Позиция тотального доминирования автора в реальности художественного текста, возникшего в результате управляемого взрыва, принципиально несовместима с «постмодернистской чувствительностью».
10 Ср.: Великовский С. И. Сюрреализм// Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С.431- Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. С. 102 114 .
Скриптор, пришедший на смену Автору"11, — это, конечно же, не Набоков, а кто-то совсем другой.
Художественный мир В. Сирина, как отмечает Б. В. Аверин, «балансирует на границе хаоса и порядка, отсутствия связей и их выстроенности, непознаваемости и познанности"12. И это справедливо не только в отношении русскоязычного творчества писателя: „теологический смысл“, то самое „“ сообщение» Автора-Бога"13, о котором теоретики постмодернизма пишут исключительно с сарказмом, всегда присутствует в книгах Набокова. Нравственно-философское ядро набоковского романа предстает читателю в форме игровой модели мира, но любимые игровые модели Набокова-Сирина, по которым он организует свои художественные тексты, шахматная задача, ребус, «крестословица», картинка-ригг1е и т. п. — лишь видимо заключают в себе множество решений, а на самом деле, по определению, предполагают наличие «истинной» версии, которую и предлагается отгадать читателю. Эта установка противостоит постмодернистской концепции «обратимости» и «неразрешимости» текста14. Сама формулировка задачи: «Найдите, где спрятан матрос», предполагает наличие ее единственного решения.
Суть внутреннего механизма, управляющего игровыми взаимоотношениями автор — читатель, очень точно сформулировала Н. Букс: у Набокова «структура текста воспроизводит структуру кроссворда. Кажется, тут и кроется обман, уго.
11 Барт Р. Смерть автора. С. 389.
Аверин Б. В. Поэтика ранних романов Набокова// Набоков-ский вестник. Вып. 1. С. 32.
13 Барт Р. Смерть автора. С. 388 .
14 См.: Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По. С.460−461. тованный для читателя,. Кроссворд исключает интерпретацию. Он предполагает догадливость, культуру, знание, но только не креативные способности, и полностью аннулирует вольное сотворчество с автором. В кроссворде все ходы продуманы, все ответы уже существуют, и читателю остается их только найти. Декларируемая открытость книги оборачивается мнимой свободой крестословицы, и возведенный в творцы читатель неожиданно вместо венца обнаруживает на своей голове потрепанную шляпу импровизатора"15.
Например, художественную ткань «Бледного пламени», романа, который критики склонны считать одним из вершинных произведений эстетики постмодерна, прочерчивает символика шахмат (Н1. 3.344, 372, 382, 390, 391, 434, 469, 472). А неизменное правило шахматной композиции — «недопустимость двойных решений» (Н1.-3.472). Эта подсказка, мелькнувшая в тексте романа, многозначительна: она указывает читателю на то, что предложенная ему задача имеет единственное «правильное» решение, и его предлагается найти.
С концепцией доминирующей и всеопределяющей роли автора, творящего целое произведения, организующего игру и управляющего процессом решения придуманной для читателя задачи, органично связаны основополагающие принципы набо-ковской критической стратегии. Эти принципы изначально несовместимы с поструктуралистической концепцией анализа литературного текста, когда «мы прочитываем означающее, ищем следы, воспроизводим повествования, системы, их производные, но никогда — то опасное и неукротимое горнило, всего лишь свидетелем которого и являются эти тексты"16.
15 Букс Я. Op.cit. С.173−174.
16 Kristeva J. La revolution du langage poetique: L’avangarde a la fin du XIXe siecle: Lautreamont.
Именно автора и прежде всего его следует искать в произведении — такова принципиальная установка Набокова — критика и исследователя литературы.
Культурная ментальность русского писателя классической ориентации не позволила Набокову стать настоящим постмодернистом: «самостоянье» индивидуального творящего сознания автора воспротивилась процессу его фрагментации, распада целостной и всеопределяющей нравственно-философской позиции.
Заметим (не претендуя, впрочем, на научную объективность нашего утверждения), что феномен современного русского постмодерна возник в Советском Союзе — как «отрицательная» реакция на господствующую марксистскую идеологию (так же, как теория постструктурализма — деконструкти-визма — постмодернизма возникла на Западе как оппозиция господствующей идеологии «буржуазности»), а в постсоветской России — как следствие распада сознания современного интеллектуала, лишенного ценностных ориентиров17.
Здесь уместно вспомнить, что Набоков называл себя безраздельным монистом и хозяином своего художественного мира: его позиция как автора литературного текста аналогична позиции Бога в религиях монистических, тогда как мышление художника-постмодерниста, фрагментированное и иерархически неупорядоченное, хотя часто многокрасочное, et Mallarme. P., 1974. P. 98 (цит. по: Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. С.138).
17 Ср., напр.: Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие. М., 2001; Ryclova I. Bily tanec. Tragedie Valprzina noc aneb Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruske dramatiky postmoderniho obdobi. Brno, 2001. весьма колоритное и причудливое, сопоставимо с мироощущением язычника. Ментальность русского писателя Набокова сформировалась на более высокой, чем языческая, ступени религиозного мироощущения, а именно, монистическом.
Рискнем поэтому утверждать, что писатель русский, а не советский или постсоветский, даже став писателем «американским», не мог быть «настоящим» постмодернистом.
Интересно, что к аналогичному выводу приходит А. Ран-чин, анализируя поэзию другого русского художника слова, покинувшего Россию, И. Бродского: «Вопреки мнению. исследователей, отношение Бродского к поэтической традиции не совпадает с трактовкой литературного наследия в постмодернизме. Лишь отдельные произведения Бродского могут быть причислены к постмодернистской литературе. В целом отношение поэта к традиции лишено иронии и игрового начала, являясь безусловно серьезным. Поэзия минувших эпох, и в частности русская поэзия XVIII — первой половины XX века, образуют для Бродского меру и норму, которую можно назвать словами Мандельштама: «ценностей незыблемая скала» «18.
Автор «Ады» пошел, безусловно, дальше: его цитации и аллюзии с русской классической словесностью далеко не всегда серьезны — очень часто они пародийно-гротесковы, а порой и саркастичны. Набоков не боится иронии по отношению даже к своим литературным кумирам: очевидно, его глубинная связь с отечественной литературной почвой способна выдержать и не такие испытания. Ибо неизменным остается главное: целостность творящего сознания автора, реализующего себя во всей полноте внутри системы ценностных нрав.
18 Ранчин A.M. Традиции русской поэзии XVIII — XX вв. в творчестве И.Бродского. С. 45.
442 ственно-философских и эстетических координат, унаследованная от русской культуры.
Анализ генетико-типологических параллелей творчества Набокова-Сирина с русской классической литературой показывает, что наследие писателя явилось концентрированным выражением самого творческого духа русского искусства. Русская природа таланта Набокова-Сирина наиболее полно проявилась во «всемирной отзывчивости» его творческого гения, в уникальной способности к синтезу отечественных и инонациональных эстетических традиций, как тех, что шли из прошлого, так и зарождающихся в современном искусстве.