«Язык цветов» в русской поэзии и литературном обиходе первой половины XIX века: Источники, семантика, формы
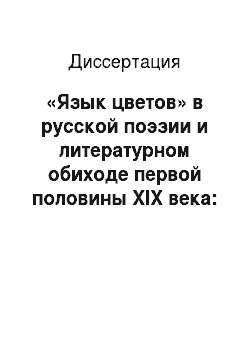
Структура диссертации. Поставленные задачи определили структуру исследования, состоящего из трех разделов. В первый раздел «Язык цветов» в литературно-бытовом сентиментализме конца XVIII — первой трети XIX вв." вошли две главы. На первом этапе освоения отечественной культурой селамной поэтики определяющим как в сфере быта, так и литературы был «французский фактор» (ср. «Любви нас не природа учит… Читать ещё >
Содержание
- Раздел первый
- Язык цветов" в литературно-бытовом сентиментализме конца XVIII — первой трети XIX вв
- Глава II. ервая. Флористические коды и сюжеты французской прозы 1780-х — 1820-х гг. как фактор формирования «языка цветов» в русской дворянской бытовой культуре первой трети XIX в
- Глава вторая. «Дамская ботаника» в образном языке дворянской литературно-бытовой культуры пушкинской поры
- Раздел второй
- Рецепция «языка цветов» в русской поэзии первой половины XIX в
Глава IIервая. Образный ряд русской бытовой дворянской культуры в поэзии А. С. Пушкина и его современников — К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, Д. П. Ознобишина, А. С. Грибоедова (флористические мотивы).
Глава вторая. «Цветы, любовь, деревня, праздность.»: о семантике
Онегинского" букета.
Раздел третий.
Флоросемантика в русской литературе 1850−1860-х гг. и своеобразие флористического языка в поэзии А. А. Фета
Глава IIервая. Смена приоритетов в сфере растительной образности в литературе 1850−1860-х гг.
Глава вторая. Спектр флоропоэтических мотивов в лирике
А. А. Фета.
«Язык цветов» в русской поэзии и литературном обиходе первой половины XIX века: Источники, семантика, формы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Диссертация посвящена исследованию комплекса флоропоэтических мотивов в русском литературном быте и поэзии первой половины XIX века. Обращение к этой теме было продиктовано, с одной стороны, интересом к взаимодействию быта и литературы, их взаимовлиянию, соотношению собственно литературных феноменов и явлений этикетно-бытовых. С другой — вниманием к возникновению, особенностям бытования, авторским версиям флорошифров в литературе, истокам появления такого рода иносказательных языков и их динамике. Этот аспект определил хронологический охват исследования: от пушкинской эпохи, времени становления и наибольшей востребованности «языка цветов», когда он оформляется в значимый сегмент художественного языка, функционирующего в. рамках многомерной культурной модели, до радикального поворота парадигмы растительной образности в середине века. Импульсом для настоящего исследования стало симптоматичное преодоление современным литературоведением поверхностно-снисходительного отношения к эстетике тривиального и расширение за счет междисциплинарного подхода смыслового объема интерпретации литературных явлений в историко-культурном контексте.
Актуальность предпринятого исследования обусловлена характерным для современных исследований обострением научного интереса к следующему кругу проблем:
1) поднятому в свое время в работах Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума, продолженному исследованиями В. Э. Вацуро, Л. И. Вольперт, Л. И. Петиной и др. вопросу о процессе взаимовлияния литературы и быта, когда литература непосредственно или опосредованно диктует бытовые ценности и ориентиры, а приоритетные для эпохи проявления быта отражаются в литературе и вызывают к жизни новые произведения;
2) воздействию массовой литературы, по преимуществу беллетристики, на формирование культурных представлений вне литературы, а с другой стороны, введения бытовых (в том числе этикетно-бытовых) реалий и представлений в литературные тексты разных жанров;
3) процессу культурной трансплантации в рамках взаимовлияния национальных литератур как процесса синхронного, так и опосредованно диахронно-го;
4) историко-литературному наполнению периферийных, но по-своему значимых и выразительных сегментов в обобщающей категории художественного языка, свойственного той или иной стадии литературного развития.
Источники исследования: круг источников исследования многообразен и разнопланов. Среди них следует выделить несколько типов. Для установления направления европейской рефлексии над образом восточной селамной (в том числе «цветочной») почты в работу были привлечены первые свидетельства французских и английских путешественников 18 в., подробно рассмотренные в научном плане впервые. Специфика рассматриваемого явления, со свойственным для него широким спектром контактов с художественной и внехудожест-венной сферами, потребовала выявления и привлечения французских и русских этикетно-бытовых пособий первой половины века, ботанических лексиконов и руководств к. 18 — 19 вв. Для установления структурно-типологических особенностей, системности «языка цветов» понадобилось расширение круга источников за счет обращения к архивным материалам, большинство из которых введены в научный оборот в обозначенном аспекте впервые. Это домашние альбомы, дневники, переписка, дилетантская проза первой половины XIX в. из архивов Санкт-Петербурга (РО ИР ЛИ РАН, РО РНБ). Для выявления общеэстетического формата флоропоэтики и семантических формул целенаправленно обследовались альбомные графические композиции, построенные на воспроизведении флороэлементов, литературная продукция этого плана и рекомендации «дамских» журналов.
Из собственно литературных (беллетристических) источников флоропо-этики в контекст исследования привлекались произведения французского сентиментализма и раннего романтизма (поэзия и проза). Для создания корректной картины ее усвоения использовались как оригинальные тексты в изданиях пушкинского времени, так и синхронные по времени переводческие версии. Выбор авторских версий использования флорообразности в поэзии (от Пушкина, Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Ознобишина до Фета, Майкова, Плещеева, А.К.Толстого) определялся задачей исследовать «вторичную семан-тизацию» этикетно-бытового шифра в формах литературной рецепции, разнообразия интегрирования в образный язык, выявления жанрово-контекстного объема литературной флоросимволики.
Методы исследования: в работе применен комплексный подход к интерпретации явлений литературно-бытового и собственно литературного ряда, продиктованный спецификой исследуемого материала, аккумулирующего в себе разнопорядковые культурные, художественные и бытовые явления. В исследовании используется преимущественно историко-литературный, а также историко-культурный, функциональный и семиотический методы анализа.
Научная новизна предпринятого исследования определяется полной неизученностью историко-литературного функционирования культурного концепта «язык цветов» и порожденной им поэтики в отечественной литературе и литературном обиходе дворянства пушкинского периода.
Эпизодический интерес к этой теме возникал в рамках единичных сравнительно-культурологических исследований описательного характера, выясняющих этикетное содержание и бытовое проявление поэтики «языка цветов» на материале французской и английской традиции этикетно-бытовой литературы. Эти аспекты представлены в монографии американской исследовательницы Беверли Ситон «Язык цветов: история» (Университет Вирджинии, 1995). Собственно «язык цветов» как частное проявление «цветочного» символизма очень скупо рассматривался в монографии Филипа Кнайда «Французская цветочная поэтика XIX века» (Оксфорд, 1986). Викторианский вариант «языка цветов» на фоне более широкой проблемы развития цветочного символизма был подробно проанализирован в кандидатской диссертации М. А. Ващенко «Цветочная символика в историко-культурологическом контексте» (М., 2000).
На материале русской литературы проблема «языка цветов» как этикетно-бытового и эстетического феномена в его историко-литературном преломлении и бытовании в строго научном плане еще не рассматривалась, в то же время эта привлекательная тема породила массу откровенно популяризаторской ненаучной продукции. Обращения исследователей к этой теме исчисляются несколькими конспективными очерками-статьями (М.А.Ващенко, И. В. Грачева, Л.В.Чернец), но и их можно упрекнуть в вольной или невольной необъективности и недостоверности.
Язык цветов" культурологи предлагают считать финальной стадией в развитии европейской традиции цветочного символизма. Принесенный в Западную Европу с Ближнего Востока (большинство источников указывают на Турцию) во второй половине XVIII в. в виде селама1, к началу XIX в. этот условный способ общения под влиянием европейских традиций символизации растений внутренне перестраивается и вскоре становится популярным литературно-культурным явлением, входящим в эстетизированный быт. Механизм смыслопорождения в поэтике «языка цветов» вызывал аналогию с неомифологизацией, так как заключался в закреплении мотивированных «личных» значений за теми или иными растениями и их кодификации.
Через французское (в меньшей мере немецкое) посредничество «язык цветов» входит и в живой обиход отечественной культуры дворянского периода, завоевывая в первую очередь сферы этикета и литературного быта.
Селамный пласт составил неотъемлемую часть исторического бытования русской дворянской культуры и художественной литературы пушкинского времени. Поскольку магистральная литература была дворянской, то перифе «Селам» — восточное приветствие, ставшее обозначением условного «предметного» языка, в основу которого положены рифменные созвучия. рийная по масштабам и сферам влияния поэтика «языка цветов» выступает как показательное явление на этой стадии развития русской литературы, а для литературного обихода этого периода селамные тексты весьма репрезентативны. Так, присутствие селамно ориентированной флоропоэтики обнаруживается в большой литературе прежде всего в жанровых формах лирики, ориентированных на художественные установки «легкой поэзии». Отмечены ею, хотя и в меньшей степени, объективированные большие художественные формы — поэма, роман в стихах, поэтическая драма.
В то же время приходится констатировать, что до сих пор «языку цветов» не определено место в системе культурно-литературной поэтологии первой трети XIX в. Его эстетическое и этикетно-бытовое наполнение не прояснено, не осмыслены механизмы его поэтики, не выяснен до конца вопрос об его масштабах. Неучет селамных аллюзий в образных рядах литературы этого времени ведет к невольному игнорированию некоторых параметров художественного языка эпохи, что сказывается на результатах истолковывания целого ряда текстов, как документально-бытовых, так и художественно-литературных.
Состояние «истории вопроса» продиктовало следующие цели и задачи нашего исследования:
— установление круга авторитетных инонациональных этикетно-бытовых и беллетристических источников, благодаря которым усваивалась и адаптировалась селамная поэтика;
— уяснение востребованности и основных стадий развития поэтики «языка цветов» в русской литературе как динамического процесса;
— определение культурно-литературного диапазона и уточнение форм проявления поэтики «языка цветов» в русской литературе и литературном обиходе первой половины XIX века;
— переоценка научной репутации отмеченного флорошифрами женского «письма» пушкинской эпохи, в частности литературно-бытовых документов А. П. Керн и А. А. Олениной;
— критический пересмотр переводов французских фрагментов в указанных документах и анализ системных ошибок перевода использованного в них условного «языка цветов»;
— определение жанрово-контекстной ориентации на поэтику «языка цветов» в отмеченных сферах и осмысление ее циклои контекстообразующих возможностей;
— выявление эволюции и основных форм флоросимволизма, ориентированного на поэтику «языка цветов», в русской литературной культуре первой половины XIX в.: а) своеобразие флористической семантики, ориентированной на разнообразные культурно-литературные сферы и пласты (от альбомных, эмблематических до литературных) в поэзии пушкинской порыб) неологиза-ция флористического языка в поэзии Фета — на общем фоне смены приоритетов в сфере растительной образности в середине века.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Новые интерпретационные подходы к анализу селамно ориентированной флоропоэтики дают многообразный материал для научного комментирования произведений Пушкина, Вяземского, Батюшкова, Грибоедова, Ознобишина, Фета. Выявленные этикетно-бытовые и собственно беллетристические источники отечественного варианта «языка цветов» составляют первый научный вклад в источниковедческий аспект исследуемой темы.
Источниковедческие и текстологические восполнения, исправления и уточнения переводов сентименталистских произведений и французских литературно-бытовых документов Керн и Олениной должны быть учтены исследователями, обращающимися к этим источникам, поэтому их необходимо учесть при переиздании и комментировании.
Обращение к конкретным анализам художественных произведений поэтов пушкинской поры, а также Фета и его современников позволяют выстроить более полную и адекватную картину эпохального литературного движения в его конкретных проявлениях. Такого рода наблюдения, выводы и оценки могут быть использованы в вузовской практике спецкурсов и спецсеминаров по истории русской поэзии.
Интегративно-комплексная методика анализа, представленная в диссертации, может быть использована при оценке сходных и малоисследованных явлений литературного быта.
Опубликованные материалы диссертации сделали содержащиеся в них источники, наблюдения и выводы доступными для исследователей литературы и культуры пушкинской эпохи.
Апробация работы.
Основные стадии исследования и положения диссертации в течение 15 лет излагались в виде докладов на международных конференциях и симпозиумах в Белостоке (Польша), Москве, Санкт-Петербурге, Душанбе, Омске, Минске, Владимире, на всесоюзных и всероссийских конференциях, межвузовских семинарах, летних школах (Екатеринбург, Томск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Ишим, Пятигорск, Пушкинские Горы, Царское Село, Псков, Тверь, Тарханы, Тамбов, Пенза, Великий Новгород, Ярославль). По теме диссертации опубликовано 53 работы, в том числе монография (20 п. л.).
Диссертация в целом обсуждалась на заседании отдела Новой русской литературы ИР ЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
Структура диссертации. Поставленные задачи определили структуру исследования, состоящего из трех разделов. В первый раздел «Язык цветов» в литературно-бытовом сентиментализме конца XVIII — первой трети XIX вв." вошли две главы. На первом этапе освоения отечественной культурой селамной поэтики определяющим как в сфере быта, так и литературы был «французский фактор» (ср. «Любви нас не природа учит, а Сталь или Шатобриан»). Поэтому в первой главе рассматриваются флористические коды и сюжеты французской прозы 1780−1820-х гг. как смыслопорождающий фон и опосредованный источник поэтики «языка цветов» для русской дворянской бытовой культуре первой трети XIX в. Во второй главе первого раздела «язык цветов», согласно заявленной в первой главе установке о его движении от литературы к быту, рассматривается как элемент художественного языка литературно-бытовой продукции пушкинской поры: рукописных альбомов и интроспективного женского «письма» (дневник А. П. Керн, дневник и литературные опыты А.А.Олениной).
Второй раздел «Литературная рецепция „языка цветов“ в русской поэзии первой половины XIX века» состоит из двух глав. По мере движения времени и усвоения опыта взаимообмена естественно менялись тематические предпочтения, временные ориентиры и максимально активные источники флористического языка в собственно художественных и культурно-бытовых произведениях 1800−1830 гг. В первой главе рассматриваются селамные акценты некоторых флористических мотивов лирики А. С. Пушкина и его современников: К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, в поэме Е. А. Баратынского «Бал», «гаремной» поэме Д. П. Ознобишина, в «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Вторая глава посвящена семантике «Онегинского букета», — своего рода энциклопедического свода флоросимволики пушкинской эпохи, опирающегося на массу разнообразных культурно-литературных, в том числе и этикетно-бытовых источников.
Третий раздел называется «Флоросемантика в русской литературе 18 501 860-х гг. и своеобразие флористического языка в поэзии А.А.Фета», он состоит из двух глав. В этой части исследования, согласно заявленной установке на выявление динамики исследуемого явления, рассматриваются принципиальные изменения семантики растительной образности, характерные для антипоэтической эпохи. 1850-е гг. обнаруживают отход от флоросемантических процессов, свойственных предшествующему времени и проявляют расширение флористических реалий и их более тесную связь с природой и конкретными пейзажами за счет понижения иносказательности и эмблематичности. В первой главе «Смена приоритетов в сфере растительной образности в русской литературе 1850−1860-х гг.» эти процессы рассматриваются на материале лирики современников Фета — А. Н. Майкова, А. А. Плещеева, А. К. Толстого. В эту главу привлечены прозаические произведения И. С. Тургенева 1850-х гг. («Свидание»,.
Дворянское гнездо"), так как они проявляют парадоксальную закономерность сохранения растительной, в том числе флористической, иносказательности (хотя и в виде факультативного момента) в повествовательных произведениях как большого, так и малого жанров (последнее демонстрируется на примере баллады А. Н. Майкова «Емшан»).
Вторая глава «Спектр флоропоэтических мотивов в лирике А.А.Фета» целиком посвящена поэзии этого автора. Центральным моментом в ней выступает анализ селамного мотива в его связи с эволюцией ориентальной темой в лирике Фета. Он рассмотрен на фоне амплитуды флористического репертуара и новых тенденций растительной образности, воспринятых поэтом. Заключает главу этюд «Энциклопедия розы» — он рассматривает динамику этого образа, проходящего через всю поэзию Фета — от 1840-х к 1890-м гг. Семантика розы у Фета демонстрирует пересечение восточных и западных акцентов в ее символизации.
В заключении сформулированы типологические ферты селамной поэтики в ее отечественном варианте, подведены общие итоги исследования, сформулированы его выводы, намечены перспективы дальнейших исследований флоро-мотивов в русской поэзии.
Общий объем диссертации — 425 страниц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Поэтика «языка цветов» в том виде, в каком она сложилась и развивалась в отечественной поэзии и литературном обиходе первой половины XIX в., представляет собой многомерное явление.
За цветами закрепляется не только утилитарное использование (декоративное, в виде значимого аксессуара в костюме), но и знаковое, с широким спектром проявлений значения цветка. В сфере чувств и отношений прежде всего возникает возможность использования цветка как конвенционального знака. В первой трети XIX в. постепенно оформляется селамная разновидность флоропоэтики. Спектр ее проявления в литературных текстах не ограничен рамками этикетно-бытовых проявлений. Амплитуда флорообразности колеблется от вписывания селамных акцентов в широкий фон эмблематики до обыгрывания их в индивидуальной авторской метафорике.
Французская сентименталистская беллетристика, наиболее естественно включившая поэтику «языка цветов» в сферу своего художественного кругозора как объект и как инструмент художественного изображения, не совпала с магистральным движением отечественной литературы первой половины XIX в. Сентименталистская проза (произведения Бернардена де Сен-Пьера, Ж.-Ж. Руссо, С.-Ф. Жанлис, Ю. Крюденер, Реверони Сен-Сира), отмеченная селамны-ми кодами и сюжетами, хотя и оставалась в круге чтения этого времени, не была столь широко или определенно воспроизведена в русской литературе. Но, констатируя этот объективный факт (вспомним выглядящий в 1820-е гг. старомодным на фоне романтических новинок библиотеки Онегина круг чтения Татьяны Лариной), не следует преуменьшать и непосредственного, и опосредованного влияния французского «фактора». Он прежде всего воздействовал на отечественный вариант флорошифра в альбомных версиях.
В контексте индивидуального литературного творчества поэтика «языка цветов» не ограничена в своем смыслопорождении формулами этикетных списков-регламентов. В творчестве разных авторов актуализируются то те, то другие свойства растительного образа, когда за его знаковой семантикой встает природный прообраз, и наоборот, когда под природной сущностью просматривается символический ряд. Каждый избранный нами автор демонстрирует оригинальный и индивидуальный путь освоения флоросимволизма.
В разных формах и жанрах русской литературы поэтика «языка цветов» проявляет себя с неодинаковой степенью полноты и последовательности, и поэтому нуждается в неодинаковой мере дешифровки цветочного кода.
В лирических жанрах больше ощущается необходимость дешифровки флоропоэтики, и эта установка важна для читателя. В нелирических — потребность в такой дешифровке приглушена или вытеснена на смысловую периферию, так как флоропоэтика направлена здесь на характеристику персонажей.
В некоторых случаях микропроцессы ассоциативного сцепления, пробуждаемые этой поэтикой, оказываются самодостаточными. В эстетическом задании подобных текстов нет установки на непременное последовательное и полное постижение флорошифра (такова иносказательная поэтика сна Софьи в «Горе от ума» Грибоедова — его черновая и окончательная редакции). Это особенно заметно на фоне использования флорошифра в тайнописных альбомных композициях или интроспективных жанрах (дневнике-переписке А. П. Керн, автобиографической дилетантской прозе А. А. Олениной).
Избирательный, не дублирующийся диапазон интереса к поэтике «языка цветов» и оригинальное использование ее возможностей, их обыгрывания предлагает творческая практика П. А. Вяземского. В сатирической современной антологии «Цветы» (1817) поэт демонстрирует подчинение селамного семантического кругозора иным художественным установкам: как близким — типа антологического мотива, так и далеким — сатирически-риторическому пафосу. В «цветнике» послания «К подруге» (1815) обнаруживаются умело обыгранные отражения этикетного селама, — штрих, подчиненный доминирующему «идеальному топосу» усадебного сада с его идиллическим ореолом.
К. Н. Батюшков, при всей «цветочной» насыщенности его поэзии, весьма деликатно обращается с ее селамной направленностью. Он ограничивается ал-люзийными отсылками к «языку цветов», включая его в состав комплексных по семантике флорообразов, соединяющих разные интерпретационные контексты — восточные, мифологические, магические, эмблематические. Отчуждая се-ламную семантику от соприродного ей ботанического контекста (в отличие от Вяземского, который, как показывает анализ, умело и остроумно обыгрывает этот фон), Батюшков предпочитает включить ее в более широкие — эмблематические — контексты, овеянные стилевой атмосферой ампира, вписав в близкие этому стилю культурные ряды (см. его эпитафийные произведения).
В лироэпическом жанре поэмы («Бал» Баратынского) и стихотворной драме («Горе от ума» Грибоедова), фрагменты которой соотносимы с теми или иными лирическими, в частности идиллическими и балладными образами, происходит показательная объективация флористического кода, воспроизводящего разные сферы бытовой дворянской культуры. И Грибоедов, и Баратынский используют флоропоэтику для косвенной характеристики женской психологии и в то же время соотносят ее с символико-онтологическими образами («бала», обмана, иллюзий).
На этом фоне выделяется «гаремная» поэма «восточника» Д. П. Ознобишина «Селам, или Язык цветов», целиком построенная на мотиве восточного селама. Для литературного процесса 1830-х гг. ее появление оказалось запоздалым, а содержание тривиальным. Основной задачей поэмы, ставшей беллетристическим предисловием к русской версии «алфавита Флоры», было эстетизирование и русифицирование культурной практики использования «языка цветов».
Как показало выявление семантики экономного, и в то же время по-своему энциклопедического «Онегинского» букета, Пушкин находит очевидное равновесие между органическими и иносказательными возможностями флористики.
Поэт, располагая свой объективированный «букет» в объемном романном семантическом пространстве, во многом опережает дальнейшее развитие поэтической флористики и ландшафтных ходов в романной культуре середины века. Во-первых, цветок как реалия природного или культурного пейзажа (см. природное окружение могилы Ленского и сад Лариных), во-вторых, это цветок, сотнесенный с персонажем, его культурным, духовным и биографическим опытом, как прием авторской характеристики героев и создания системы образовв-третьих, цветок как знак эпохального времени и культуры (например, в контексте дворянского альбома). Поэтому один и тот же эпизод с включением флористических и дендрологических реалий может быть прочитан в разных системах смысла: героико-романтическом, фольклорном, факультативно — в соотнесении с собственно литературной традицией.
Русская поэтическая флористика обживает две основные пространственно-временные модели, которые соотносимы с двумя формами этикетно-бытового преломления флорошифра: интерьерной (убранство дома, костюм, букет) и экстерьерной (усадьба, парк-сад, цветник, поле, луг, кладбище). Эта, казалось бы, формальная доминанта в проявлении флоропоэтики позволяет выявить у разных авторов сущностные различия в ее аксиологии. Если «онегинская» флористика максимально экстерьерна (ср.: все упоминаемые в романе цветы сосредоточены в ареале деревни), то в «городской» поэме Баратынского — господствует интерьер и дамские уборы.
Можно утверждать, что интерес к флоропоэтике в русской литературе первой трети XIX в., совпавший с апофеозом моды на нее в бытовой культуре этого периода, продуцирует создание в поэзии этого времени флористической образности эмблематико-символического характера. Смена основ образной конвенциональности произойдет уже в лирике Пушкина: его «Цветок» (1828) построен на последовательном отказе от эмблем сентименталистского стиля, в наполнении их непосредственным, конкретным психологическим переживанием. Ср.: «Цветок» (1876) Вяземского по внешним признакам — парафраз одноименного пушкинского стихотворения базируется на другой установке: поэт выступает ревнителем и хранителем культурной памяти и культурного языка своего поэтического поколения: «Его <цветок.— К. Ш.> мы свято бережем / В заветной книге дум сердечных, / Как весть, как песню о былом, / О днях так грустно скоротечных. // Будь ласковой рукой храним, / Загробным будь моим преданьем /Ив память мне друзьям моим / Еще повей благоуханьем».
1850−1860-е гг. знаменуют отчетливый поворот в развитии флористической темы как в поэзии, так и в прозе. Привычные для культурного обихода и легкой поэзии предшествующего времени флороэмблемы и иносказания вытесняются эстетикой достоверности. Цветок все в большей мере становится частью сопряженного с ним садового (паркового) или природного пейзажа. Из литературы как бы вымываются даже упоминания пионов, ирисов, тюльпанов, жасмина, на первый план выходит цветок в своей непарадности, невыделенно-сти из окружения, отсюда расцветающие или доцветающие садики А. Н. Майкова, А. Н. Плещеева, где пышные, культивируемые в садах и оранжереях цветы подчеркнуто минусуются («нет в нем нежных лилий, горделивых георгин»).
Показательна в этом плане судьба наиболее эмблематичного цветка — незабудки. В поэзии середины XIX в. она теряет свою этикетность, сочетается не с эмблематической розой, а с болотной растительностью, используется как сезонная примета (А.Н.Майков).
Отзвуки этикетно-символических флорошифров оказались более устойчивыми не в сфере собственно лирики, а в пограничной зоне лиро-эпических произведений малой формы (баллады А. Н. Майкова, А. К. Толстого) и реалистической прозы середины XIX в. («Свидание» и «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева).
Поэтическое творчество Фета занимает особое место в русской литературе середины и второй половины XIX в. Оно объективно служит переходным звеном от поэзии пушкинской поры к поэзии серебряного века. Флористический диапазон лирики Фета позволяет увидеть и процессы, которые ознаменовали флористику 1850−18 670-х гг., и устойчивый интерес самого поэта к наработкам предшествующего времени. Поэзия Фета в известном отношении превращается в длящуюся память двух чрезвычайно значимых явлений поэтической флорообразности пушкинской поры. Об этом свидетельствует, во-первых, устойчивый интерес Фета к селамным мотивам, во-вторых, многократное обращение поэта (89 случаев) к образу царицы цветов — розы. Фет менее всего озабочен сохранением устоявшихся формул и канонов. В его раннем стихотворении «Язык цветов» (1847) селамные цветочные мотивы окрашены акцентаци-ей связи с Востоком, а в позднем «Хоть нельзя говорить.» (1887) цветочный набор выстраивает и смысловой, и композиционный ряд миниатюры. Обращение Фета к розе демонстрирует максимальный диапазон значений этого цветка и богатство культурных контекстов, связанных с интерпретациями розы: от эротически-игривых «Двух роз» (1840) до цветка, несущего импульс вдохновения в «Осенней розе» (1891). В то же время целый ряд стихотворений Фета проявляет господствующую в лирике его современников тенденцию включения флорообразов в естественный садовый или природный контекст («Колокольчик», «Первый ландыш» и др.). Соединение разных по времени тенденций дает основание рассматривать флористику Фета как завершающий этап эволюции флористической образности в русской поэзии XIX столетия.
На рубеж XIX—XX вв. пришлась своеобразная попытка реанимации этикетного «языка цветов» в сфере бытовой культуры. Об этом можно судить по появлению вновь приобретающих популярность пособий по «языку цветов» (например, «Язык цветов» 1905 г.) и руководств, содержащих пространные селамные списки («Жизнь в свете, дома и при Дворе» 1890 г., «Искусственные цветы и растения» 1898 г.). Входят в обращение почтовые открытки «Язык цветов».
Литература
реагировала на это явление эпизодически, в основном редкими стилизациями (К.Бальмонт, И. Северянин). Символистская поэтика вновь вернула флороязык в активный фонд образного словаря, но феноменология флорообразности меняется: в ее иносказательности преобладают неисследимые смыслы, а те, что прочитываются, тяготеют к отвлеченно-мистическим коннотациям (В.Соловьев, А. Белый, Вяч. Иванов). На этом фоне выделяется флористика А. А. Блока. При следовании общей символистской тенденции поэт, обращаясь к флорообразности, моделирует ее, отталкиваясь от концептов с определенным смысловым полем, отсылающим к разнообразным традициям (фольклорным, религиозным, куртуазным и т. д.). Эта перспективная тема ждет своих исследователей.
Список литературы
- Источники Печатные издания
- Анакреоновы стихотворения, с присовокуплением краткого описания его поэзии. Пер. с греч. Ивана Мартынова. СПб., 1801.
- Анненков Н.И. Ботанический словарь Н. Анненкова. Новое, испр., пополнен. и расширен, изд. СПб., 1876−1877.
- Анненков Н.И. Ботанический словарь. Справочная книга для ботаников, сельских хозяев, садоводов, лесоводов, фармацевтов, врачей, дрогистов, путешественников по России и вообще сельских жителей. Сост. Н. Анненков. СПб., тип. Имп. Акад. наук, 1878.
- Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений: В 2 т.— M.- JL, 1936. — Т. 2.
- Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы.— М., 1983. (Библиотека поэта. Большая серия).
- Бернарден де Сен-Пьер. Индейская хижина. Сочинение г. де Сент-Пьера. Перевела с французского К. С[виньина]. М., 1794.
- Бернарден де Сен-Пьер. Павел и Виргиния. [Paul et Virginie] [Роман] Пер. с франц. Ек. Бекетовой. СПб., А. С. Суворин, [1892].
- Бернарден де Сен-Пьер. Поль и Виржини. Рассказ по Бернарден де-Сен-Пьеру, переделал Т. Н. Львов. М., 1904.
- Бернарден де Сен-Пьер. Путешествие ученых в разные части света для изыскания истины, обретенной ими в индейской хижине у доброго пария.
- Сочинение славного французского писателя госп. Десент-Пьера. Перевод с французского языка Е. П. Свиньиной. М., в типографии Христофора Клау-дия, 1805.
- Бернарден де Сен-Пьер Ж.-А. Поль и Виргиния. Индийская хижина.— М.- Л.: Academia, 1937.
- Бернарден де Сен-Пьер. Поль и Виржиния. Индийская хижина. Пер. с франц. А.Эфрос.— М., 1913.
- Бернарден де Сен-Пьер. Поль и Виржиния. Роман. / Пер. с франц. Н. Д. Эфрос. — М., 1962.
- Валерия, или Письма Густава Фон Линара к Ернесту Фон Г. Новейший роман Баронессы Фон Криденер. С Французскаго на Немецкий язык переведено Миллером, а с онаго на Российский М. Б. М., 1807.
- Вельтман А. Ф. Сердце и Думка: Приключение. Соч. А. Вельтмана. 4.1−4. М., тип. Н. Степанова, 1838.
- Вельтман А. Ф. Сердце и думка: Приключение: Роман в 4 ч. — М., 1986.
- Висковатов С. И. Гамлет. Трагедия в пяти действиях. Подражание Шекспиру. СПб., 1811.
- Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: в 6 т.— СПб., 1880. — Т. 3.— 18 081 827.
- Вяземский П. А. Стихотворения.— Л., 1986.— (Библиотека поэта).
- Глинка Ф. Н. Письма к другу, содержащие в себе замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, Федора Глинки, сочин. Писем русского офицера. Ч. 1−3. СПб., 1816−1817.
- Глинка Ф. Н. Письма к другу. М., 1990.
- Делиль Ж. Сады. С испр. и дополн. издания перевел Александр Палицын.— Харьков, 1814.
- Дневник Annette: Анна Алексеевна Оленина.— М., Фонд им. И. Д. Сытина, 1994.
- Дневник Анны Алексеевны Олениной (1828—1829) / Предисл. и ред. О. Н. Оом.— Париж, 1936.
- Жанлис С.-Ф. Артур и Софрония, или Любовь и Тайна. Повесть Госпожи Жанлис. Перевел с французского языка Яков Лизогуб. СПб., печатано в Императорской Типографии, 1807.
- Жанлис С.-Ф. Жанлис. Безрассудные обеты, или ослепление. Новый роман Госпожи де Жанлис, сочинительницы Театра воспитания, Адели и Теодора и проч. Перевод с французского. Ч. 1−3. М., 1802.
- Жанлис С.-Ф. Меланхолия и воображение. Сочинение госпожи Жанлис // Вестник Европы. 1803. Ч. IX-X. № 12−13.
- Жанлис С.-Ф. Новые повести г-жи Жанлис. Изданные [и переведенные] Иваном де ла Кроа. Ч. 1. Митава, 1805.
- Жанлис С.-Ф. Новые повести графини Жанлис. Перевел к[нязь] П. Шаликов. Ч. 1−2. М., 1818.
- Жанлис С.-Ф. Повести госпожи Жанлис, переведенные Н. Карамзиным. Изд. второе. Ч. 1—2. М., в типографии С. Селивановского, 1816.
- Жанлис С.-Ф. Цветы, или Артисты. Сочинение госпожи Жанлис. Перевел с французского В. Ч.в. М., в типографии А. Воейкова и комп., 1811.
- Жанлис С.-Ф. Шесть нравственных повестей: Соч. гр. Жанлис. М., 1824.
- Жуковский В. А. Сочинения: В 3 т.— М., 1980.— Т. 1.
- Керн А. П. Дневник для отдохновения // Керн А. П. (Маркова-Виноградская). Воспоминания. Дневники. Переписка.— М., 1974.— С. 125— 234. — (Серия лит. мемуаров).
- Керн А.П. Дневник 1820 г. //Керн А. П. Воспоминания.— Л.: Academia, 1929.—С. 73−241.
- Майков А.Н. Избранные произведения. — (Л., 1977. — (Библиотека поэта. Большая серия).
- Мольри. Грамматика любви, или искусство любить и быть взаимно любимым. Соч. Г. Мольера. Пер. с фр. С. Ш. М., 1831.
- Ознобишин Д.П. Селам, или Язык цветов. СПб., Типография министерства народного просвещения, 1830.
- Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: в 2 кн. — М., 2001. — Кн. 2.
- Павел и Виргиния. / Пер. с фр. А.Щодшивалова.— М., в университетской типографии у В. Окорокова, 1793.
- Павлова К. Собр. соч.: В 2 т.— М., MCMXV.— Т. 2.
- Пушкин А. С. Сочинения: В 6 т.— СПб., 1907 — Т. 1.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В XVII т.— М.: Изд-во АН СССР, 1937.— Т. VI.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В XVII т.—М.- Л.: Изд. АН СССР, 1938.— Т. VIII.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т.— СПб.: Наука, 1999. — Том первый. Лицейские стихотворения 1813−1817.
- Реверони Сен-Сир. Сабина Герфельд, или Опасности воображения. Прусские письма, собранные Г-м Сен-Сир. Перевод с французского. Ч. 1−2. М., 1802.
- Ростопчина Е. П. Тетрадь любви. СПб., 1836.
- Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза, или Письма двух любовников, жителей одного небольшого города у подошвы Алпийских гор, собранные и изданные
- Ж.Ж.Руссо. Перевел с французского Александр Палицын. М., в типографии Ив. Глазунова, 1803−1804.
- Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. Пер. с франц. Н. Немчиновой и1. A.Худадовой.— М., 1968.
- Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: в 3 т. — М., 1961. — Т. 3.
- Соллогуб В.А. Букеты или Петербургское цветобесие. Шутка в 1-м д. Соч. гр. В. А. Соллогуба. СПб., тип. Имп. Акад наук, 1845.
- Соллогуб В.А. Сочинения графа В. А. Соллогуба: В 2 т.— СПб., 1855.— Т. 2.
- Соллогуб В. А. Тридцать четыре альбомные стихотворения графа
- B.А.Соллогуба. Тифлис, 1855.
- Сталь Ж. де. Сталь-Голштейн. Дельфина. Пер. с французского. М., 1804.
- Стерн Л. Письма Иорика к Елизе и Елизы к Иорику. Пер. с фр. Апухтин. М., 1789.
- Толстой А.К. Полной собрание стихотворений: в 2 т. — Л., 1984. — Т. 1. Стихотворения и поэмы.
- Фет А. А. Стихотворения А. Фета. М., в типогр. Н. Степанова, 1850.
- Шатобриан Ф.Р. Мученики, или Торжество христианской веры. Сочинение Ф. А. Шатобриана. Пер. с фр. Александр Корнелиус. Ч. 1−3. М., 1816.
- Фет А. А. Стихотворения и поэмы / Подг. текста и прим. Б. Я. Бухштаба и М. Д. Эльзона. —Л., 1986. — (Библиотека поэта. Большая серия).
- Фет А. А. Собр. соч. и писем: в 20 т. / Под общ. ред. Г. Д. Асланова и др. — СПб., 2002. — Т. 1. Стихотворения и поэмы 1839−1863 гг. / Ред. тома
- Н. П. Генералова, В. А. Кошелев, Г. В. Петрова.
- Флориан Ж.-П.-К. Естелла. Пастушеская повесть г. Флориана, сочинителя Нуммы Помпилия. СПб., иждивинием И. К. Шнора, 1789.
- Флориан Ж.-П.-К. Эстелла. Новой пастушеской роман г. Флориана. Перевел с французского М.К. М., в Унив. Тип. у В. Окорокова, 1789.
- Французская элегия XVIII—XIX вв. в переводах поэтов пушкинской поры.— М., 1989.
- Цветы Греческой поэзии, изданные Николаем Кошанским. М., 1811.
- Шатобриан Ф.Р. Атала. Пер. В. Садикова. — СПб., [1891].
- Шатобриан Ф.Р. Атала. Рене. Пер. с франц. М. А. Хейфеца, под ред. и с предисл. прив.-доц. гр. Ф.Г. де-Ла-Барт. — М., [1913].
- Шатобриан Ф.-Р. де. Атала. Рене Повести. Пер. с фр. / С послесл. Ф. де Ла Барта и коммент. — М., 1992.
- Эпиграммы греческой Антологии / Комм. М. Гаспарова и Ю. Шульца.— М., 1999.
- Язык цветов // Аглая.— 1808.— Ч. 3.— Кн. 2. — Сентябрь. — С. 68−69.
- Chateaubriand F.-R. Les Martyrs et Le Dernier des abencerages par M. Le Viconte De Chateaubriand. Paris, 1854.
- Genlis S.-F. Arthur et Sophronie, ou L’Amour et le Mystere // Nouveaux contes moraux, et nouvelles historiques- par Madame De Genlis. Nouvelle edition. Paris, 1815. Tome VI.
- Genlis S.-F. De la belle Paule //Zuma. De la belle Paule. De Zeneide. Des Roseaux du Tibre, etc. Par Madame La Contesse de Genlis. Paris, 1817.
- Genlis S.-F. Fleurs, ou Artiste // La Botanique historique et litteraire. A Paris, MDCCCX. P. 287−355.
- Genlis S.-F. Herbier Moral, ou Recueil de fables nouvelles et autres poesies fugitive- suives d’un recueil de Romances d’education. Par Madame de Genlis. Paris, 1801.
- Genlis S.-F. Les Fleurs Funeraires, ou La Melancolie et l’Imagination //Nouveaux contes moraux, et nouvelles historiques- par Madame De Genlis. Nouvelle edition. Paris, 1815. Tome IV.
- Genlis S.-F. Nouveaux contes moraux et nouvelles historiques. Paris, 1802
- Genlis S.-F. Nouveaux contes moraux, et nouvelles historiques- par Madame De Genlis. 3 vol. Paris, 1802.
- Aime Martin. Lettres a Sophie sur la physique, la chimie, et l’Histoire naturelle. Paris, MDCCCXXII. Tome II.
- Alphabet-Flore.—Paris, 1837.
- Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie.— Paris, 1829.
- Boitard M. La botanique des dames: III tome.— Paris, 1821.
- Castel R. Les Plantes. Paris, 1797.
- Chateaubriand F.-R. Atala, ou Les Amours de Deux Sauvages dans le desert. Paris, 1801.
- Chateaubriand F.-R. Atala. Rene. Les Aventures du Dernier Abencerage. Paris, 1962.
- Chenier A. Poesies. Paris, 1888.
- Delachenaye B. Abecedaire de Flore ou Langage des fleurs.— Paris, 1811.
- Delille J. Les jardins. Poeme.— A Paris, MDCCCVIII.
- Dictionnaire du langage des fleurs // Mines de L’Orient. 1.— Vienne, 1809.— P. 36−42.
- Dubos C. Les Fleurs, idylles.—Paris, 1808.
- Flore des jeunes personnes, ou lettres elementaires sur la botanique. Paris, 1804.
- Florian. Estelle, pastorale.— Paris, 1809.
- Grandville. Des fleurs Animees. London, 1840.
- Hafls. Eine Sammlung persischer Gedichte. Nebst poetischen Zugaben aus ver schiedenen Volkern und Landern. Von G. Fr. Daumer. Hamburg, 1846.
- Hammer-Purgstall J. Fundgruben des Orients. 2 vol.— Wienna, 1809−1811.
- Latour Charlotte de. Le langage des fleurs.— Paris, 1819.
- Latour Charlotte de. Le langage des fleurs. Sixieme edition.— Paris, 1845.
- Leneveux L. P. Nouveau manuel des fleurs emblematiques ou leur histoire, leur symbole, leur langage.— Paris: Roret, 1833.
- Les Fleurs et les fruits, Abecedaire et syllabaire, avec de petites le3ons tirees de l’Histoire des plantes.— Paris, 1825.
- Lettres of Lady Mary Wortley Montagu, written during her travels in Europe, Asis and Africa. London, 1763.
- Lettres Mary Montegu. Paris, 1805.
- Marryat F. The Floral Telegraph.— London, 1836.
- Miller Dictionnaire jardinier. Paris, 1786−1787.
- Moleri. Code de l’amour.— Paris, 1829.
- Phillips H. Flora Historica, or the three seasons of the British Parterre.— London, 1824.
- Richardson S. Lettres anglaises. V. 1−14.— Paris, 1777.
- Voyages du S-r A. de La Motraye, en Europe, Asie, Afrique.— A la Haye, M DCC XXVII.— Tome premier. Chap. XV «Galanterie cruelle des Turcs». — P. 290−293.1. Архивные материалы1. PO ИР ЛИ РАН
- Альбом А. H. Гасвицкой, 1807//ИРЛИ.-Р. 1. Оп. 42. -№ 5.
- Альбом С. А. Зыбиной, 1838 1855 //ИРЛИ -Р. 1.-Оп. 42.-№ 10.
- Альбом В. И. Панаева, 1816−1823−1839 гг. //ИРЛИ. Р. 1. — Он. 42. -№ 21.
- Альбом С. К. Перовской, 1838 г.//ИРЛИ.—Р. 1. — Оп. 42. — № 22.
- Альбом неизвестного, 1820-е гг. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. — № 23.
- Альбом Е. О.Ренке, 1814 г.//ИРЛИ.-Р. 1. Оп. 42.-№ 24.
- АльбомА. Ф. Чикуановой, 1832 г. //ИРЛИ.-Р. 1.-Оп. 42.- № 27.
- Альбом с записями и рис., 1758 г.//ИРЛИ.-Р. l.-On. 42.- № 31.
- Альбом неизвестного лица, 1820 г. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. — № 3 3.
- Альбом неизвестного лица, 1795−1807 гг.//ИРЛИ.-Р. 1.-Оп. 42.-№ 35.
- Альбом неизвестного лица, 1812−1814 гг. // ИРЛИ. Р.1. — Оп. 42. -№ 36.
- Альбом неизвестного лица, 1820-е гг. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. — № 37.
- Альбом неизвестной, 1831−1832 гг.//ИРЛИ.-Р. 1. Оп. 42.-№ 40.
- Альбом неизвестного, 1823−1842 гг.//ИРЛИ.-Р. 1.-Оп. 42.- № 45.
- Альбом неизвестного, 1833−1845 гг. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. — № 46.
- Альбом Е. А. Тучковой, 1840−1871 гг.//ИРЛИ.-Р. 1.-Оп. 42, — № 51.
- Альбом С. В. Ушаковой, 1854, 1854 г.//ИРЛИ. Р. 1.-Оп.42.- № 55.
- Альбом неизвестного лица, 1824 г., 1857 г. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. -№ 56.
- Альбом имп. Марии Федоровны, 1854 г. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. -№ 64.
- Альбом неизвестной, 1837−1873 гг.//ИРЛИ.-Р. 1. Оп. 42. — № 71.
- Альбом из семьи Нарышкиных, 1817 г.// ИРЛИ -Р. 1. Оп. 42. -№ 76.
- Альбом неизвестной, 1827−1850 гг. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. -№ 78.
- Альбом А. Л. Бржеской, 1840−1850 гг.//ИРЛИ. Р. 1.-Оп. 42.-№ 84.
- Альбом неизвестной, 1813−1820 гг. // ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42. — № 87.
- Альбом неизвестной девицы, 1838 1850 гг. // ИРЛИ. — Р. 1. — Оп. 42. -№ 90.
- Альбом М. А. Струговщиковой, 1808−1821 гг. //ИРЛИ. Р. 1. — Оп. 42.91.
- Альбом неустановленного лица, 1800−1827 гг. // ИР ЛИ. Р. 1. — Оп. 42.- № 93.
- Альбом (неустановленное лицо из семьи баронесы фон Гиц), 1823−1828 гг.// ИРЛИ.-Р. 1.-Оп. 42.-№ 98.
- Альбом <Вадковской>, 1817−1842 гг. // ИР ЛИ. Р. 1. — Оп. 42. — № 99.
- Альбом Л. С. Даргомыжской, 1830 г. // ИР ЛИ. Ф. 296. — 4227 ХХИ.б.5.
- Керн А. П. Дневник в письмах на франц. языке, 1820 г. («Journal recreatif') // ИР ЛИ.- Ф. 126. — 27. 257 / CXCV6. 52.
- Выписки из „Подробного словаря увеселительного и ботанического садоводства“, 1820−1830- гг. // ИР ЛИ. — Ф. 213. — № 38.147. „Селам или Язык цветов“ (цензурный экземпляр), 1830 г. // ИРЛИ. — Ф. 213. —№ 37.
- Переписка А. А. Фета и А. Л. Бржеской, 1863 1892 гг. // ИРЛИ. — Ф. 93. 20 279/CXXXVIII. 6.11. РО РНБ
- Альбом С.Н. и П.Н. Сулима 1833−1882 гг. (из собрания Половцовых) // РНБ.—Ф. 601.—Оп. 851.-№ 1960.
- Альбом С. Н. Сулима, 1823−1888 гг. (из собрания Половцовых) // РНБ.— Ф.601.—Оп. 851.-№ 1961.
- Альбом семьи Сулима, 1813−1852 гг. (из собрания Половцовых) //РНБ.—1. Ф. 601.—Оп. 851. -№ 1962.
- Альбом 1838−1862 гг. (из собрания Половцовых)//РНБ.— Ф. 601.—1963.
- Альбом 1805−1822 гг. (из собрания Половцовых) // РНБ.— Ф. 601.— № 1964.
- Альбом В. Habbe (?) 1810−1870 гг. (из собрания Л. И. Жевержеева) //1. РНБ.—Ф. 281.- № 50.
- Альбом 1821−1823 гг. (из собрания Л. И. Жевержеева) //РНБ.— Ф. 281.—51.
- Альбом 1830−1885 гг. (из собрания Л. И. Жевержеева) // РНБ.— Ф. 281. —52.
- Альбом неустановленного лица, 1804−1809 гг. // РНБ.— Ф. 1000.— Оп.4.—Е. х. 126.
- Альбом неустановленного лица <сестер Софьи Гавриловны и Веры ?>, 1816−1831 гг.// РНБ.—Ф. 1000,—Оп.4.—Е. х. 129.
- Альбом неустановленного лица <Людмилы>, 1831−1839 гг. // РНБ.— Ф.1000.—Оп.4.—Е. х. 130.
- Альбом неустановленного лица, 1833−1835 гг. // РНБ.— Ф. 1000.— Оп.4.—Е. х. 131.
- Альбом неустановленного лица <Марии>, 1845−1852 гг. // РНБ. Ф. 1000.-Оп. 4. — Е. х. 132.
- Альбом неустановленного лица <Александры>, 1846−1848 гг. // РНБ.— Ф.1000.—Оп.4.—Е.х. 133.
- Андро А. А. (Оленина). Роман нашего времени (черновая первоначальнаяредакция), 1831 г. // РНБ.—Ф. 542,—Е. х. 935.
- Андро А. А. (Оленина). Роман нашего времени (черновая вторая редакция), 1831 г.//РНБ.— Ф. 542.—Е.х. 936.
- Андро A.A. (Оленина). Адресованные ей стихотворения, ок. 1826 г. // РНБ.1. Ф. 542.—Е. х. 948.
- ОИРК Государственного Эрмитажа
- Альбом Морица Розенберга, 1846 г. // ОИРК ГЭ.
- Альбом Левашовых, 1810−1830-е гг.//ОИРК ГЭ.
- Альбом 3. И. Юсуповой, 1831 -1832 гг. // ОИРК ГЭ.1. Монографии и статьи
- Авилова О. Б. Пушкинская эпоха домашнего альбома // Декоративное и кусство СССР. 1985. — № 6. — С. 39−43.
- Автамонов Я. Символика растений в великорусских песнях // Журнал министерства народного просвещения. 1902. Ноябрь-декабрь. С. 46−101- 243 288.
- АгапкинаТ. А., Усачева В. В. Славянская мифология. — М., 1995.
- Азбукина А. В. Об одном восточном мотиве в стихотворении Пушкина „Соловей и роза“ //Учен. зап. Казан, гос. ун-та. — 1998. —Т. 136. — С. 31−37.
- Аксарина Н. А. Античный миф как интертекст в поэме А.Блока „Ночная Фиалка“ // Славянские духовные ценности на рубеже веков. — Тюмень, 2001. —С. 81−86.
- Аксенов Е. С., Аксенова Н. А. Декоративные садовые растения: в 2 т. Справочник. — М. Назрань, 2000. (Энциклопедия природы России).
- Алексеев М. П. Из истории русских рукописных собраний // Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX вв. из ленинградских рукописных собраний.— Л., 1960.— С. 8−16.
- Алексеев М. П. Споры о стихотворении „Роза“ // Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. —Л., 1984. —С. 337−387.
- Аллен Л. „Сады“ и „Розы“ Георгия Иванова // Иванов Г. „Сады“ и „Розы“. — СПб., 1993. —С: 5−18.
- Альми И. Л. О стихотворении A.C. Пушкина „Лишь розы увядают“ // Поэтический текст и текст культуры. —Владимир, 2000. — С. 70−78.
- Аминева И. А. Поэтика свадебного обряда в „чудном“ сне Татьяны // Болдинские чтения.— Нижний Новгород, 1999. — С. 58−65.
- Аринштейн Л. М. Сельцо Захарово в биографии и творчестве Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы.— Т. XIV.— Л., 1991.— С. 177−191.
- Бальмонт К. Цветы // Журнал для всех. —1903. —№ 5. —С. 527−535.
- Белоусов А. Ф. Акклиматизация сирени в русской поэзии // Сб. статей к 70-летию проф. 10. М. Лотмана.— Тарту, 1992.— С. 311−322.
- БлокГ. Фет и Бржеская//Начала. — 1922. — № 2.— С. 106- 123.
- Бобунова М. Ой роза, роза алая моя! // Русская речь. — 1995. — N 2. — С. 98−108.
- Бочаров С. Г. О реальном и возможном сюжете („Евгений Онегин“) // Динамическая поэтика: От замысла к воплощению.— М., 1990.— С. 14—38.
- Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. „Элегическая школа“.— СПб., 1994.
- Ващенко А. В., Ващенко М. А. „Цветы последние милей.“, или огласовка шекспировского контекста в русской прозе // Проблемы современного образования. Сб. научн. тр. — М., 1999. — С. 74 83.
- Ващенко М. А. Викторианский язык цветов как историко-культурный феномен // Россия и Запад: диалог культур. — Вып. 7. — М., 1999. — С. 11−19.
- Ващенко М. А. Цветочная символика в народной культуре // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация.— 2000.—№ 1.—С. 115−123.
- Ващенко М. А. Цветочная символика: от культуры к цивилизации // Россия и Запад: диалог культур. —Вып. 6. —М., 1998. — С. 342−352.
- Вергунов А. П., Горохов В. А. Вертоград: Садово-парковое искусство России (от истоков до начала XX века). — М., 1996.
- Верещагин В. А. Веер и Грация // Памяти прошлого. Статьи и заметки.— СПб., 1914.
- Верховский Ю. Н. А. П. Керн и ее среда// Керн А. П. Воспоминания.— Л., 1929.
- Верховский Ю. О символизме Баратынского // Труды и дни.— 1912.— № 3. С. 1−9.
- Веселовский А. Н. Из истории развития личности. Женщина и старинные теории любви Из поэтики розы. — СПб., 1912.
- Вигель Ф. Ф. Записки.— М., 1928.
- Власов В. Г. Стили в искусстве. Словарь: в 3 т.— СПб., 1995.
- Водарский В. А. Символика великорусских народных песен //Русский филологический вестник. — 1915. — Т. LXXIII. — № 1−2. — С. 40−50- 99−107.
- Водовозов В. Анакреон // Современник. — 1857. — № XIII. — Август. — С. 144- 145.
- Гарбузова В. С. Поэты средневековой Турции. — Л., 1963.
- Геймбух Е. Ю. Слово, контекст, текст и проблемы экспрессивности „Стихотворений в прозе“ И.С. Тургенева („Как хороши, как свежи были розы.“) // Русский язык в школе.— 1998. — N5.— С. 49−56.
- Георгиевский Г. П. А. Н. Оленин и Н. И. Гнедич.— СПб., 1914.
- Гердт А. А. Загадочный цветок // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. — 1999. — N 2. — С. 8−9.
- Герчук Ю. Я. Эпоха политипажей. Русское типографское искусство первой трети XIX века.— М., 1982.
- Гесдерфер М. Комнатное садоводство. — СПб., 1898.
- Гиривенко А. Н. Фет и Ознобишин (приметы поэтического сближения) // А. А. Фет. Проблемы изучения жизни и творчества: Сб. статей.— Курск, 1994. — С. 87−96.
- Голенищев-Кутузов И. Н. Роза в поэзии Пушкина // Русская словесность. 1994. —N 1.— С. 8−13.
- Голубев А. П. „Роман о Розе“ tertium Organum „Науки любви“ для средневековья // Вестник Московского ун-та. — Сер. 9. Филология. — 1994. — N 1.— С. 23−32.
- Гольц Т. М. ».Поэт и полиглот." // Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: в 2 кн. — М., 2001. — Кн. 2. — С. 316−341.
- Гордин М. А. Любовные ереси- Из жизни российских рыцарей.— СПб., 2002.
- Горышина Т. К. Зеленый мир старого Петербурга.— СПб., 2003.
- Гречаная Е. П. Между молчанием и признанием: язык рукописей императрицы Елизаветы Алексеевны и ее женского окружения // Языки рукописей: Сб. статей.— СПб., 2000.— С. 67−84.
- Григорьева Е. Безделушка (философско-семиотические заметки по пустякам) // В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана.— Тарту, 1992. — С. 218 228.
- Григорьева Е.Г. О назначении виньет, приложенных к поэтическим произведениям Г.Р. Державина//Ученые записки ТГУ. Вып. 855: Текст — Культура- Семиотика иарратива. Труды по знаковым системам. XXIII. — Тарту, 1989. — С. 127- 138.
- Гуревич А. М. «Евгений Онегин»: поэтика подразумеваний // Известия РАН. ОЛЯ, — 1999.—Т. 58.—№ 3.—С. 26−30.
- Давыдова Е. В. Голубой цветок и русский символизм // Творчество Нова-лиса в контексте рус. лит. нач. XX в. — М., 2001. (Серия: Докл. науч. центра слав.- герм, исслед./ РАН. Ин-т славяноведения).
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.— М., 1994.
- Дарский Д. «Радость земли»: Исследование лирики Фета.— М., MCMXVI.
- Дмитриева Е. Е. «Высокое искусство вуалировать», или О некоторых проявлениях рокайльной эстетики в поэзии Пушкина // Московский Пушкинист. VIII.— М., 2000. —С. 181−191.
- Дмитриева Е. Е., Купцова О. Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай.— М., 2003.
- Евангулова О. С. Художественная «Вселенная» русской усадьбы. М., 2003.
- Елисеева А. Н. Предметный символ в поэзии И.Анненского (на материале лексико-семантической группы «цветы». Лилия) // Филологические науки. — 2000. —№ 6. —С. 56−66.
- Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. — М., 1966.
- Жданова Л. В. Цвет в стихотворении Ли Кюбо «Воспеваю хризантемы»// Вестник Центра корейкого языка и культуры = Proceed, of the Center for Korean lang. a. culture. — 1997. — Вып. 2. — С. 91−106.
- Жемчужный И. С. Об одном устойчивом романтическом альянсе в образно-поэтической системе А. А. Фета // А. А. Фет: Проблемы изучения жизни и творчества. — Курск, 1994. — С. 74−87.
- Жизнь Самуила Ричардсона, знаменитаго по своим сочинениям англин-скаго писателя с приобщением ему слова, писанного Г. Дидеротом. Смоленск, 1803.
- Жихарев С. П. Записки современника с 1805 по 1809 г.— Л., 1989.
- Залесова Е. Н., Петровская О. В. Полный русский иллюстрированный словарь — Травник и Цветник: В 4 т.— СПб., 1898−1901.
- Звездина Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения символа.— М., 1997.
- Золотницкий Н. Ф. Наши садовые цветы, овощи и плоды. Их история, роль в жизни и верованиях разных народов и родина.— М., 1911.
- Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях.— СПб., 1913.
- Зорин А. «Вслед шествуя Анакреону.» // Цветник. Русская легкая поэзия конца XVIII начала XIX века.— М., 1987. — С. 5−53.
- Иванов Вяч. Вс. Темы и стили Востока в поэзии Запада // Восточные мотивы.—М., 1985.—С. 424−470.
- Иванов Н. Подробный словарь увеселительнаго, ботаническаго и хозяй-ственнаго садоводства, содержащий в себе по азбучному порядку имяна, названия и свойства произрастений: В 4 ч.— СПб., 1792.
- Иезуитова Р. В., Левкович Я. Л. Пушкин в работе над «Евгением Онегиным» // Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах.— Горький, 1989. — С. 1−67. (Факсимильное воспроизведение текстов прижизненного издания в главах, 1825−1832 гг.).
- Изъяснение эмблем, изображающих известных и вымышленных животных, и растения, посвященные баснословным богам. На французском и российском. М., 1820.
- Исрофилов Ш. Вино в системе поэтических образов Хафиза. — Автореф. дис.. к. филол. н. — Душанбе, 1995.
- Кагаров Е. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. — СПб., 1913.
- Казнаков С. Н. Пакетовые табакерки Императорского фарфорового завода.—СПб., 1913.
- Канаев И. И. И.-В. Гете. Очерки из жизни поэта-натуралиста.— М.- Д., 1964.
- Карнишина JI. М. Декоративные растения и их роль в оформлении усадебного парка и интерьеров дома в Остафьеве в XIX веке // Остафьевский сб. — Вып. 7.— Остафьево, 2001.— С. 25−35.
- Кастальева Т. Б. Захаровские приметы в стихотворении А. С. Пушкина «Послание к Юдину» // «Мое Захарово.» Захаровский контекст в творчестве А. С. Пушкина. Сб. статей.—М., 1999.—С. 32−36.
- Кернер фон Марилаун А. Жизнь растений: В 2 т. / Пер. с нем.— СПб., 1900.
- Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды / Пер. с чеш.— Прага, 1988.
- Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX вв. Опыт энциклопедии.— М., 1995.
- Кирюшина 3. Е. Оранжерейное и тепличное хозяйство в усадьбах конца XVIII середины XIX века. Оранжереи и теплицы в Остафьеве // Остафьевский сб. — Вып. 7.— Остафьево, 2001.— С. 37−47.
- Кишкин Л. С. Гербарий семьи Пушкина // Природа.— 1975.— № 3.— С. 123−128.
- Козубовская Г. П. Русская поэзия первой трети XIX в. и мифология (жанровый архетип и поэтика).— Самара- Барнаул, 1998.
- Колева О.И. Принципы использования флористической лексики в поэзии A.C. Пушкина// Филологические этюды: Сборник науч. ст. молодых ученых.
- Саратов, 2000. —Вып. 3. —С. 212−215.
- Кон Ф. Растение.— СПб., 1901.
- Кондрашкин В. Флора в поэзии М.Ю.Лермонтова: Опыт словаря // Сура.2000.— N2. —С. 187−204.
- Корнилова А. В. Картинные книги.— Д., 1982.
- Корнилова А. В. Мир альбомного рисунка. Русская альбомная графика к. XVIII первой половины XIX века.— Д., 1990.
- Корчагина Л. М. Стихотворение М. Цветаевой «Август астры.» // Русский язык в школе. — 1998. —N 3. — С. 34−35, 55.
- Кошелев В. А. Акация и черемуха // Онегинская энциклопедия: в 2 т. — М., 1999. —Т. 1. —С. 30.
- Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. — СПб., 1997.
- Круглова Е. А. Символика розы в русской и немецкой поэзии конца XVII-начала XX веков (опыт сопоставления). — АКД. — М., 2003.
- Крутова М. С. Сборники с названием «Цветник» в русских списках XVI—XX вв.еков рукописных собраний РГБ // Письменная культура. — М., 1998. — С. 161−174.
- Купер Дж. Энциклопедия символов.— М., 1995.— Серия «Символы».— Кн. 4.
- Курганов Е. Василий Розанов, Михаил Лермонтов и «Песнь песней»// Scando-Slavica Copenhagen. — 2000. — Т. 46. — С. 5−15.
- Курочкин А. В. Растительная символика календарной обрядности украинцев // Обряды и обрядовый фольклор. — М., 1982. — С. 138−163.
- Кушлина О.Б. Страстоцвет, или Петербургские подоконники. — СПб., 2001.
- Ла-Барт Ф. де. Шатобриан и поэтика мировой скорби во Франции.— Киев, 1905.
- Лагутина И. Н. «Избирательное сродство»: структура и семантика художественного пространства//Гетевские чтения. 1997.— М., 1997.— С. 116—141.
- Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст.— СПб., 1991.
- Лотман Ю. М, Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII начало XIX века).— СПб., 1994.
- Лотман 10. Н. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий.— Л., 1980.
- Лотман Ю.М. Воспитание души. — СПб., 2003.
- Лукьянец И. В. Французский роман второй половины XVIII века (автор, герой, сюжет).— СПб., 1999.
- Лысюк Е. А. Пушкинский вертоград: Цветы и травы Михайловского. — Великие Луки, 2000.
- Макаров. Графиня Стефания Фелицитата Дюкре Жанлис // Дамский журнал.—1827.—Ч. 17.—№ 1.—Январь. — С. 3−6.
- Максимович М. Размышления о природе. — М., 1833.
- Максимович-Амбодик Н. Врачебное веществословие, или описание целительных растений во врачевстве употребляемых, с изъяснением пользы и употребления оных, и присоединением рисунков, природному виду каждаго растения соответствующих: В 3 кн.— СПб., 1789.
- Максимович-Амбодик Н. Избранные емвлемы и символы, на Российском, Латинском, Французском, Немецком и Английском языках объясненные.— СПб., 1811.
- Максимович-Амбодик Н. Начальныя основания Ботаники с рисунками сочинил Нестор Максимович Амбодик. — Спб., 1784.
- Максимович-Амбодик Н. Новый ботанический словарь на латинском, немецком и российском языках.— СПб., 1804.
- Марченко Н. Приметы милой старины: Нравы и быт пушкинской эпохи.1. М., 2001.
- Марьева М. В. К интерпретации стихотворения К.Д. Бальмонта «Испанский цветок» // Молодая наука 2000: Сб. науч. ст. аспирантов и студентов. —. Иваново, 2000. — Ч. 3. — С. 12−17.
- Меликофф И. И. Цветок страдания: О символическом значении слова «ла-лэ» в турецко-персидской мистической поэзии // Этнографическое обозрение.1994. — N 6. — С. 77−87.
- Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов: В 4 т.— М., 2001.— Т. III и IV.
- Мильчина В. А. Французская элегия конца XVIII первой четверти XIX в. // Французская элегия XVIII—XIX вв. В переводах поэтов пушкинской поры.—М., 1989. —С. 8−26.
- Мифы народов мира: В 2-х т.— М., 1980.
- Михайлов А. Д. Средневековый французский роман о Флуаре и Блан-шефлер, его источники и его судьба // Флуар и Бланшефлер. / Пер. со староф-ранц. А. Наймана.—М., 1985.— С. 3−34.
- Михельсон М. И. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии: В 2-х т.— М., 1994.
- Морлей Дж. Руссо.— М., 1881.
- Мусаликин В. Цветы последние милей // Мир музея = World of museum. 1999. —N ½.— С. 30−35.
- Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». —СПб., 1998.
- Некрология Г-жи Жанлис // Телескоп.— 1831.— № 3.— С. 448.
- Николаев С. М. Камни и легенды//Мистические свойства камней.— СПб., 1995.—С. 267—419.
- Новая энциклопедия растений / Автор-сост. В. М. Федосеенко.— М., 2003.
- Новой и совершенной руской Садовник, или подробное наставление: в 2 ч,—СПб., 1793.
- Огаркова H.A. Нотный альбом — «книга сердца» // Огаркова H.A. Церемонии, празднества, музыка русского Двора (XVIII- начало XIX века). — СПб., 2004. —С. 168−183.
- Оги Тиэ. Читая поэму Есенина «Цветы"// Столетие Сергея Есенина. — М., 1999. —С. 251−254.
- Ознобишин Д. П. Селам или Язык цветов. СПб., в Типографии Департамента народного просвещения, 1830.
- Оленина А. А. Дневник. Воспоминания / Вст. ст. В. М. Файбисовича- Сост., подг. текста, комм. JI. Г. Агамалян, В. М. Файбисовича, Н. А. Казаковой, М. В. Арсентьевой.— СПб., Академический проект, 1999. (Пушкинская б-ка, т.9.
- Онегинская энциклопедия: В 2 т. /Под общей ред. Н.И.Михайловой- Сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов.— М., 1999.— Т. 1. — А-К.
- Осипова Н. О. Мифопоэтика лирики М.Цветаевой. — Киров, 1995.
- Петрова Т. С. Актуализация поэтического смысла в контексте лирики К.Бальмонта: Семантика образа цветка // Семантика. Функционирование. Текст. — Киров, 1999. С. 29 36.
- Подворная А. В. Трансформация пушкинского мотива в «Падении лилий» Ин. Анненского // Гуманитарное знание. Ежегодник. — Вып. 2. — Кн. 2. — Омск, 1998. —С. 96−101.
- Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. — Харьков, 1860.
- Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики.— М., 1994.
- Приходько И. С. Скрытые смыслы драмы А. Блока «Роза и крест"// Известия РАН. Сер. лит. и яз. —1994. — Т. 53 — N 6. — С. 36−51.
- Приходько И. С. Элементы пасторали в драме А.Блока «Роза и крест"// Пастораль в театре и театральность в пасторали. — М., 2001. — С. 112−119.
- Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или подвижный палимпсест.— М., 1999.
- Развлекательная культура России ХУШ-ХГХ вв. Очерки истории и теории. — СПб., 2000.
- Рахимова Э. Г. Повторяемость символического образа (голубой / огненно-красный цветок и лебедь) в калевальском неоромантизме) //Филологические науки. — 1996. —N6. — С. 23−32.
- Ревзина О. Г. Тема деревьев в поэзии М. Цветаевой // Типология культуры. Труды по знаковым системам. XV. — Тарту, 1982. С. 141−148.
- Рейснер М. Комментарии // Хафиз. Вино Вечности. — М., 1999.
- Рейснер М. Л. Эволюция персидской газели на фарси (X—XIV вв.).— М., 1989.
- Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры.— М., 1990. — С. 416−434.
- Ручная книга Древней Классической Словесности, собранная Эшенбур-гом: В 2 т.— СПб., 1817.
- Садоводство полное, собранное с опытов и из лучших Писателей о сем предмете, с приложением рисунков, Васильем Левшиным: В 4 частях. М., 1806.
- Сазонова Л. И. Эмблематика и изобразительные мотивы в «Повестях Белкина» // Пушкин А. С. Повести Белкина: Науч. изд. / Под ред. Н. К. Гея, И. Л. Поповой.—М, 1999. —С. 510−534.
- Салова С. А. Басня С.Т.Аксакова «Роза и пчела"// Аксаковский сборник.2. — Уфа, 1998.— С. 91−95.
- Сапченко Л. А. Переосмысление традиционного образа в стихотворении Пушкина «Цветок» // Проблемы современного пушкиноведения. Сб. ст. Псков, 1996. —С. 71−88.
- Свалова О. М. Остафьевский архив князей Вяземских: рукописный каталог французских книг 1780 года // Остафьевский сб. — Вып. 7.— Остафьево, 2001.—С. 77−88.
- Свиньин П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. — Тетр. 1— СПб., 1816.
- Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе.— М., 1978. — С. 433−492.
- Сергеева-Клятис А. Ю. Русский ампир и поэзия Константина Батюшкова: В 2 ч.— М., 2001.
- Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа.— СПб., 1909.— Т. 1.—Вып. 1: XVIII век.
- Сиповский В. В. Пушкин. Жизнь и творчество.— СПб., 1901.
- Скатов Н. Н. Русский гений.— М., 1987.
- Славянские древности. Этнолингвистический словарь: В 5 т.— М., 1995. —Т.1.- —М., 1999. —Т. 2.
- Словарь Академии российской Ч. 1−6. СПб., 1789−1794.
- Словарь Академии Российской.—М., 2001.— Т. 1.
- Смирнова Н. В. Функции эмблемы в лирике А.С.Пушкина // Пушкин в меняющемся мире. Сб. материалов региональной научно-практической конференции.— Курган, 1999.— С. 132−135.
- Смирнова Т. Н. К истории Остафьевских праздников: о смысловом значении некоторых форм ритуального поведения // Остафьевский сборник. — Ос-тафьево, 2001.— Вып. 7.—С. 17−23.
- Соболевский Г. Г. Санкт-Петербургская флора, или Описание находящихся в Санкт-Петербургской губернии природных растений: в 2 т. Спб., 18 011 802.
- Соловьёв В. С. Письма: В 3 т. — СПб., 1911.— Т. 3.
- Соловьёв В. С. Собр. соч.: В 9 т. — СПб., 1903. —Т. 6.
- Спроге JI. В. Символисты и ранний С. Есенин: (Мотив цветка) // Zinatn. raksti = Науч. тр. Latv. Univ. — Riga, 1990. — Sejums 550. — С. 27−33.
- Станков С. Линней, Руссо, Ламарк.— М., 1955.
- Степанов Л. А. Об одном фрагменте текста романа «Евгений Онегин» (Из комментария к роману) //Болдинские чтения. 1987.— Горький, 1988.—1. С. 174−183.
- Столпянский П. Н. Старый Петербург. Садоводство и цветоводство в Петербурге в XVIII веке.— СПб., 1913.
- Страхов Н. Н. А. А. Фет. Биографический очерк//Полное собрание стихотворений Фета В 2 т. Изд. 2-е.— СПб., 1912. —Т. 1, — Кн. 1. —С. 3−54.
- Строганов М. В. Сирени и акации: К истории образа дворянской усадьбы у И. С. Тургенева // Традиции в контексте русской культуры. — Череповец, 1995. —С. 57−60.
- Сухих И. Н. Шеншин и Фет: жизнь и стихи // Фет Афанасий. Стихотворения. — СПб., 2001. — С. 5 68. (Новая библиотека поэта. Малая серия).
- Тархов А. Е. «Музыка груди» (О жизни и поэзии Афанасия Фета) // Фет
- A.A. Сочинения: В 2 т. — Т. 1. —М., 1982. —С. 5−38.
- Тимохин В. В. Поэтика средневекового героического эпоса.— М., 1998.
- Тойбин И. М. Тревожное слово: о поэзии Е. А. Баратынского.— Ижевск, 1988.
- Томашевский Б. В. К. Н. Батюшков // Батюшков К. Н. Стихотворения.— Л., 1948. (Библиотека поэта. Малая серия). — С. V-LX.
- Тройницкий С. Н. Фарфоровые табакерки Императорского Эрмитажа.— Пг., 1925.
- Турбин В. Н. И храм, и базар: Афанасий Фет и сентиментализм // Турбин
- B.Н. Незадолго до Водолея: Сб. статей.— М., 1994. С. 424 429.
- Турчин В. С. Аллегории будней и празднеств в «сословной иерархии» XVIII—XIX вв.еков: от усадебной культуры прошлого до культуры наших дней (эссе) // Русская усадьба. Вып. 2 (18).— М., 1996.
- Турчин В. С. Поэтические символы в жизни усадьбы // Турчин В. С. Ше-редега В. И. «.в окрестностях Москвы». Из истории русской усадебной культуры XVII—XIX вв.еков.—М., 1979.—С. 171−188.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.— СПб., 1996.
- Федина В. С. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике.— Пг., 1915.
- Феофраст. Исследование о растениях / Пер. с древнегреч. и прим. М. Е. Сергиенко.— М., 1951.
- Фет А. А. Мои воспоминания. 1848−1889.—М., 1992 = М., 1890.
- Фет А. Ранние годы моей жизни.— М., 1893.
- Флора и Фавн: Мифы о растениях и животных: Краткий словарь / Сост. В. М. Федосеенко. — М., 1999.
- Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов /Пер. с англ. 2-е изд.— М., 1997.
- Хафиз. Вино Вечности / Пер. Г. Плисецкого- Комм. М. Рейснер.— М., 1999.
- Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество.— Oslo, 1973.
- Цоффка В. В. Из поэтики цветов как знаков и символов христианства в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» // Русский язык за рубежом.—1996.—№ 1−2-3.—С. 108−113.
- Чернец J1. В. Черная роза и драдедамовый платок: (Об эпитете) // Русская словесность. — 2000. — N 1. —С. 49−53.
- Чернец JI. В. Черная роза, или Язык цветов // Русская словесность. — 1997.—N2.— С. 88−93.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т.— М., 1999.
- Чжао Гуйлень. Фет и Восток. — Автореф. дис.. к. филол. н. — М., 1994.
- Чумаков Ю. Н. Пространство «Евгения Онегина» // Художественное пространство и время.— Даугавпилс, 1987.— С. 32−50.
- Чумаков Ю. Н. Сны «Евгения Онегина» // Сибирская пушкинистика сегодня. Сб. ст. — Новосибирск, 2000. — С. 35−45.
- Чумаков Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. — СПб., 1999.
- Шабанова Н. А. Традиционно-семантическое и окказиональное в семантической структуре символа «роза» в поэзии акмеистов (А.Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама) // Филологические этюды. — Саратов, 1998. — Вып. 1. — С. 231 -236.
- Шаталина Н. Н. Об истории создания миниатюрных сборников «Розовый букет» и «Букет цветов»// Проблемы формирования и раскрытия фондов Библиотеки Академии наук СССР. — Л., 1985. — С. 101−106.
- Шеншина В. А. А. А. Фет-Шеншин: Поэтическое миросозерцание. — М., 1998.
- Шереметьев С. Д. Остафьево.— СПб., 1889.
- Шкловский В. Б. Сентиментальное путешествие.— Л., 1924.
- Шкляева Е. Л. Мемуары как «текст культуры» (Женская линия в мемуаристике Х1Х-ХХ веков: А. П. Керн, Т. А. Кузминская, Л. А. Авилова). — Ав-тореф. дис.. к. филол. н.— Барнаул, 2002.
- Шустов А. Н. О «сирени» у Пушкина // Русская речь. — 1995. — N 3. — С. 121−122.
- Щербинина О. Цветочек аленькой! // Родина. — 1993. — N4. — С. 104−105.
- Эберман Б. Арабы и персы в русской поэзии // Восток. — М.-Л., 1923. —1. Кн. 3. —С. 108- 125.
- Эмблемы и символы.— М., 1995.
- Эмблемы растений (из соч. Г. де Жанлис) // Кабинет Аспазии.— СПб., 1815 — Книжка пятая.—С. 90−95.
- Эпштейн M. Н. «Природа, мир, тайник вселенной.»: система пейзажных образов русской поэзии.— M., 1991.
- Эртель В. А. Полный зоологический и ботанический словарь на французском, русском и латинском языках. Прибавление к франц.- рус. словарю, сост. В.Эртелем. Спб., 1843.
- Эткинд Е. Г. Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во Франции.— М., 1999.
- Юрьева И., Смирнов Л. «Детская» пушкинского Дома // Наше наследие.—1988.—№ 2.—С. 132−139.
- Язык цветов (Язык любви). —Рига, 1903.
- Язык цветов, или Описание эмблематических значений, символов и мифологического происхождения цветов и растений. С прибавлением стихотворений, написанных на цветы русскими поэтами.— СПб., 1849.
- Язык цветов. Пер. с нем. —Варшава, 1905.
- Яковлев П. Л. Виршевский Н. Об альбомах // Благонамеренный. —1820. — № 7. —С.22−32.
- Янушкевич А. С. Кладбище // Онегинская энциклопедия: в 2 т. — М., 1999. —Т. 1. —С. 510−511.
- Baudy J. Un aspect mauricien de l’ibuvre de Bernardin de Saint-Pierre la flore local // Revue d’histoire litteraire de la France.— 1989.— № 5.— P. 782−790.
- Brenk F.E. «Purpureos spargam flores»: A Greek motif in the «Aeneid»? // Classical quart. — 1990. —Vol. 40. —N 1.—P. 218−223.
- Chabaneau C. Origine et etablissement de l’Academie des jeux floraux.— Toulouse, 1885.
- Christensen A. Kulturskitser fra Iran. —M., 1937.
- Coats P. Flowers in History.— N. Y., 1970.
- Ehre M. Oblomov and his Creator: The life and Art of Ivan Goncharov. —New Jersey, 1973.
- Encyclopedie metodique. Botanique. —Paris, 1804−1816.
- Fabre J. Paul et Virginia, pastorale // Lumiere et romantisme.— Paris, 1980.— P. 225−257.
- Forstner D. Die Welt der Symbole. —Innsbruck, 1961.
- Gentil A. Dictionnaire etumologique de la flore francaise. —Paris, 1923.
- Goodman-Soellner E. Boucher’s Madame de Pompadour at her toilette // Simi-olus.— 1987.—Vol. 17.—№ 1.—P. 41−58.
- Grieve M. A modem herbal.— London, 1978.
- Gustafson R. F. The Imagination of Spring: The poetry of Afanasy Fet.— New Haven and London, 1966.
- Knight Ph. Flower poetics in 19-century France.— Oxford, 1986.
- Letessier F. Notes // Chateaubriand F.- R. Atala. Rene. Les Aventures du Dernier Abencerage.— Paris, 1962.
- Levi-D'Ancona M. The garden of the Renaissance. —Florence, 1977.
- Lutz L. Von Tabac, Dosen und Pfeifen.— Leipzig, 1984.
- Princesse Bibesco. La Dame 6 l’eglantine // Revue generale belge.— Bruxelles, 1959.— № 9.— P. 75−82.
- Printseva G. The Levashov family album as cultural monument of the first third of the 19 th centure // Bulletin of Conservation 3.— St. Petersburg, 1999.— P. 8−36.
- Seaton B. The language of flowers: a history.— Charlottesville and London: University press of Virginia, 1995.