Ирония как основа повествовательной структуры в литературе немецкого романтизма
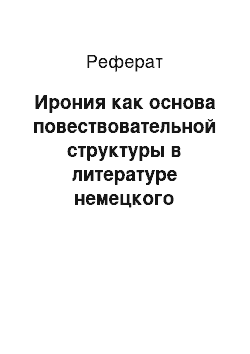
Умершая возлюбленная лирического героя Новалиса является ему в третьем гимне: «Облаком праха клубился холм — сквозь облако виделся мне просветленный лик любимой. В очах у нее опочила вечность, — руки мои дотянулись до рук ее, с нею меня сочетали, сияя, нерасторжимые узы слез». Элис также видит возлюбленную в своем страшном сне: «Нежный голос, где-то вдали, с отчаянной тоской, произнес его имя… Читать ещё >
Ирония как основа повествовательной структуры в литературе немецкого романтизма (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Аннотация
В статье дан анализ особенностей повествовательной структуры текстов немецкого романтизма. Ирония рассматривается как особое средство реализации авторской позиции и создания полисемичного произведения.
The analysis of the narrative structure’s features in the German romantic literature has been reviewed in this article. Irony has been viewed as a particular tool of the author’s opinion realization and the polysemic text’s creation.
Ключевые слова: НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ, ИРОНИЯ, ДИДАКТИКА, АЛЛЮЗИЯ, ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ПОЛИСЕМИЯ.
Keywords: GERMAN ROMANTICISM, IRONY, DIDACTICS, ALLUSION, NARRATIVE STRUCTURE, POLYSEMY.
Феномен романтизма интересен во многих аспектах, в том числе и отношением к классическим принципам художественной дидактики. Бесконечный путь к поиску истины, иррационализм, свобода творчества и читательского восприятия не предполагали выстраивания четкой дидактической системы, скорей наоборот, именно открытость и полисемичность стали новыми принципами построения текста. Об этом писал Шеллинг, на философию которого опирались немецкие романтики: произведение искусства «допускает бесконечное количество толкований», «словно автору было присуще бесконечное количество замыслов» [3, 45]. Данную идею развивает Ф. Шлегель, утверждая, что даже завершенное внешне произведение «внутри… границ безгранично и неисчерпаемо», «возвышается над самим собой» (А.ф., 297) [6, 34]. Одним из способов создания подобной многозначности становится иронический модус повествования, который приводит к «рассеиванию» смыслов и маскировке авторской позиции.
Ведущая роль здесь принадлежит романтической иронии, философское обоснование которой разработал Ф.Шлегель. Он писал в «Критических фрагментах»: «Существуют древние и новые поэтические создания, всецело проникнутые божественным духом иронии. В них живет подлинно трансцендентальная буффонада. С внутренней стороны — это настроение, оглядывающее все с высоты и бесконечно возвышающееся над всем обусловленным, в том числе и над собственным искусством, добродетелью или гениальностью» [6, 42]. Позиция «над» предполагает открывание все новых перспектив и незавершенность процесса познания, поскольку найденный смысл в этом контексте представляется лишь как промежуточный этап апофатического движения к истине. «Трансцендентальная буффонада» — это новый тип отношения к миру, который строится на принципах неоднозначности и игры, утверждение карнавальной стихии как необходимой составляющей творчества, которая позволяет передать парадоксальность мира, существование противоположных оценок, идей. Поэтому и об иронии Шлегель говорит как об «абсолютном синтезе абсолютных антитез, постоянно воспроизводящей себя смене двух борющихся мыслей» [6,38]. Этот принцип соединения противоположностей, взаимоисключающих идей и образов во многом определяет внутреннюю динамику текстов немецкого романтизма и объясняет наличие в них «карнавальности» — определенной иронической зоны смыслов, которая складывается из элементов пародии, романтической иронии, обыгрывания аллюзий и романтического стиля. Причем это характерно и для авторов йенского периода, значит, является не следствием разочарования в романтизме и знаком его исчерпанности, а типологической особенностью явления, частью особой дидактической художественной системы, направленной на снятие возможной тенденциозности произведения, излишнего романтического пафоса.
Ярким примером реализации полисемичной структуры текста, связанной с иронией, становится рассказ Э.Т. А. Гофмана «Фалунские рудники», где разрушение однолинейности текста реализуется на нескольких уровнях. Прежде всего это особая повествовательная стратегия рассказчика, которая дает одновременно два взгляда, романтический и реалистический, на описываемое явление. В результате происходит своеобразное «саморазрушение» романтического текста, а его пафос воспринимается скорей как пародия на стиль ранних немецких романтиков. Так, в самом начале рассказа дается вполне романтическое изображение прихода в гавань корабля: «Богатый корабль Ост-Индской компании счастливо вернулся из дальнего плавания и, бросив якорь в гавани, весело распустил по светлой лазури вымпела и шведские флаги. Сотни лодок и челноков, наполненные матросами, с торжеством носились по голубым волнам Готаэльфа, а пушки Мастуггеторга приветствовали гостей разносившимся далеко по морю громовым залпом» [4]. Однако далее следует реалистическое, даже более того, презираемое романтиками объяснение — все рады выгодной торговле: «Распорядители Ост-Индской компании расхаживали по набережной и, высчитывая с довольными лицами ожидаемую богатую прибыль, радовались успеху смелого предприятия… Жители поэтому с удовольствием смотрели на предприимчивых распорядителей и радовались вместе с ними, так как их выгода была тесно связана с благосостоянием всего города» [4]. Этот эффект обманутого ожидания становится не только средством игры с читателем, способом его погружения в двойственную атмосферу текста, но и особым приемом маскировки авторской позиции — на протяжении всего рассказа Гофман балансирует на грани романтического текста и пародии на него.
Это заметно и в описании праздника, которое вначале дано в духе романтизма и строится на ключевой для Гофмана теме музыки: «Праздничная процессия открывалась музыкантами в оригинальных пестрых костюмах, весело наигрывающих на скрипках, флейтах, гобоях и барабанах, между тем как прочая компания распевала веселые песни. Матросы шли попарно, куртки и шляпы у некоторых были украшены бантами из разноцветных лент; в руках одни держали развевающиеся флаги, другие радостно прыгали и плясали; веселый шум далеко разносился по воздуху» [4]. Однако вскоре все это оборачивается вполне реальным пиром, на котором логично появляются и девушки — вновь разрушен романтический образ, созданный до этого: «Процессия прошла через верфи и предместья и достигла Гаагского форштадта, где в особой гостинице был приготовлен соответствующий обстоятельствам пир. Эль полился потоками; бочонок опоражнивался за бочонком; скоро, как это заведено у моряков, возвращающихся из дальнего плавания, явились на пир разряженные девушки…» [4]. Духовная радость музыки побеждена телесным, а пир приобретает особое значение символа этой победы.
Двоемирие, относительность восприятия одного и того же явления разными типами сознания показаны и при описании главного героя: «Только один из всего корабельного экипажа, красивый молодой человек лет не более двадцати, по-видимому, не разделял общего веселья и, удалившись незаметно из залы, сел с грустным лицом на скамью, стоявшую возле ворот» [4]. И тут же дается второй взгляд на этого «правильного» романтического героя, взгляд обычных людей, далеких от возвышенных устремлений: «Элис Фребем! Ты, кажется, опять разыгрываешь печального дурака и портишь веселье неуместной хандрой» [4].
В результате подобного принципа повествования романтическая реальность автора словно накладывается на приземленную обыденность. Вроде бы это вариант традиционного для романтиков двоемирия, но если в текстах раннего немецкого романтизма романтической альтернативой становился внутренний мир творческой личности, то у Гофмана эти два мира существуют в сознании самого повествователя. И если первый его взгляд на мир романтичен, то второй несет разочарование и реалистическое объяснение. На стыке этих двух взглядов и рождается самоирония, которая становится своеобразным вызовом материальному миру, столь далекому от идеала.
С другой стороны, это и отражение кризисности мироощущения позднего романтизма, когда разрыв между реальным и идеальным перестает быть внешним, становясь частью сознания героя. В результате на смену счастливо-цельным героям Новалиса приходят двоящиеся персонажи гофмановских текстов.
Еще одним способом формирования скрытого пародийного модуса текста является включение аллюзий на тексты ранних романтиков, в частности Колриджа и Новалиса. Начало рассказа Гофмана иронически воспроизводит художественную ситуацию поэмы Колриджа «Сказание о Старом мореходе», где старый моряк останавливает юношу, идущего на брачный пир, и рассказывает ему свою историю. Гофман использует доминанты этой ситуации: юноша, старик, пир, история, только делает моряком юношу. Он, как и герой Колриджа, мучается чувством вины, считая, что стал причиной смерти своей матери, и рассказывает об этом старику. Так воссоздается модель поэмы Колриджа, наполненная, однако, несколько другим содержанием.
Далее эта интерпретация колриджевской модели продолжается аллюзиями на тексты Новалиса, в частностности на роман «Генрих фон Офтердинген»: старик оказывается рудокопом и рассказывает Элису о тайнах подземного мира. Обращение к роману Новалиса очевидно и в эпизоде, когда описывается сон Элиса, в котором присутствуют в инверсированном виде основные мотивы и образы сна Генриха. Прослеживаются здесь и текстуальные параллели, ярко показывающие изменение основных символов романтических идей, присутствующих у Новалиса. Если Генрих идет в темных скалах, но видит впереди свет, становящийся ослепительно ярким, то над Элисом — небо, «покрытым грядою темных, грозных облаков» [4], которое потом превращается в «нависшие сверкающие каменные массы» [4]. Изменившееся романтическое мироощущение очень хорошо передается здесь через отсутствие света и ощущение давящей тяжести каменного свода. Если Генрих во сне плывет по реке, ярко выражающей идею вечного движения («Опьяненный восторгом…, он медленно плыл вдоль сверкающего потока…» [7, 5]), то у Гофмана Элис, тоже плывший по реке, видит, как она останавливается, превращаясь в неподвижный камень: «Ему снилось, что он плывет под полными парусами на прекрасном корабле… Вглядываясь пристальнее в поверхность воды, он увидел, однако, что это была не вода, а, напротив, твердая, прозрачная, сверкающая поверхность…» [4]. Если Генрих поднимается на гору к голубому цветку, что отражает романтическую устремленность к высшему, то Элис стремится вниз: «Туда, к вам, к вам!» — воскликнул он и как безумный бросился с простертыми руками в глубину кристального моря" [4]. Само его влечение к низу и глубине можно рассматривать как пародию на устремленность романтиков в высшие сферы. Место голубого цветка здесь занимает подземный мир, а возлюбленной Генриха — страшная подземная царица. Так сон Элиса становится искаженным отражением сна Генриха, словно пропущенным через призму гофмановского мировосприятия. Вместе с тем это не просто отражение, но и продолжение сна героя Новалиса на новом этапе развития романтизма, когда появляется разочарование в основных романтических идеях и способности романтика изменить мир.
Как и герой Новалиса, Элис отправляется в путь и встречает свою любовь, девушку из сна: «Элис, едва ее увидел, был мгновенно охвачен таким отрадным чувством мгновенной и глубочайшей любви, что, казалось, молния пронизала все его существо. Он тотчас узнал в ней ту самую женщину, которая протягивала ему руку спасения в его таинственном сне» [4]. Однако далее Гофман подвергает инверсии романную модель Новалиса: если в «Генрихе фон Офтердингене» утонула возлюбленная героя Матильда, то здесь в водах подземного озера погиб Элис. В особый инверсированный контекст помещаются и скрытые цитаты из романа Новалиса, которые словно получают продолжение. К примеру, Генриха фон Офтердингена напутствует отшельник: «Если ваш взор будет неотрывно устремлен к небу, вы никогда не собьетесь с пути на родину» [7, 37]. Элис также получает указания от рудокопа: «Вперед, вперед, в Фалунские рудники, твоя родина там!» [4]. Так Гофман вступает в диалог с Новалисом в пространстве художественного текста.
Кроме использования общей модели романа «Генрих фон Офтердинген», Гофман вводит в свой текст отдельные образы из «Гимнов к Ночи» Новалиса, трансформируя их. Образ рудников связывается с архетипической мифологемой тьмы, которая истолкована в духе «Гимнов» как противопоставление житейской обыденности, источник особого света высшего мира: «По мере того, как он пристальнее всматривался в эту чудную, каменную массу, ему показалось, что по шахте разливается какой-то легкий бледный свет, выходивший неизвестно откуда» [4]. Однако в рассказе эта амбивалентность тьмы представлена как безумные видения героя, а мрак и свет присутствуют буквально, а не только как метафизические сущности.
Умершая возлюбленная лирического героя Новалиса является ему в третьем гимне: «Облаком праха клубился холм — сквозь облако виделся мне просветленный лик любимой. В очах у нее опочила вечность, — руки мои дотянулись до рук ее, с нею меня сочетали, сияя, нерасторжимые узы слез» [8, 10]. Элис также видит возлюбленную в своем страшном сне: «Нежный голос, где-то вдали, с отчаянной тоской, произнес его имя; …это была не мать, а прелестная молодая женщина, простиравшая к нему руки» [4]. Само стремление Элиса в подземный мир и его смерть — это своеобразная реализация финальных строк «Гимнов к Ночи»: «Из царства света вниз, во мрак! // Иная жизнь в могиле» [8, 36]. Интересно вплетен в канву гофмановского повествования и призыв «К невесте милой, вниз, во мрак!» [8, 37]: этой невестой оказывается для Элиса подземная царица — порождение его фантастических видений. Так архетипическая матрица «Гимнов к Ночи»: тьма, Низ, любовь — оказывается вписанной в гофмановский художественный мир с его двойниками и фантасмагорической реальностью.
Иронически обыгрывает Гофман и некоторые образы собственных произведений: так, герой «Золотого горшка» видит волшебных змеек и слышит их пение, в то время как для всех остальных он просто обнимает куст бузины. Элис также видит в руднике образы прекрасных женщин, плывет по волнам голубого эфира, в то время как в действительности его находят «…стоящим в каком-то оцепенении, с лицом, крепко прижатым к холодному камню» [4].
Эквивалентом огненной лилии и золотого горшка из этой же новеллы становится некий альмандин: «Там, внизу,… зарыт огненный, сверкающий альмандин. На нем вырезана ожидающая нас судьба, и его получишь ты от меня как свадебный подарок» [4]. Этот образ помещается в контекст основных философских идей Новалиса — «магического идеализма», представлений о связи всех вещей: «Он прекраснее, чем кровавый карбункул, и когда мы будем смотреть на него полными любви глазами, увидим мы ясно, как наше внутреннее существо, разрастаясь, переплетается с теми дивными ветвями, которые вырастают из сердца царицы в самом центре земли» [4]. Вместе с тем разрушается дидактичность этих идей, поскольку о них грезит явно безумный Элис.
Использует Гофман и пародию на типичные романтические ситуации. К примеру, истинная романтическая любовь показана как страшный фарс: старая безобразная Улла на костылях дождалась встречи с трупом своего жениха и, как положено романтической героине, умерла у него на груди. При этом Гофман нарочито усиливает пафос сцены, доводя ее до абсурда, котором способствует и ирония: «Едва старушка увидела окаменелый труп юноши, как в тот же миг всплеснула руками, уронив оба костыля, и воскликнула раздирающим душу голосом: „О Элис Фребем! О мой Элис! Мой милый жених!“. С этими словами она упала на труп, схватив его холодные руки, и крепко прижала их к своей груди, где, как святой огонь нефтяных источников, скрытый под покровом земли, еще билось полное горячей любви сердце… И вот сегодня дождалась я, наконец, радостного свидания!» [4].
Введение
в текст подобного слоя скрытых цитат, аллюзий, трансформированных моделей других авторов-романтиков делает их объектом гофмановской иронии, пародии и игры, разрушающих однозначность текстов. С другой стороны, эти образы и мотивы словно получают продолжение в художественной реальности рассказа Гофмана, что содержит в себе скрытый дидактический импульс — так становится более очевидным углубление разрыва между реальным и идеальным мирами, усиление трагического мироощущения в позднем немецком романтизме.
В целом можно сказать, что дидактической составляющей текстов и раннего, и позднего романтизма становится введение элементов иронического, «карнавального» (по В.И. Грешных) модуса сознания. Возможно, его столь значимая роль связана с тем, что именно в Германии по большей части шло утверждение принципов нового романтического искусства, и романтиков, провозглашающих свободу и отказ от идей Просвещения, преследовал особый страх оказаться тенденциозными. Отсюда — фрагменты, «открытые» финалы, заставляющие заново осмыслить все произведение, самопародия, ирония и гротеск. Вместе с тем объединение разных полюсов жизни, разных модусов сознания, «энтузиазма» и «карнавала» можно рассматривать и как выражение стремления к универсализму, столь характерное для романтиков Еще в текстах йенского периода ирония, самопародия и гротеск усложняют авторское освещение ситуаций и образов, снимают пафос и однозначность романтического повествования. Однако в произведениях позднего романтизма, в частности у Э. Т. Гофмана, происходит усложнение структуры иронического слоя текстов — это уже не просто пародия на романтические ситуации, а их продолжение и переосмысление в рамках изменившегося мироощущения. Обращение к образам из произведений других романтиков, создание скрытого аллюзивного подтекста превращает тексты Гофмана в подвижное пространство диалога с носителями ранних романтических идей, которые также интерпретируются автором. При этом ирония приобретает новое значение тоски не только по недостижимому идеалу, но и по «энтузиастическому» духу раннего романтизма, по вере в возможность изменить мир усилиями творческой личности. В итоге сам рассказ Гофмана, одержимого идеей двойничества, превращается в своеобразного двойника, искаженное отражение текстов того же Новалиса или Тика. Это позволяет говорить о немецком романтизме как об очень своеобразной структуре-спирали, для которой характерно постоянное возвращение к началу.
В позднем немецком романтизме усложняется и видение ситуаций, используется метод точек зрения, в результате чего картина мира словно составляется из отдельных фрагментов, а разрыв между идеальным и реальным мирами переносится в глубь сознания лирического героя, становясь основой для внутренного конфликта. И если повествователь Тика обладал целостным взглядом на мир, «синтезом антитез» (Шлегель), то в тексте Гофмана «синтез» пропадает, а остаются «антитезы».
Но и ранний, и поздний немецкий романтизм использовал иронический модус повествования для создания особых зон читательской свободы, разрушения окончательности истины текста. В то же время сочетание взаимоисключающих идей, оценок, образов стало особым средством воздействия на читателя, разрушения неизбежно складывающихся стереотипов и штампов романтизма, а, значит, и способом сохранить это явление живым, подвижным, полным неисчерпаемых смыслов.
ирония повествовательный текст полисемичный.
- 1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. 368 с.
- 2. Ванслов В. Эстетика романтизма. М., 1966. 214 с.
- 3. Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма. М., 1978. 180 с.
- 4. Гофман Э.Т. А. Фалунские рудники // http: www. lib.ru
- 5. Грешных В. И. Художественная проза немецких романтиков: формы выражения духа. Автореф. дис. на соиск… докт.фил.наук. — Калининград, 2001.
- 6. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. 322 с.
- 7. Новалис. Генрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб., 1995. 512 с.
- 8. Новалис. Гимны к ночи // Лира Новалиса в переложении Вячеслава Иванова. Томск, 1997. 340 с.
- 9. Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский романтизм. М., 2003. 282 с.
- 10. ХХ веков немецкой литературы. Антология /Сост. Иванова Э. И. М., 1994. 432 с.