Преодоление «теории бесконфликтности» в отечественно йлитературе и художественное осмысление «производственной» проблематики в северокавказской прозе 20-60-х годов ХХ века
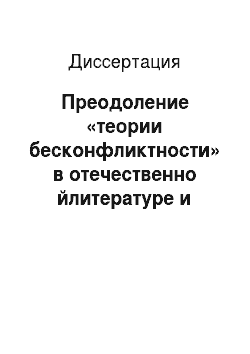
Степень изученности темы. Неординарными для советского времени исканиями представители «колхозно-производственной» прозы как в русской, так и в национальной литературе с самого начала стали привлекать внимание и критиков, и литературоведов. Однако значительно больший интерес вызывало творчество русских «производственников» и «деревенщиков». Исследование их достижений нашло отражение в большом… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Художественный конфликт как важнейший элемент проблематики и жанрово-стилевой структуры произведения, его роль в становлении «производственной» и «колхозно-деревенской» прозы
- Глава II. Особенности художественного конфликта в «Поднятой целине» М. Шолохова и осмысление «производственной» проблемы в северокавказских
- литературах
- Глава III. Художественная специфика решения «колхозно-производственной» проблематики в отечественной прозе 40-х — начала 50-х годов
- Глава IV. Преодоление «теории бесконфликтности» и своеобразие художественного осмысления «производственной» проблематики в северокавказской прозе
Преодоление «теории бесконфликтности» в отечественно йлитературе и художественное осмысление «производственной» проблематики в северокавказской прозе 20-60-х годов ХХ века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В отечественной литературе проза, осмысливающая «производственную» тематику, выработала свои, существенно отличающиеся от других особенности. Данная тенденция обусловлена тем, что разработка ее предполагает расширение элементарного колхозно-производственного описания взаимоотношений внутри коллектива, между рабочим и безработным, подчиненным и руководителем, городом и деревней.
А.Адамович писал в этой связи: «Сбереженная, пронесенная через века и испытания живая душа народа — не этим ли дышит, не об этом ли прежде всего рассказывает нам проза, которую сегодня называют деревенской? И если пишут и говорят, что проза и военная, и деревенская — вершинные достижения современной нашей литературы, так не потому ли, что здесь писатели прикоснулись к самому нерву народной жизни"1.
Русская литература всегда была обращена лицом к деревне, а в 70−80-х годах XIX века появилась серьезная, большая литература (Златовратский, Эртель, многие другие), которая стремилась осмыслить идею «хождения в народ» народовольческой интеллигенции (например, «Без дороги» В. Вересаева). Своеобразно повторился опыт писателей-народовольцев.
В первой половине прошлого века в советской литературе постепенно стали появляться авторы с идеологической установкой на «сближение с народом», на «привнесение культуры в массы». Однако большинству писателей, в отличие от народовольцев, не требовалось «идти в народ», изучать народ — они сами были представителями этой социальной группы, крестьянами или рабочими по происхождению. И потому прочная тенденция раннесоветской «производственной» прозы — ретроспективность повествования, в котором путь развития деревни описывается с эпохи коллективизации, события ее оказываются объективно необходимыми в содержании, в форме воспоминаний. Благодаря данному приему писатели-«деревенщики» обнаружили внутренний трагизм бытия современной им Цит. по: Сушилина И. К. Современный литературный процесс в России. М, 2001. С. 82. деревни, выявили в рядовом деревенском жителе личность. Подобный процесс был объективным, закономерным для всей литературы, ибо поиски «деревенской правды» характерны ы для поэзии, и для драматургии.
Перекрещивание различных временных пластов (настоящего и прошлого, недавнего и далекого) существенно для более объемного осмысления основных периодов послереволюционного преобразования деревни. Эта литература использовала новый подход в воссоздании сложных путей деревни к социализму. Восстанавливая исторический — период коллективизации с позиций минувшего, писатели провозглашают необходимость социалистических реформ в деревне. По словам критика второй половины прошлого века Ю. Кузьменко, «.и вместе с тем становилась шире, полноводнее литература «великого перелома» в истории страны. «Деревенская» тема становилась темой глубокого социально-исторического звучания, обретала новое, эпическое дыхание: приходили в движение вековечные жизненные устои, укрупнялись конфликты, поднимался в бой за выстраданные идеалы герой-преобразователь"1.
В процессе движения послереволюционной прозы о производстве можно проследить, как из разобщенных попыток изображения современной жизни со временем вырабатывался тип произведения социалистического реализма, формировался метод, который способствовал трансляции событий кардинально нового исторического бытия народа.
Произведения на трудовую тему помогали укрепить идеологические позиции, поэтому не были свободны от общества, политического строя, в котором существовали. Независимо от эстетических и социальных предпочтений, личных и общественных симпатий большинство авторов оказывались лишь исполнителями породившей их тоталитарной системы, представителями «первой», единственно разрешенной раннесоветской литературы. Традиционно критика характеризовала их следующим образом: «Тема освобожденного труда, осмысленная с позиций социалистического.
1 Кузьменко 10. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. М., 1981. С. 305. преобразования жизни, — принципиально иной шаг в художественном развитии человечества. Впервые именно литературой социалистического реализма были завоеваны такие эстетические высоты, которые обозначили перелом в ходе движения мировой литературы"1. Либо: «При всех индивидуальных различиях эти книги пронизаны одной всепоглощающей страстью: изображением, исследованием, утверждением тех путей, которые выводили деревню на столбовую дорогу новой, пронизанной коллективистскими началами, действительно достойной человека жизни"2.
Термин «производственная проза» обозначен критикой в 30-е годы и первоначально не имел оценочного значения: он предназначался для характеристики ряда произведений, описывающих формирование социалистической индустрии. В середине 50-х годов термин «производственная проза» получил в критическом обиходе устойчивый отрицательный смысл, с ним ассоциировалось все, что преодолевалось тогда писателями: облегченность, заданность, схематизм раскрытия конфликтов действительности. Однако четкого определения данной тематической разновидности в советской критике не появилось, что позволяет нам объединить «деревенскую» и «производственную» тематику в условный термин «колхозно-производственная» литература.
С течением времени «колхозно-производственные» книги помогают осмыслить содержание и сущность исторического развития деревни, ориентируют на сложные вопросы современной реальности — экономические, социальные, нравственные. От решения их в период коллективизации зависели судьбы крестьян, оказавшихся на перепутье между уничтожавшимися исконными и еще отсутствующими новыми традициями деревенского труда и всего бытия. Не вдаваясь в социальную и экономическую природу трудовой деятельности, отметим двоякий ее характер в нравственно-психологическом отношении. С одной стороны, это.
1 Ершов Л. Ф. История русской советской литературы. М., 1988. С. 98.
2 Кузьменко Ю. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. М., 1981. С. 306. рабский, изнурительный, принудительный труд, с другой, — осознанная, приносящая физическое, материальное и моральное удовлетворение трудовая деятельность.
Производственная" тематика в литературе имеет длительную предысторию. Труд как целесообразная деятельность человека является одной из важнейших его функций. В процессе труда люди вступают в определенные связи и отношения между собой. Не случайно в фольклоре и мифах любого народа в противовес богам-громовержцам очень рано возникают боги-покровители наук, искусств и ремесел (Гефест, Афина, Деметра, Дионис, Аполлон) и так называемые культурные герои-созидатели, демиурги (Прометей). С каждым из этих персонажей связаны мифологические сюжеты, полные различных (но именно трудовых) конфликтов и коллизий (Зевс и Прометей, Аполлон и Марсилий, Афина и-Арахна и т. д.). В адыгской мифологии подобную роль играют рукодельница Сэтэнай, бог кузнечного ремесла Тлепш, изготовивший из железа для нарт’ов орудия труда, боевое снаряжение и доспехи. Кроме этого, он чинил нартам покалеченные в схватках стальные бедра и черепа, следовательно, был и первым хирургом-ортопедом.
Наиболее архаичным жанром фольклора были трудовые песни и связанные с производством календарные обряды. Особое энергетическое притяжение вызывает образ эпического пахаря Микулы Селяниновича в русских былинах и многих аналогичных персонажей. Хотя ведущей в* народном эпосе является героико-военная и семейно^одовая проблематика.
В литературе же судьба «производственной» темы была иной. Если фольклор создавался на самом деле трудовым народом и отражал соответствующее мировоззрение, то литература, по преимуществу, порождение идеологии иных классов. Персонажи, у которых хотя бы известна их профессиональная принадлежность, встречаются длительное время лишь в произведениях демократических, «низких» жанров — в комедиях Аристофана, Менандра, Плавта и Теренция, в демократической литературе средних веков, посвященных быту ремесленников, далее — в литературе уже буржуазного периода — в комедиях Мольера, романах Д. Дефо, отчасти Г. Филдинга. Особое и конкретное развитие различные модификации «производственной» темы приобретают в творчестве Ч. Диккенса, О. Бальзака, Э. Золя, Д. Лондона, во второй половине XX века в романах Хейли «Отель», «Аэропорт».
В русской литературе ан£ логичные явления можно встретить лишь в отдельных проявлениях революционно-демократической (А.Радищев, Н. Чернышевский) и почвеннической литературы разного рода (Н.Лесков, Н. Помяловский, И. Мельников-Печерский), в очеркистике «натуральной школы», в стихах Н. Некрасова и крестьянских поэтов. На рубеже Х1Х-ХХ вв. эта тема усиливается не только в творчестве М. Горького и пролетарских поэтов, но и в художественных и публицистических произведениях М. Мамина-Сибиряка, А. Куприна, Н. Гарина-Михайловского, В. Короленко, В.Шишкова. В новописьменных же литературах Северного Кавказа в дооктябрьский период подобная идея практически отсутствует, а если и появляется, то эпизодически, лишь в контексте крестьянского, аграрного труда в связи с отсутствием промышленного производства и пролетариата. И потому тема переустройства жизни деревни предполагала человеческие драмы, порой трагедии, острейшие конфликты и противоречия, а значит, ощутимый элемент драмы и лирики. Даже в самых одиозных советских произведениях литературы можно увидеть биение напряженной, пытливой мысли, реальные жизненные проблемы и конфликты, человеческие характеры и судьбы. Это характерно для начала обозначенного периода, а далее, казалось бы, здоровое начало превратилось в непреодолимое препятствие, породившее «вульгарный социологизм».
Известно, что развитие любого общества представляет собой сложный процесс, который совершается на основе зарождения, развертывания и разрешения объективных противоречий. Признавая подобный факт теоретически, господствовавшая в течение десятилетий марксистская теория, по существу, не относила это к отечественному обществу. Традиционно один из идеалов социализма — отсутствие антагонистических классовых конфликтов, и потому еще в конце 30-х годов у ряда авторов появилась идея «бесконфликтности» развития социалистического общества. По мере же становления «колхозно-производственной» темы в советской литературе начинается вполне ощутимое противостояние данной теории. Причем противостояние основано на том, что писателям порой удавалось показать новую социальную подпочву очерчиваемого, выявить иные психологические связи и отношения между персонажами, обнаружить актуальные проблемы в колхозно-производственном бытии, которые по насыщенности и трагизму обнаруживающихся в них конфликтов нельзя было отнести к «бесконфликтным» (А.Платонов, М. Ыолохов и др.).
Таким образом, постепенно «деревенщики» и «производственники» обращаются к самым трудным, важным вопросам жизни человека и социума и делают попытку глубоко и дифференцированно раскрыть внутренний мир труженика в данных исторических обстоятельствах. То есть советской литературе, минуя два периода торжества бесконфликтности в литературе (30-е — начало 40-х гг. и конец 40-х — начало 50-х гг.), предстояло выйти на реалистический уровень «человековедения» (конец 50-х — 60-е гг.), и мы пытались показать в работе качественно иной художественный шаг, сделанный в этом направлении «производственно-деревенской» прозой.
В первый, выделяемый нами временной период — 20-е — начало 40-х гг. — происходило трудное вхождение в проблему (тем не менее, это способствовало творческому процессу) и накапливание опыта беспристрастного художественного постижения актуальных фактов и явлений как современных, так и исторических (трудгероизмподвигсамопожертвованиесамоотречениепосвящение себя великим целям, созиданию невиданного будущего, подавляющего величием, и т. д.). В большинстве произведений исследуемого этапа писатель интерпретировал историю труда как «прекрасную и трагическую историю борьбы человека о природой, историю его открытий, изобретений — его побед и торжества над слепыми силами природы"1.
Хозяйственная, организаторская работа представлена в произведениях 20-х — начала 40-х гг. поистине героическим подвигом, подразумевающим преобразование мира и человека в результате перехода от эксплуататорской предыстории к действующей истории общества.
Рассматриваемые в работе произведения Ф. Гладкова, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шагинян, Т. Керашева, М. Шолохова, А. Евтыха, С. Кожаева, Х. Абукова, Х. Теунова, Д. Мамсурова, С. Бадуева, относимые к первому из выделяемых нами периодов, раскрывали тему труда как процесс революционного преобразования действительности, как процесс формирования новой личности.
При этом объектом сюжетного развития перестала являться судьба отдельного персонажа. Писатели изображают в произведениях то, как труд в обстановке новой реальности делается «благословением жизни» (термин Ф. Гладкова). Вот как Ю. Кузьменко мотивирует обязательное для данных текстов «ощущение праздника»: «Стройки первой пятилетки разворачивались в условиях социализма, впервые открывшего возможность «работать на себя, а не на капиталиста, барчука, чиновника, не из-под палки. Все комбинаты, заводы, шахты, электростанции закладывались в тот момент истории социалистического строя, когда сбереженная и приумноженная в трудные годы революционная энергия народа хлынула могучим потоком в русло социалистического преобразования страны"2. Автор этих строк, один из ярких представителей «социалистической, большевистской эстетики», не мог писать иначе, тем более высказать несколько сдержанную оценку «антихудожественной и антиреалистической концепции» нового искусства.
Во второй, выделяемый нами временной период (конец 40-х — начало 50-х гг.) вместе с назревшими трудностями и проблемами в «колхозно.
1 Горький A.M. Собр. соч.: в 30 т. Т. 17. М&bdquo- 1952. С. 141.
2 Кузьменко Ю. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. М., 1981. С. 122. производственной" литературе появились правдивые зарисовки о трагических перипетиях и коллизиях. Однако это была правда времен тоталитаризма — ограниченная, зачастую искаженная, включавшая идеи,-которые внедрялись в сознание большинства общества, хотя и с определенными коррективами. Как утверждает В. Ковский, «.после 20-х годов, когда на гребень деревенской тематики были взметены коллизии революции и Гражданской войны, после 30-х, дышавших классовым пафосом коллективизации, после трагических и одновременно героических страниц Великой Отечественной писатели впервые оказались лицом к лицу с материалом будничной действительности, с повседневным трудом, лишенным классово-антагонистического характера"1.
Доминирующим направлением в послевоенной литературе о современности вновь явилась «колхозно-производственная» проза, описывающая труженика на его рабочем месте, в ходе деятельности, в бою за технический прогресс. Советские писатели обязаны были представить образ человека труда как олицетворение высокой морали, революционных традиций и создателя новой жизни. Изображаемые в данный временной период трудящиеся, в соответствии с правилами советского коллективизма, старались по мере сил, умения, сознательности, убежденности или конформизма идти в одном строю под руководством общей для всех партийной власти.
Изначально в «колхозно-производственной» литературе разных исторических периодов прослеживались три основные функциональные линии: во-первых, попытка сделать для рядового гражданина процесс труда увлекательнымво-вторых, раскрыть понимание того, в чем именно состоят различные виды трудовой деятельности, чтобы он мог определиться в жизнив-третьих, углубиться в тему «Этика труда». При этом главным для писателей 20−50-х гг., посвятивших себя служению социализму и пролетариату, творивших «по велению сердца», добровольно отданного.
1 Ковским В. Е. Литературный процесс 60−70-х гг. М., 1983. С. 206. родной партии", должна неизменно быть верность социалистическим идеалам, классовой борьбе, принципам «партийности и народности», установкам и традициям социалистического реализма. Стержневая тенденция «колхозно-производственной» прозы начала 50-х гг. состояла в постепенно нарастающем критическом отношении к советской системе как явлению, в часто робком, но ощутимом жглании ее изменить, защитить личность от посягательств на творческий потенциал, от культа безликого и аморфного коллективизма.
Степень изученности темы. Неординарными для советского времени исканиями представители «колхозно-производственной» прозы как в русской, так и в национальной литературе с самого начала стали привлекать внимание и критиков, и литературоведов. Однако значительно больший интерес вызывало творчество русских «производственников» и «деревенщиков». Исследование их достижений нашло отражение в большом количестве статей, а также в монографических и диссертационных работах таких авторов, как Л. Аннинский, А. Бочаров, П. Выходцев, Л. Демина,-И.Золотусский, А. Караганов, В. Кожинов, В. Коробов, Ф. Кузнецов, В. Курбатов, А. Ланщиков, А. Овчаренко, Л. Панков, Ю. Селезнев, С. Семенова, В. Сурганов, Т. Трифонова, А. Турков, В. Чалмаев, Е. Черносвитов, А. Шагалов и др.1. Но ни в одной из работ указанных авторов в силу их специфики почти не затрагиваются проблемы национальных литератур на обозначенную проблему. И сами «местные» критики Северного Кавказа не создали ни одного концептуального суждения, которое характеризовало бы «колхозную» проблематику в «провинции» в контексте поисков отечественной прозы, поэзии, драматургии. Проза провинции по-прежнему ориентировалась на колхозную действительность, в лучшем случае, на историческую проблематику.
1 Латышев О. Ю. Типологические особенности и межнациональные связи русской «деревенской» прозы 1960;х годов: автореф. дне.. канд. филол. наук. Майкоп, 2000. 25 е.- Колощук Н. Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материалах автобиографических произведений В. Астафьева, М. Карима, М. Алексеева): автореф. дис. канд. филол. наук. Киев, 1990. 27 с.
Чтобы наглядно проиллюстрировать традиционные для советской критики суждения по поводу данной тематики, приведем фрагмент,-включающий мнения разных критиков. Так, Ю. Кузьменко рассуждает о следующих словах В. Ковского: «Признавая высокое художественное качество современной советской деревенской прозы, — писал он, — мы почти никогда не даем сколько-нибудь удовлетворительного объяснения этому явлению. Но разве не кроется одна из существенных причин его в том, что художники, пишущие о деревне, тот же В. Шукшин, или Г. Матевосян, или.
B.Белов, воспринимают происходящие здесь процессы в масштабах «мук истории», драматических преобразований человеческого сознания в целом и до этого масштаба постоянно поднимают весь свой даже чисто" «производственный» и «бытовой» материал? И, напротив, разве не мешает сплошь и рядом прозе «индустриальной» чрезмерная «специализация» ее проблематики, отсутствие больших социально-философских обобщений?"1 На оба эти вопроса, видимо, надо дать положительные ответы: «Да, деревенская наша проза обрела громкое звучание не только благодаря признанной всеми ее талантливости и художественности, но и потому, что она отображает переживания советского человека, оказавшегося между городом и селом, как своеобразное проявление драматического всемирного процесса. Да, индустриальная проза и драматургия сильно проигрывают на этом фоне своей локальностью, нередкой погруженностью лишь в поверхностные слои идущих здесь социальных процессов"2.
Что касается национального литературоведения, то, как верно замечает У. Панеш, «.в большинстве исследований, посвященных адыгским литературам, прозе послевоенного десятилетия отводится мало места. Данный период или необоснованно игнорируется, или рассматривается в общем плане, или анализируется как время, не давшее серьезных эстетических завоеваний. Возможно, это связано с односторонностью оценок.
1 Ковский В. Е. Социологический и эстетический критерий в критике // Литература и социология. М., 1977.
C. 57−58.
2 Кузьменко Ю. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. М., 1981. С. 327. и крайностями в суждениях, которые установились одно время в советском литературоведении"1.
Проблемы генезиса и динамики развития национальной прозы Северного Кавказа частично освещены в монографиях «Художественный конфликт и эволюция жанров в ядыгских литературах» (Тбилиси, 1978), «XX век: Эпоха и человек» (Майкоп, 2006) К. Шаззо, «Вровень с веком» Р. Мамия (Майкоп, 2001), «Культура и общественная жизнь» А. Тхакушинова (Майкоп, 2007), «Типологические связи и формирование художественно-эстетического единства адыгских литератур» У. Панеша (Майкоп, 1990), «На пути к зрелости» Х. Тлепцерше (Краснодар, 1991), «Некоторые вопросы развития адыгских литератур» Х. Хапсирокова (Ставрополь, 1964), «От богатырского эпоса к роману. Национальные художественные традиции и развитие повествовательных жанров адыгских литератур» (Черкесск, 1974) Л. Бекизовой, «Литература Карачаево-Черкесии на современном этапе» Л. Бекизовой, А. Караевой, В. Тугова (Черкесск, 1970), «Путь к художественной правде» Х. Туркаева (Грозный, 1989), «Своеобразие эпохи и ее художественное отражение в северокавказской лирической прозе» Ф. Хуако (Майкоп, 2004), «Отражение времени» Г. Индербаева, «Дагестан: историко-литературный процесс» Г. Гамзатова (Махачкала, 1990), «Литература народов Северного Кавказа»: учебное пособие Л. Егоровой и П. Чекалова (Ставрополь, 2003) и в других источниках.
Следует отметить, что в данных исследованиях поставлены и зачастую решены многие вопросы, связанные с возникновением и становлением младописьменных литератур, ролью фольклорных традиций в этом процессе,-с современной модификацией жанра в национальных литературах, его национальным своеобразием и т. д. Проблемы же «колхозно-производственной» тематики рассматривались лишь в контексте анализа конкретных произведений. В целом же северокавказская «колхозно Панеш У. М. Тнполо1 ическис связи и формирование чудожественно-эстетического единства адыгских литератур. Майкоп, 1990. С. 119. производственная» литература, в основе которой сохранились до 80-х годов XX века рецидивы пролеткультовской идеологии и эстетики, до сих пор еще не стала предметом специального научного исследования. Эти вопросы и отсутствие конкретных работ по «деревенской» и «производственной» северокавказской прозе делают особо актуальными научно-теоретические основы данной работы.
Важным представляется новое освещение означенного периода в русской и одновременно северокавказской литературах (на основе рассмотрения произведений «производственной» и «колхозной» прозы), выявление в специфическом контекоте влияния «большой» литературы на младописьменные и обобщенный анализ произведений периода середины прошлого века с позиций иного эстетического и духовного времени.
Именно это последнее и является целью нашего научного труда.
Цель предопределила следующие задачи:
— проанализировать обстоятельства возникновения и развития «колхозно-производственной» прозы первого означенного периода в отечественной и северокавказской литературах в условиях воздействия на литературу «теории бесконфликтности» творчества;
— исследовать творческий поиск М. Шолохова в «Поднятой целине» и обозначить влияние романа на становление прозы о труде 30-х — начала 40-х гг. в отечественной и национальных литературах;
— рассмотреть особенности русской и северокавказской литератур начала 50-х гг. в освоении «колхозно-производственной» проблематикипроанализировать результаты воздействия общесоюзного литературного процесса эпохи «теории бесконфликтности» на характер развития темы труда в северокавказской прозе с середины 1950;х годов;
— выявить и оценить признаки преодоления постулатов «теории бесконфликтности» в отечественной и северокавказской литературах конца 1950;1960;х гг.
Объектом исследования является «производственная» и «колхозная» проблематика в книгах русских и северокавказских авторов в диалектике причин и следствий возникновения и воздействия на прозу «теории бесконфликтности». Материалом послужили произведения В. Катаева, М. Шагинян, Л. Леонова, Ф. Гладкова, М. Шолохова, А. Первенцева,.
A.Караваевой, В. Ажаева, В. Тендрякова, С. Бабаевского, Г. Троепольского, Г. Николаевой, А. Рыбакова, В. Пановой, Б. Горбатова, В. Овечкина, Д. Гранина,.
B.Кочетова, И. Эренбурга, Б. Гуртуева, Т. Керашева, Ю. Тлюстена, С. Кожаева, Х. Теунова, А. Евтыха, И. Папаскири, А. Аджаматова, А. Шогенцукова и др.
Предметом исследования стало влияние «теории бесконфликтности» на формирование эстетики «колхозно-производственной» прозы в отечественной литературе и идейно-художественные искания писателей 2060;х годов XX века России и народов Северного Кавказа.
Научная новизна исследования. «Производственно-колхозная» проблематика и ее влияние на эстетику (жанры, стили) имеют свою методологическую основу. Теоретическими предпосылками явился социологический метод (И.Тэн), обретший в XX веке «новуюжизнь» в трудах Г. Плеханова, А. Богданова, А. Луначарского, В. Ульянова-Ленина, рапповских деятелей, целого ряда исследователей литературы советского периода, в том числе и национального литературоведения. Известно, что социологическая традиция, прямолинейно реализованная в «производственно-колхозной» литературе, оказала определяющее влияние на формирование социалистического реализма и укрепление его далеко не всегда эстетически состоятельных позиций во всех видах культуры бывшего СССР, несмотря на оказываемое противодействие в 20−30-е годы со стороны отдельных творческих групп и индивидуальных художников. Сказать, что «вульгарный социологизм» полностью изжил себя, означало бы недооценить мощь его идеологической энергии, которая и по сей день обнаруживает себя в общероссийской литературе, по-особённому многообразно — в молодых литературах, в том числе и Северного Кавказа. Достаточной степенью новизны обладает научное положение автора, согласно которому генетические корни «вульгарного социологизма» — в истории мирового художественного опыта, ибо любая идеологическая эпоха стремится подчинить себе искусство, о чем много написано в советской литературе 60-х и последующих годов, тем более, эпоха материализма, сделавшая искусство частью общегосударственного механизма.
Кроме этого, в работе впервые р национальном литературоведении осуществлено комплексное изучение северокавказской «колхозно-производственной» прозы в контекс1е тенденций отечественной литературы 20−60-х гг. XX века и раскрыта ее роль в последовавшей позже активной психологизации художественного творчества 60-х гг., во многом обогатившей литературный процесс. Постановка данной проблемы предопределяет многоаспектность нашего исследовательского внимания, обусловленную стремлением пересмотреть некоторые методологические подходы к постижению литературного процесса на Северном Кавказе, выйти за рамки узких социально-классовых оценок и обратиться к подлинно художественным ценностям.
Теоретическая и практическая значимость работы определяются потребностями науки во всестороннем анализе проблем эволюции конфликта и соответствующей трансформации формы в отечественной литературе, в том числе и Северокавказского региона, нуждающихся в инновационном исследовании. Диссертационное исследование способно оказать опосредованное влияние на творчество писателей и методологическую концепцию критики, поскольку предлагает необходимое изменение вектора поисков новых духовно-эстетических ориентиров. Материалы диссертации возможно использовать при составлении учебных программ, написании учебников по истории новописьменной и отечественной литератур XX века для высших учебных заведений.
Методологической и теоретической основой диссертации являются взгляды зарубежных и отечественных теоретиков на проблему «искусство и общественная жизнь», позиции критики и литературоведения в отношении к вопросам художественного метода, конкретнее — социалистического реализма. При исследовании закономерностей эволюции означенной природы художественного творчества в северокавказской литературе мы ориентировались на теорию целостного восприятия отечественной литературы, на идею преемственности, взаимосвязи составляющих частей литературного процесса, зависимости русской и национальных литератур. Мы исходили из опыта отечественной литературоведческой школы, разработавшей принципы и методы описательного, системно-структурного, сопоставительного и сравнительно-типологического понимания литературного процесса, применяя их к различным стадиям зарождения и становления новописьменных литератур России. Обращение к подобной методологии вызвано необходимостью понимания конкретно-исторических и литературных ситуаций возникновения национальной «производственной» и «колхозной» прозы, анализа отдельных ее образцов и стремлением показать общие типологические характеристики на этапах развития данной проблематики в литературе.
Означенный опыт сосредоточен в трудах И. Тэна, А. Луначарского, В. Переверзева, В. Плеханова, В. Фриче, рапповцевв известных работах К. Абукова, М. Бахтина, Л. Бекизовой, Г. Гамзатова, Л. Деминой, В. Жирмунского, Г. Ломидзе, Р. Мамия, У. Панеша, М. Пархоменко, К. Султанова, А. Схаляхо, Л. Тимофеева, Х. Тлепцерше, Х. Туркаева, Ю. Тхагазитова, А. Тхакушинова, М. Храпченко, П. Чекалова, К.Шаззо.
Положения, выносимые на защиту:
1. В художественном произведении конфликт способствует движению структурных компонентов: композиции, сюжета, системы характеров и событий, жанрово-стилевых характеристик исследуемых явлений и процессов и на основе этого выходит к уровню эстетической категории (эпический конфликт, драматический конфликт, лирический конфликт), способной раскрыть идеи, лежащие в глубине материала трагического, прекрасного, комического. Практическая роль конфликта в художественной прозе состоит в обеспечении им взаимосвязи персонажей, событий в создании для них обстоятельств самораскрытия.
2. Художественный конфликт был предметом серьезного внимания теоретиков искусства в разные исторические эпохи (начиная с Аристотеля, завершая современными учеными). Эволюция эстетического содержания конфликта в известных методологических системах, последовательное возрастание идеи зависимости искусства от общественной жизни (от простого подражания природе до «вульгарного социологизма») в конечном итоге привели некоторых исследователей к мысли о приоритете содержательной фактуры текста над его художественными показателями.
3. В XX веке в российской культуре и духовном процессе социологизм, восприняв из предшествующей теории искусства мысли о социальной природе художественного творчества, превратил позитивные положения системы «искусство и общественная жизнь» в идеологически и эстетически активную и агрессивную силу, фактически разрушавшую культуру, литературу, оставив из них то, что соответствовало принципам тоталитарно-государственного руководства духовными явлениями.
4. «Здоровый» социологизм, веками накопивший большой опыт в художественном исследовании общественных закономерностей, был обстоятельно извращен и последовательно размешан быстророжденными идеями о прямой зависимости эстетических форм произведения от государственного заказа, социально-классового статуса их создателей, тем самым обеспечив превращение в «вульгарный социологизм», который в 2030;е годы и стал главным законом советского культурного пространства.
5. В самой основе Пролеткульта заложена идеология «вульгарного социологизма»: пролетарское искусство должно обслуживать пришедший к власти пролетариат, при этом определить наглядно и безапелляционно эстетику и психологию, стереотип героев, обстоятельств, конфликтных параметров, стиль и жанровые формы, творческое поведение писателя.
Практически все требования отразились на так называемой «производственной» (промышленной), а затем и «производственно-колхозной» литературе, и весьма болезненно — на прозе, очень популярном и распространенном жанре обновляющейся отечественной и зарождающейся: новописьменной литератур.
6. Создание «производственной» и «производственно-колхозной» прозы (Ф.Гладков, М. Шагинян, М. Шолохов, Л. Леонов, Ф. Панферов и др., писатели Северного Кавказа) в 20−30-х годах способствовало попытке формирования нового типа колхозного романа (реже — повести, рассказа), в национальных литературах — фактическому образованию жанров прозы (от очерка к роману). «Поднятая целина» — важнейшее звено в этом процессе, и внимательное прочтение позволяет сделать вывод о трагическом несоответствии внешней коммунистической идеологической проблематики драматически напряженным сложностям подлинных людских судеб в художественной и нравственно-гуманистической структуре романа.
7. «Производственно-колхозный» роман приобрел в послевоенной отечественной литературе убедительные признаки эстетически самодостаточной прозы о деревне. Это проявилось в осознании судьбы русской деревни как возможного и необходимого обновления крестьянской духовности и преодолении пресловутой «теории бесконфликтности» творчестваактуализации проблемы художественного метода в связи с драматическими метаморфозами в его идеологических обоснованиях и попытке возвращения «производственно-деревенской» прозы к отображению объективно-драматических обстоятельств.
8. На 40−60-е гг. приходится осмысление идентифицирующихся явлений в общественных процессах и в северокавказской «производственно-деревенской» прозе, обобщенно-эпический взгляд писателей на действительность сопровождается стремительно-динамическим включением в него лирико-психологической субъективности и энергии самораскрывающейся личности. Формирование национальной художественной прозы, помимо обогащения психологизмом, включало последовательно усложняющуюся обращенность авторов к историческим судьбам деревни, к нравственным и психологическим архетипам и в делом к ментальности народов.
9. Отечественная (русская и национальная) проза на «производственно-колхозную» тему развивалась следующим образом: минуя два в основном эпических (описательных) периода (30-е — начало 40-х гг. и конец 40-х — начало 50-х гг.), она достигает в промежутках между ними убедительных," хотя и редких, подлинно реалистических результатов, выходит на новый художественный уровень (конец 50-х — 80-е гг.), направленный к личности, к индивиду, вовнутрь морально-психологического мира членов общества в процессе именно трудовой деятельности.
Апробацию работа прошла на ежегодных отчетных обсуждениях кафедры литературы и журналистики АГУ, на международных, всероссийских и региональных научных конференциях: «Творческая индивидуальность писателя: теоретические аспекты изучения» (Ставрополь, 2008), «Литература народов Северного Кавказа: художественное» пространство, диалог культур" (Карачаевск, 2008), «Советский менталитет: источники и тенденции развития» (1994), «Развитие непрерывного педагогического образования в новых социально-экономических условиях на Кубани», «Духовно-нравственный потенциал России: идеология, политика, практика», «Россия и Запад: прошлое, настоящее, будущее, перспективы развития» (Армавир 1997, 1998, 1999, 2007, 2008), а также в Нальчике, Майкопе, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Результаты исследования изложены в 36 публикациях, в том числе — в трех монографиях (см.автореферат).
Объем и структура диссертации. Цели и задачи, объект исследования обусловили и предопределили логику и структуру данной работы. Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения и библиографии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
В 30-е — 50-е годы — довоенные и послевоенные десятилетия — все более (активное отображение в советской литературе приобретает тип построения сюжета, при котором исторический период выявляется через производственные подробности социалистического строительства (предприятия или колхоза), а основное писательское внимание притягивают не человеческие судьбы, а судьбы трудового коллектива.
Для художественного стиля авторов «колхозно-производственных» произведений первой половины прошлого века характерно достаточно однозначное разделение действительности на «белое» и «черное», преобладание полярной композиции, выявлявшей идею автора прежде, чем I персонаж успевал обнаружить ее в ходе развития сюжета. Герои, чаще всего являясь батраками, становятся активными революционерами: сначала вступают в конфликт с хозяевами, позже в некоторых счастливых для себя условиях сближаются с большевиками, и под их воздействием вершится кратковременное «безоблачное прозрение», переоценка ценностей.
Такого рода построение конфликта определялось, с одной стороны, чрезмерной остротой классовых противоречий эпохи Гражданской войны, с другой, — недостаточным художественном опытом молодых писателей. Поэтому господствовало изображение событий в их внешнем проявлении, а * внутренний мир, психологическая мотивация действий персонажа оставались невидимыми для читателя.
Именно в первый период советским литературоведением введено понятие «производственный роман», которое подразумевало книги, представляющие создание новой, социалистической индустрии. Возникшая в дореволюционные годы концепция «чистой» пролетарской культуры, создаваемой только пролетариями, практически вела к отрицанию связи между социалистической культурой и культурой прошлого, к обособлению пролетариата в области культурного строительства от крестьянства и 1 интеллигенции.
Тема социалистического преобразования реализована в книгах о Строительстве, о Работе, — с заглавной буквы — о созидании нового мира в активной борьбе с пережитками прошлого времени. Эта специфика существования прогрессивного человека нового времени представилась ряду молодых советских писателей столь внушительной, что они порой использовали в качестве сюжетообразующего конфликта не судьбу персонажа с мечтами и стремлениями, а непосредственно производственные | процессы с изображением человека лишь в ходе механического решения технических проблем.
Однако есть здесь и другая крайность — порой нет производства как такового, трактуемого в сугубо техническом плане: оно часто избыточно перегружено социально-классовыми идеями и чувствами. Так, М. Горький подводил читателя к социально-классовым конфликтам через проблему преодоления хваткой мощи мещанства, подорванного экономически, но продолжающего «весьма заметно врастать» в советскую реальность, и через метаморфозу человека «из подневольного чернорабочего или равнодушного * мастерового в свободного и активного художника». Здесь нет расчленения труда на более или менее социально важный, любое трудовое движение персонажа-созидателя — еще одна победа нового строя.
Таким образом, на первый план выходит не судьба одиночных героев, запертых в сфере безысходных семейно-бытовых конфликтов, а участь поколения бойцов и созидателей, деятельность крупных коллективов. Все раннесоветские авторы — порознь и сообща — писали один коллективный «учебник жизни», в котором учили жить по-советски, по-новому, отлично от того, как жили люди в России до революции или в эмиграции, и от того, как ¦ они живут в остальном «цивилизованном» мире.
Аналогичная ситуация имела место в северокавказских литературах соответствующего периода. Далеко не всем авторам удавалось художественно проникать в суть конфликтов реальности, обнаруживать общественно-политические стимулы, этнические особенности, обусловленные историческими, географическими, «областными» и другими признаками. При этом в реализации конфликта немаловажную роль сыграли как литературно-художественные, так и публицистические, и фольклорные компоненты.
Несмотря на то, что писатели испокон веков должны максимально проявлять в творчестве собственную индивидуальность, восприятие социалистического реализма как догмы лишило их этого права и стандартизировало искусство, вследствие чего автор текста оказывался деперсонализованным, художественный текст превращался в механическое сцепление высказываний, а произносимое отдельными людьми определялось I шаблоном коллективной речи.
Здесь, как и во всей советской литературе данного периода, основным героем выступает народ (точнее, коллектив), вынужденный отойти от национальных корней и традиций к государственности. Однако достаточно часто авторы обращаются к богатому героическому прошлому национальной истории, а произведения порой отражают ностальгические мечты о свободе и независимости.
Необходимо было полно, на всех уровнях изучить конфликты, противоречия, наконец, закономерности новой действительности. Речь шла не тойько о том, чтобы писателям освободиться от подавляющей системы, но и о том, чтобы дать читателям возможность почувствовать свободу, вызвав у них представление о духовном раскрепощении.
С годами, ближе к середине XX века, жизнь, боль и мука рядового трудового человека, чаще всего крестьянина, оказывающегося под прессом истории государства или роковых ситуаций, стали материалом «колхозно-производственной» прозы. Добродетель и храбрость крестьянина, способность в данных обстоятельствах сберечь верность самому себе, устоям трудящегося мира оказались центральным открытием в литературе. Проблемы людей труда, молодого поколения, трансформация менталитета стоят в центре внимания литературы народов Северного.
Кавказа. В рассматриваемый период северокавказские писатели и поэты чаще стали обращаться к трудовому прошлому своих народов в стремлении найти нити, которые связывают день ушедший, сегодняшний и грядущий, оценить события и факты созидательного прошлого. И здесь приходит на помощь организация конфликта по шолоховскому принципу — группа борцов за колхозы противопоставлена врагам создания коллективного хозяйства. Новые условия жизни выводят на первый план героя-бедняка, который еще недавно не был ничем примечателен. Хасан Х. Абукова, Исхак Т. Керашева, Бекир Б. Гуртуева долго и мучительно ищут причины социального неравенства и со временем обязательно находят их.
Советская критика отмечает следующие недостатки северокавказской литературы: описательность, неглубокое исследование эмоционально-чувственной сферы, «слабость в изображении жизненных процессов и влияния этих процессов на формирование, рост и развитие характеров"1. Путь психологического преобразования личности остается за рамками повествования. Здесь вновь имеет место явление необоснованного «резкого прозрения», характерное как для прозы шолоховского периода, так и для национальной литературы 30-х гг.
Однако, имея в виду рассматриваемые в данной работе произведения, можно вполне обоснованно утверждать, что уже во второй половине 40-х гг. (Х.Теунов, А. Евтых) обозначились первые, хотя робкие и неявные, но наметившиеся тенденции лиризации повествования, субъективно-личностные нюансы в изложении темы, психологизм — в образах.
Несмотря на все художественные недостатки произведений молодых тогда еще авторов, «это были первые большие художественные эпические произведения национальных литератур, должным образом поднимающие важные проблемы эпохи, анализировавшие пространственно-временные координаты, раскрывавшие думы и чаяния народа, изображавшие горскую ментальность, создававшие реалистические характеры оригинальными.
1 Хапсироков Х. Х. Некоторые вопросы развития адыгских литератур. Ставрополь, 1964. С. 25. художественными средствами"1. Действительно, эту, пусть и несколько художественно упрощенную стадию национальным литературам необходимо было пройти, чтобы с годами осознать необходимость личностно-этнического самоуглубления, обусловившего впоследствии дальнейшее совершенствование национальных идейно-эстетических традиций.
Значение появлявшейся к середине 50-х гг. «оппозиционной» литературы заключалось в последовательном, неизбежном расшатывании изнутри ключевых установок насаждаемого строя, в неспешном, но неотвратимом ослаблении идеологических позиций, идеалов тоталитаризма, в постепенной дискредитации веры в безукоризненность предпочтенной стезиу назначенных целей социального изменения й применяемых для их достижения средств.
Все перечисленные факторы оказывали определенное влияние на развитие отечественной литературы и искусства/ показывали истинный смысл «оттепели» 60-х годов в духовной жизни, создавали напряженную обстановку среди творческих работников, рождали недоверие к политике партии в области культуры.
В то же время положительный герой «оттепельных» произведений независимо, напористо и дерзко взвешивал и разрешал новые, непростые проблемы, выдвинутые действительностью. Новая литература уводила читателя в реальный мир, в котором нет внешней героики, патетики, но есть поэзия, народная мудрость, созидательный труд, любовь к родной земле.
Судьбоносным в развитии «колхозно-производственной» литературы можно считать XX съезд КПСС, несколько ослабивший идеологическое давление партийного руководства. Однако известное «равновесие» в подходе к достоинствам и недостаткам романа о современности, как их тогда понимали, продолжалось сравнительно недолго.
1 Боташсва З. Ш. Взаимодействие идей зарождающихся литератур Северного Кавказа и русской литературы / З. Ш. Боташева // Вестник Адыгейского государственного университета: сетевое электрон, науч. изд. Проблемы изучения литератур народов Российской Федерации. — 2005. — № 3. — Режим доступа:// www.vestnik.adygnet.ru.
Несмотря на появление новых произведений, в которых отмечается некое свободомыслие, в целом политика «оттепели» в духовной жизни имела вполне определенные границы, тем не менее сыграла свою роль в поступательном развитии литературы и искусства.
Подытоживая данный анализ, можно говорить о том, что на фоне литературы «колхозно-производственной» тематики назревает 1 последовавшая в 60-е годы лиризация (психологизация) советской прозы. Эти новые реалии литературы также были знаками, типологическими чертами изменяющегося характера литературного процесса, начинающегося преодоления соцреалистической одномерности литературы.
Список литературы
- Абитова, С.К. К высотам пеализма: проблема развития адыгской прозы / С. К. Абитова. — Черкесск: Карачаево-Черкесское отд. Ставроп. кн. изд-ва, 1968.- 103 с.
- Абрамов, Ф.А. Народ в «Поднятой целине» М. Шолохова / Ф. А. Абрамов // Михаил М. Шолохов: сб. ст. Л.: Наука, 1956. — С. 64−97.
- Абуков, К.И. Я виноват, Мгрьям: повести / К. И. Абуков. — М.: Сов. Россия, 1978.-304 с.
- Авдеенко, А.О. Отлучение / А. О. Авдеенко // Знамя. 1989. — № 3.
- Аджаматова, Н.К. Проблема эволюции конфликта и национального характера в прозе народов Дагестана и Северного Кавказа: автореф. дис.. д-ра филол. наук / Н. К. Аджаматова. Махачкала, 2007. — 23 с.
- Адыгейская филология: сб. ст. Ростов н/Д, 1972. — Вып. V. — 48 с.
- Ажаев, В.Н. Далеко от Москвы / В. Н. Ажаев. — М.: Худож. лит., 1989.-652 с.
- Алешкин, П.Ф. Мой Леонид Леонов / П. Ф. Алешкин // Наш современник. 1995. — № 6.
- Аникст, А. А, Шекспир. Ремесло драматурга / A.A. Аникст. М.: Наука, 1974.-607 с.
- Апухтина, В.А. Современная советская проза: (60-е начало 70-х годов) / В. А. Апухтина. -М.: Высш. школа, 1977. — 176 с.
- Аристотель. Поэтика (Об искусстве поэзии) / Аристотель. — М.: Худож. лит., 1957. 182 с.
- Ахмедов, С. Х, Социально-нравственные ориентиры дагестанской прозы / С. Х. Ахмедов. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1990. — 152 с.
- Ахмедов, С.Х. Формирование и развитие дагестанской советской прозы: автореф. дис. д-ра филол. наук / С. Х. Ахмедов. Баку, 1990. — 45 с.
- Бабаевский, С.П. Кавалер Золотой Звезды / С. П. Бабаевский. М.: Сов. писатель, 1949. — 524 с.
- Бакова, З.Х. Художественное мировидение адыгов и его роль в формировании творческой индивидуальности Алима Кешокова: автореф: дис.. канд. филол. наук / З. Х. Бакова. Нальчик, 1994. — 22 с.
- Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. — М.: Наука, 1994.-616 с.
- Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. М.: Наука, 1979.-241 с.
- Белая, Г. А. Художественный мир современной прозы / Г. Белая. — М.: Наука, 1983.-399 с.
- Белинский, В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский, В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 1 / В. Г. Белинский. М.: Изд-во АН СССР, 1953.-573 с. !
- Белинский, В.Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Г. Белинский. — М.: Изд-во АН СССР, 1953.- 1956.
- Белов, В.И. Год великого перелома / В. И. Белов // Новый мир. -1989. -№ 3.- С. 12−13.
- Беляев, А. Лирический порох решили держать сухим (Первому съезду писателей 70 лет) / А. Беляев // Российская газета. 2004. — 17 авг. -№ 3551.
- Бердяев, H.A. Новое средневековье: Размышления о судьбе России и Европы / H.A. Бердяев. М.: Наука, 1991. — 83 с. «
- Бехер, И. Любовь моя, поэзия. / И. Бехер. М., 1965. С. 156.
- Бешукова, Ф.Б. Типологические связи романов М. Шолохова «Поднятая целина» и Т. Керашева «Дорога к счастью»: дис.. канд. филол. наук / Ф. Б. Бешукова. — Майкоп, 1996.
- Бирюков, Ф.Г. Трагедия народа (О «Тихом Доне») / Ф. Г. Бирюков // Москва, 1989.-№ 12.
- Бирюков, Ф.Г. Художественные открытия Михаила Шолохова / Ф. Г. Бирюков. М.: Наука, 1980. — 368 с.
- Битов, А.Г. Хармс как классик / А. Г. Битов // Звезда. 1997. — № 5.
- Бочаров, А.Г. Бесконечность поиска: Художественные поиски современной советской прозы / А. Г. Бочаров. М.: Сов. писатель, 1982. -423с.
- Бочаров, А.Г. Требовательная любовь: Концепция личности в современной советской прозе / /.Г. Бочаров. — М.: Худож. лит., 1977. — 335 с.
- Братов, Г. М. Когда цветут подснежники: повести / Г. М. Братов. М.: Современник, 1984. 237 с.
- Брик, Л.Ю. Из воспоминаний / Л. Ю. Брик // Дружба народов. 1988.- № 3.
- Бузник, В.В. Повесть 20-х годов / В. В. Бузник // Русская советская проза 20-х годов. Л.: Наука, 1976. — 154 с.
- Вайнер, Л. (Чикаго). Далеко от Москвы, или история одной книги / Л. Вайнер // Вестник. 2002. — № 16 (301). — 7 авг.
- Великая сила труда: сб. лит.-критич. ст. Л., 1952. — 468 с.
- Великая, Н.И. Формирование художественного сознания в советской прозе 20-х годов / Н. Ь. Великая. — Владивосток, 1975.
- Великий художник современности. — М.: Изд-во МГУ, 1983. 214с.*
- Викулов, C.B. Любовь к земле? Да! / C.B. Викулов // Наш современник. 1969. — № 1. — С. 120.
- Волкогонов, Д.А. Лев Троцкий / Д. А. Волкогонов // Октябрь. 1991.- № 9.
- Воронский, A.K. Вопросы социализма / A.K. Воронский. М.-С-пб.,
- Воскресенский, Л. Смешон ли дед Щукарь? / Л. Воскресенский // Московские новости. 1987. — 24 апреля.
- Второй Всесоюзный съезд советских писателей: стеногр. отчет. -М., 1956.
- Гадагатль, A.M. Аскер Евтых / A.M. Гадагатль, К. Г. Шаззо // i Ученые записки АНИИ. Т. VI. Майкоп: Кн. изд-во, 1968. — С. 63−64.
- Гадамер, Х.Г. Истина и метод / Х. Г. Гадамер. М.: Наука, 1988.704 с.
- Гаджиев, М.Г. Неоконченная картина: повесть / М. Г. Гаджиев. — М.: Современник, 1983. — 240 с.
- Гелястанова, Э.Х. Художественное решение проблемы национального характера в балкарскэм романе (1960 1990 годы): автореф. i дис.. канд. филол. наук / Э. Х. Гелястанова. — Нальчик, 2000. — 23 с.
- Гамзатов, Г. Г. Дагестан: историко-лит. процесс: Вопросы истории, теории, методологии / Г. Г. Гамзатов. Махачкала, 1990. — 309 с.
- Гамзатов, Р.Г. Искусство неподдельно // Р. Г. Гамзатов. Собр. соч.: в 5 т. / Г. Гамзатов. М.: Худож. лит., 1982.
- Гамзатов, Р.Г. Мой Дагестан: повесть / Р. Г. Гамзатов. — М.: Мол. гвардия, 1968. 256 с.
- Гегель, Г. В. Феноменология духа / Г. В. Гегель. М., 1993.
- Гегель, Г. В. Эстетика: в 4 т. Т. 1 / Г. В. Гегель. М., 1968. — 321 е.- Т. 2.-М., 1969.-326 с.-Т. З.-М., 1971.-621 е.- Т. 4.-М., 1973.-676 с.
- Генис, A.A. Серапионы: Опыт модернизации русской прозы / A.A. I Генис // Звезда. 1996. — № 12.
- Герасименко, А.П. «Поднятая целина» М.А. Шолохова в контексте современного романа о коллективизации // Вестник МГУ. — • 1989. — № 2.
- Гер дер, И. Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер. -М.: Наука, 1977.
- Герович, В. А. Человеко-машинные метафоры в советской физиологии / В. А. Герович // Вопросы истории естествознания и техники. -2002. -№ 3.4100. Гинзбург, JI. О психологической прозе. / JI. Гинзбург. JL, 1971. С. '286.
- Гладков, Ф.В. Собр. соч.: в 8 т. Т. 2 / Ф. В. Гладков. — М.: Худож. лит., 1958.-493 с.
- Головко, В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра / В. М. Головко. — М.- Ставрополь: Моск. гос. открытый пед. ун-т, Ставропольск. гос. пед. ун-т, 1995. — 439 с.
- Горшенин, В. И прозой, и документом / В. Горшенин // Правда. — 1988.- 4 янв.
- Горький, A.M. Собр. соч.: в 30 т. / A.M. Горький. М.: Гослитиздат, 1953−1959.
- Гоффеншефер, В.Ц. Об Ад. Шогенцукове и его повести: t Послесловие к кн. Ад. Шогенцукова «Весна Софият». / В. Ц. Гоффеншефер.-М.: Мол. гвардия, 1961.-С. 168−172.
- Гранин, Д.А. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. Искатели / Д. А. Гранин. JL: Худож. лит., 1969. — 438 с.
- Гранин, Д.А. Писательство дело одинокое / Д. А. Гранин // Труд. -2002.-№ 29.
- Губжокова, C.B. Нравственно-психологические основы i зарождения личности в кабардинской прозе / C.B. Губжокова // Избранные материалы X Международного конгресса молодых ученых. Нальчик: Изд-во КБГУ, 2007.
- Гура, В.В. Как создавался «Тихий Дон»: творческая история романа Шолохова / В. В. Гура. М.: Наука, 1980. — 464 с.
- Давыдов, Ю.Н. Блок и Маяковский: некоторые социально-эстетические аспекты проблемы «Искусства и революции» / Ю. Н. Давыдов // Вопросы эстетики. — 1971. — № 9.
- Дедков, И.А. Во имя жизни / И. А. Дедков // Подъем. Воронеж, 1 2002. — № 2.
- Декарт, Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт // Сочинения: в 2 т. Т. 1 / Р. Декарт. М., 1989. — 654 с.
- Дикушина, Н.И. «Может быть, позже многое станет более очевидным и ясным» (Из документов партийного дела А.К. Воронского) /I
- Евсеева, E.H. СССР В 1945—1953 гг.: духовная жизнь / E.H. Евсеева, Т. Ю. Красовицкая // Новый исторический вестник. — 2002. — № 1 (6).
- Евтых, А.К. Вступительная статья к книге Тлюстен Ю. «Путь открыт» // Свет в горах. Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 1964.
- Евтых, А.К. Превосходная должность: повести / А. К. Евтых. М.: Сов. писатель, 1950. — 360 с.
- Ергук, Ш. Е. Восхождение к памяти: Размышления о прозе Исхака Машбаша / Ш. Е. Ергук. Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 1994. — 135 с. '
- Ергук, Ш. Е. Художественное своеобразие адыгейской поэзии (эволюция, поэтика, стилевые искания) / Ш. Е. Ергук. Майкоп: Качество, 2003.-380 с.
- Ермаков, И.И. Григорий Мелехов как трагический характер / И. И. Ермаков // Ученые записки Горькоеского пединститута. Горький: Изд-во ГПИ, 1969.-Вып. 67.
- Жанрово-стилевые искания современной советской прозы: сб. ст. / под ред. Л. М. Поляк и В. Е. Ковского. — М.: Наука, 1971.-351 с.
- Жданов, A.A. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» / A.A. Жданов. -М.: Госполитиздат, 1952. 39 с.
- Жид А. Возвращение из СССР / А. Жид. Лондон, 1937.
- Иванов, В.И. По звездам: Статьи и афоризмы // В. Иванов. Избранное / В. Иванов. М.: Наука, 1996. — С. 126−198.
- Ильин, Я.Н. Большой конвейер / Я. Н. Ильин. М.: Худож. лит, 1936.
- История России / под ред. A.A. Данилова, Л. Г. Косулиной. М.: Наука, 1997. 176 с. I
- Кабыш, И.А. Отсутствие звука не есть немота / И. А. Кабыш // Дружба народов. 1997. — № 2.
- Камянов, В.И. Проводы без почестей / В. И. Камянов // Звезда. -1991.-№ Ю.
- Капаев, И.С. Гармонистка: повести, рассказ / И. С. Капаев. М.: i Современник, 1985. — 319 с.
- Капаев, И.С. Есть такие парни: повести / И. С. Капаев. М.: Современник, 1977. — 206 с.
- Капаев, И.С. Шел человек по улице: рассказы и повесть / И. С. Капаев. М.: Мол. гвардия, 1987. — 349 с.
- Капиев, Э.М. Избранное ' Э.М. Капиев. М.: Худож. лит., 1966.536 с.• 159. Капиев, Э. М. Поэт / Э. М. Капиев. М.: Сов. Россия, 1976. — 285 с. '
- Капиева, Н.В. Скрещение дорог: очерки о дагестанских писателях / Н. В. Капиева. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1990. — 266 с.
- Караганов, A.B. Характеры и обстоятельства / A.B. Караганов // Новый мир. 1953. — № 2. — С. 206−223.
- Кардин, В. Парус в море / В. Кардин. М.: Сов. писатель, 1982.190 с.
- Кардин, В. Смещение / В. Кардин // Знамя. 1998. — № 9.
- Катаев, И.И. Хлеб и мысль / И. Катаев. Л.: Худож. лит., 1983.366с.
- Катинов, В. Талантливый писатель Адыгеи / В. Катинов // Смена. -1951.-№ 3.-С. 18.
- Кашежева, Л.Н. Кабардинская советская проза / Л. Н. Кашежева. -Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1962. 241 с.
- Кешоков, А.П. Вид с белой горы / А. П. Кешоков. — 2-е изд. доп. -М.: Современник, 1977.-431 с.
- Кирпотин, В.Я. // Известия. — 1960. 9 марта.
- Книпович, Е.Ф. Сила правды: Критические заметки / В. Ф. Книпович. М.: Сов. писатель, 1965. — 365 с.
- B.А. Ковалев и др.- М.: Изд-во АН СССР, 1955.
- Кожевников, В.М. Мера твердости. Повести и рассказы / В. М. Кожевников. — М.: Худож. лит., 1952. — 606 с.
- Козлова, H.H. Соцреализм: производители и потребители / H.H. Козлова // Общественные науки и современность. — 1995. — № 4. — С. 143−153.
- Колесникова, М. Камни на дороге / М. Колесникова // Наш современник. 1965. — № 2. — С. 110−111.
- Колкер, Ю.И. Чтоб кафку сделать былью (70 лет назад состоялся Первый съезд советских писателей) / Ю. И. Колкер // Звезда. 2004. — № 10.
- Коллизия //КЛЭ.- Т. З.-Стлб. 656−658.
- Колодный, Л.Е. История одного посвящения. Неизвестная переписка М. Шолохова / Л. Е. Колодный // Знамя. — 1987. № 10.
- Колощук, Н.Г. Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материалах автобиографических произведений В. Астафьева, М. Карима, М. Алексеева): автореф. дис.. канд. филол. наук / Н. Г. Колощук. — Киев: КПУ, 1990.-27 с.
- Кочетов, В.А. Журбины / В. А. Кочетов. М.: Худож. лит., 1954.
- Кочетов, В.А. Избранные произведения: в 3 т. Т. 2 / В. А. Кочетов. М.: Худож. лит., 1962. — 583 с.• 202. Кузнецов, М. Главная тема / М. Кузнецов. — М.: Сов. писатель- 1976.-376 с.
- Кургинян, М.С. Концепция человека в творчестве Шолохова / М. С. Кургинян // Михаил Шолохов. Статьи и исследования. — М.: Наука, 1980.
- Кушхаунов, А.Ш. Всадник на белом коне: повести / A.IIT. Кушхаунов. М.: Современник, 1982. — 318 с.
- Латышев, О.Ю. Типологические особенности и межнациональные связи русской «деревенской» прозы 1960-х годов: автореф. дис.. канд. филол. наук / О. Ю. Латышев. Майкоп, 2000. — 25 с.
- Лебедев, A.A. Последняя религия / A.A. Лебедев // Вопросы философии.— 1989.- № 1.
- Лебедева, Л.А. Говорит время / Л. А. Лебедева // Дружба народов. -1965.-№ 2.-С. 243−249.
- Леонид Леонов мастер художественного слова: межвуз. сб. науч. тр. — М., 1981.
- Леонов, Л.М. Собр. соч.: в 10 т. Т. 6. М., 1962. — 675 с.
- Литвинов, В. М. Вокруг М. Шолохова / В. М. Литвинов. М.: Знание, 1991. -63 с.
- Лотман, Ю.М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. М.: Наука, 1983.- 164 с.
- Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике и типологии культуры // Лотман, Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1 / Ю. М. Лотман. Таллинн, 1992.
- Лукин, Ю.Б. Новая сила романа / Ю. Б. Лукин // Москва. 1960.12.
- Магомедов, М.А. Родник отца: повести / М. А. Магомедов. — М.: Современник, 1987. 384 с.
- Магомед-Расул, М. За день до любви: повести / М. Магомед-Расул.- М.: Мол. гвардия, 1982. 270 с.
- Мамий, Р.Г. Вровень с веком. Идейно-нравственные ориентиры и художественные искания адыгейской прозы второй половины двадцатого века / Р. Г. Мамий. Майкоп: Качество, 2001. — 340 с.
- Мамий, Р.Г. История и современность (заметки о современной адыгейской прозе) / Р. Г. Мамий // Кубань. 1978. — № 8. — С. 96−104.
- Мамий, Р.Г. На крепких корнях / Р. Г. Мамий // Доклады Адыгской (Черкесской) международной академии наук. — Нальчик, 1996. — Т. 2, № 1. — С. 120−126. t
- Марголина, А. Повести А. Евтыха // Октябрь — 1950. № 7.
- Марков, Д.Ф. Проблемы теории социалистического реализма / Д. Ф. Марков. -М.: Наука, 1975.
- Машбиц-Веров, И. М. Русслсий символизм и путь Александра Блока / И.М. Машбиц-Веров. — Куйбышев: Куйбышев, кн. изд-во, 1969. — 350 с.
- Маяковский в критике русского зарубежья / Публ. В. Н. Терехиной и А. П. Зименкова // Вестник Московского университера. Филология. — 1992.-№ 4. С. 66−76.
- Медведев, P.A. Пусть рассудит история: истоки и последствия сталинизма / P.A. Медведев. Macmillan, 1972.
- Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. / П. Н. Милюков.-М., 1993−1995.
- Минакова, A.M. Философский роман JI.M. Леонова: культурологический аспект / A.M. Минакова // Художественный текст и историко-культурный контекст: сб. в честь 65-летия проф. A.M. Минаковой. М.: Наука, 1997.
- Мудунов, A.A. Восьмое чудо: рассказы и повесть / A.A. Мудунов. М.: Современник, 1987.-257 с.
- Мусукаева, А.Х. Жанровое (реалистическое) обогащение кабардинской повести / А. Х. Мусукаева // Вестн. КБНИИ. — Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1972. — Вып. 7. С. 212−226.
- Мусукаева, А.Х. Кабардинская повесть 30-х годов / Ä-.X^t-Мусукаева // Вестн. КБНИИ. Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1972. — Вып. 7.-С. 181−196.
- Мусукаева, А.Х. О становлении и развитии кабардинской повести / t А. Х. Мусукаева // Дон. 1972. — № 8. — С. 163−168.
- Неверов, A.B. Молодая проза: время, проблемы, герой / A.B. Неверов. М.: Знание, 1985. — 64 с.
- Нефед, В.И. Размышления о драматическом конфликте / В.И.11. НефеД. Минск, 1970.
- Николаева, Г. Е. Битва в пути / Г. Е. Николаева. — М.: Худож. лит., 1959.-495 с.
- Николаева, Г. Е. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1 / Г. Е. Николаева. М.: Худож. лит., 1987. — 620 с.
- Нинов, A.A. Исследование и характеры / A.A. Нинов // Волга. — 1966.-№ 6.-С. 158−166- № 7.-С. 158−169.
- Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ф. Ницше. — СПб., 2000. 203 с. ^
- Новикова, М. Христос, Велес и Пилат / М. Новикова // Новый мир.- 1991.- № 6. С. 244−247.
- Новиченко, Л.Н. На путях к эпическому синтезу / Л. Н. Новиченко // Советский роман. Новаторство. Поэтика. Типология. — М.: Наука, 1978.
- Новиченко, Л. Стиль метод — жизнь / Л. Новиченко // Часть общего дела. — М.: Худож. лит., 1970. — 430 с.
- Овечкин, В.В. Районные будни: очерки / В. В. Овечкин. М.: Мол. Гвардия, 1954.-150 с.
- Овчаренко, O.A. «Ума и рук не хватает обнять Россию.»: роман Леонида Леонова «Пирамида» и русская идея / O.A. Овчаренко // Москва. -1994.- № 9. С. 148.
- Осипов, В. «Поднятая целина». Презумпция невиновности? / В. Осипов // Дон. 1996. — № 5−6.
- Пави, П. Словарь театра / П. Пави. М.: Наука, 1991. — 504 с.
- Палиевский, П.В. Шолохов сегодня / П. В. Палиевский // За строкой учебника. -М.: Мол. гвардия, 1989. С. 230−238.•286. Панеш, У. М. Друг другу навстречу / У. М. Панеш // Адыгейская правда. 1969. — 30 янв.
- Панков, A.B. Вечное и злободневное: современная проза, конфликты, темы, характеры / A.B. Панков. М.: Сов. писатель, 1981. — 368I
- Панков, В.К. На стержне жизни / В. К. Панков. М.: Сов. писатель, 1962.-356 с.
- Папаскири, И.Г. Женская честь / И. Г. Папаскири. Сухуми, 1967. -816 с.
- Парамонов, Б.М. Горький, белое пятно / Б. М. Парамонов // Октябрь. 1992. — № 5. — С. 146−147. t
- Пастернак, Б.Л. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2 / Б. Л. Пастернак. М.: Худож. лит., 1989. — 703 с.
- Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчёт. — М., 1934.
- Пересунько, Т.К. Современная советская повесть / Т. К. Пересунько // Подъем. 1969. — № 5. — С. 155−163.
- Перхин, В.В. «Я хотел сказать о праве на родину». У истоков j романа Леонида Леонова «Пирамида» / В. В. Перхин // Москва. — 1994. — № 9.-С. 140−147.
- Пишенина, Л.В. Увидеть, познать, пережить. / Л. В. Пишенина // Правда. 1988. — 1 апр.
- Пищикова, E.H. Исход из брака / E.H. Пищикова // Русская жизнь. 2007. — 31 августа. 1
- Прийма, К.И. С веком наравне. Статьи о творчестве М. Шолохова / К. И. Прийма. Ростов н/Д, 1981. — 193 с.
- Приймакова, H.A. Жанрово-стилевое богатство адыгского романа об историческом прошлом: дис.. канд. филол. наук / H.A. Приймакова. — Майкоп, 2003. 163 с.
- Прокопов, П.И. Сумасшедший корабль «серапионов» / П. И* Прокопов // Книжное обозрение. — 1997. 8 июля.
- Пропп, В.Я. Морфология сказки / В. Я. Пропп. М.: Наука, 1969.
- Путинцев, В.А. Герцен писатель / В. А. Путинцев. — М.: Изд-во АН СССР, 1963.-312 с.
- Пухов, Ю.С. Живые родники / Ю. С. Пухов. М.: Наука, 1968.232 с.
- Пьяных, М.Ф. Эпос и лирика воюющей России: А. Твардовский и О. Берггольц / М. Ф. Пьяных // Звезда. 1995. — № 5. — С. 166−174.
- Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза (1903 1953). -М.: Госполитиздат, 1953.
- Распутин, В.Г. Как должно любить свой народ / В. Г. Распутин // Советская Адыгея. 1993. -23 июля.
- Распутин, В.Г. Прощание с Матерой / В. Г. Распутин. М.: Сов. t писатель, 1990.-284 с.
- Рид, Г. Искусство и общество / Г. Рид // Эхан Чо. Философия искусства (на корейском языке) / Чо Эхан. Сеул: Бомунса, 1974.
- Рослякова, Л.Н. О некоторых особенностях художественной речи вромане М.А. Шолохова «Поднятая целина» / Л. Н. Рослякова // Русский язык: еженедельник издат. дома «Первое сентября». 2001. — № 20.
- Саватеев, В .Я. Новодел новорусской эпохи / В. Я. Саватеев // Лит. Россия. -2001. -№ 24.
- Сараскина, Л.Ф. Толстоевский против Ф. Достоевского, или Что спрятано в «Двенадцати стульях» / Л. Ф. Сараскина // Октябрь. 1992. — № 3. .1
- Сарнов, Б.М. Что же спрятано в «Двенадцати стульях»? / Б. М. Сарнов // Октябрь. 1992. — № 6.
- Сахаров, В.И. Под сенью дружных муз: о русских писателях-романтиках / В. И. Сахаров. М.: Худож. лит., 1984. — 295 с.
- Семанов, С.Н. О некоторых обстоятельствах публикации «Тихого Дона» / С. Н. Семанов // Новый мир. 1988. — № 9. — С. 265−269.
- Симонов, K.M. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине / K.M. Симонов. М.: Изд-во АПН, 1989. — 480 с.
- Симонов, K.M. Предисловие / K.M. Симонов // Ажаев В. Вагон. -М.: Худож. лит., 1966. С. 3−15.
- Смирнов, И.П. Человек человеку философ / И. П. Смирнов. -СПб.: Алетейя, 1999. — 372 с.
- Смирнова, В. Две повести А. Евтыха / В. Смирнова // Дружба народов. 1950. -№ 4.
- Современная русская советская повесть. Л.: Наука, 1975. — 264 с.
- Современный советский роман: философские аспекты / отв. ред. В .А. Ковалев. Л.: Наука, 1979. — 262 с.
- Солоухин, В.А. Поэт со своею посадкой в седле / В. А. Солоухин // Кешоков А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1981. — 845 с. — С. 5−22.
- Судьба Шолохова, спец. вып. // Лит. Россия. — 1990. 23 мая.
- Султанов, К.К. Преемственность и обновление / К. К. Султанов. — М.: Знание, 1985.-64 с.
- Сурганов, В. Человек на земле. Тема деревни в русской советской прозе 50 70-х гг. Истоки, проблемы и характеры: автореф. дис.. д-ра филол. наук / В. Сурганов. — М., 1984. — 46 с.
- Тамахин, В.М. Поэтика Шолохова-романиста / В. М. Тамахин. -Ставрополь, 1980.
- Творчество // Ставрополье. 1982. — С. 29−30.
- Теппеев, A.M. Из истории балкарской повести / A.M. Теппеев // Вестник КБНИИ. Нальчик: Кабард -Балкар, кн. изд-во, 1970. — Вып. 4. — С., 123−137.
- Теппеев, A.M. Яблоки до весны: рассказы, повесть / A.M. Теппеев. — М.: Сов. писатель, 1983.
- Теунов, Х.И. Подари красоту души / Х. И. Теунов. М.: Сов. писатель, 1966. -303 с.
- Тлепцерше, Х.Г. На пути к зрелости. Адыгейская повесть: традиции и новаторство / Х. Г. Тлепцерше. Краснодар: Краснодар. Кн. изд-во, 1991.-175 с.
- Толгуров, З.Х. Белая шаль: повести / З. Х. Толгуров. — М.: Современник, 1982. 335с.
- Толстой, А. Художественное мышление / А. Толстой. М.: Сов. Россия, 1969. — 128 с.
- Троепольский, Г. И. Записки агронома / Г. И. Троепольский. — М.: Худож. лит., 1961.-319 с.
- Троицкий, В.Н. Художественные открытия русской романтической прозы 20 30-х гг. XIX в. / В. Н. Троицкий. — М.: Наука, 1985. — 279 с.
- Трофимов, В. Казачий вопрос / В. Трофимов // Дон. 1990. — № 2. -С. 139−142.
- Трушкин, В. Поэзия прозы. О творчестве В. Распутина / В. Трушкин // Ангара. 1968. — № 1. — С. 61−64.
- Тугов, В.Б. Формирование исторического романа: на материале северокавказских литераторов / В. Б. Тугов. Черкесск, 1986. — 186 с.
- Турбин, В. Поживем — увидим. Заметки о современной советской прозе. / В. Турбин // Мол. гвардия. 1964. — № 6. — С. 286−298.
- Тхакушинов, А.К. В зеркале социологии / А. К. Тхакушинов. -Майкоп, 1995.
- Тхакушинов, А.К. Общественные процессы и их отражение в адыгейской поэзии / А. К. Тхакушинов. Майкоп: Зихи, 1994. — 200 с. '
- Тынянов, Ю.Н. Архаисты и новаторы / Ю. Н. Тынянов. Л.: Прибой, 1929.-596 с.
- Уолтер, А. Традиция и мечта / А. Уолтер. — М.: Наука, 1970. —175с.
- Урусбиева, Ф.А. Самый рабочий жанр: Заметки о современной балкарской повести / Ф. А. Урусбиева. — Нальчик: Эльбрус. 1988. — № 1. — С. 99−104.
- Утехин, Н.П. Жанры эпической прозы / Н. П. Утехин. Л.: Наука, 1982.- 185 с.
- Утехин, Н.П. Современная русская советская повесть / Н. П. Утехин, А.И. Павловский- под ред. H.A. Грозновой, В. А. Ковалева. — Л.: Наука, 1975.-327 с.
- Федотов, Г. П. Судьба и грехи России: избр. ст. по филос. рус. ист. и культуры: в 2 т. СПб., 1991−1992.
- Фрейд, 3. Я и Оно // Фрейд, 3. Избранное / 3. Фрейд. М., 1995. -С. 34−102.
- Хазан, В.И. «Уход Хама» Л. Леонова: секуляризация библейского мифа / В. И. Хазан // Филологические науки. 1990. — № 1. — С. 98−103.3 81. Хакуашев, А. Х. Адыгские просветители / А. Х. Хакуашев. — Нальчик, 1978.-258 с.
- Хапсирокова, З.Я. Некоторые вопросы становления малых жанров современной черкесской прозы / З. Я. Хапсирокова // Труды КЧНИИ. — 1970. -Вып. 6.-С. 140−165.
- Храпченко, М.Б. Художественное творчество, действительность, человек / М. Б. Храпченко. 2-е изд. — М.: Сов писатель, 1978. — 366 с.
- Хуако, Ф.Н. Своеобразие эпохи и ее художественное отражение в северокавказской лирической прозе / Ф. Н. Хуако. — Майкоп: Изд-во МГТУ, 2004.-366 с.
- Цеткин, К. Мои воспоминания о Ленине / К. Цеткин. М.: Знание, 1955.-56 с.
- Чалмаев, В. Открытый мир Шолохова: «Тихий Дон» — невостребованные идеи и образы / В. Чалмаев // Москва. 1990. -№ 11.
- Чамоков, Т.Н. В ритме эпохи / Т. Н. Чамоков. Нальчик: Эльбрус, 1986.- 184 с.
- Чамоков, Т.Н. В созвездии сияющего братства / Т. Н. Чамоков. -М.: Современник, 1976. 255 с.
- Шагинян, М.С. Собр. соч.: в 9 т. / М. С. Шагинян. М.: Худож. лит., 1971−1973.401 .Шагинян, М. С. Три поколенья книг / М. С. Шагинян // Яков Ильин. Воспоминания современников. — М.: Знание, 1978.
- Шаззо, К.Г. XX век: эпоха и человек / К. Г. Шаззо. — Майкоп: Адыгея, 2006. 806 с.
- Шатгенберг, С. Техника политична / С. Шатгенберг // Нормы и ценности повседневной жизни. Становление социалистического образа жизни, 1920−30-е годы / под общ. ред. Т. Виховайнена. — СПб, 2000. — С. 205 208.
- Шибинская, Е.П. Путь к большому эпическому жанру / Адыгейская филология. Краснодар, 1967.
- Шишкина, А. Книга, открывающая новые пути / А. Шишкина // Звезда. 1948.-№ 9.
- Шкерин, М. Советский характер / М. Шкерин. М.: Сов. писатель, 1963.-296 с.
- Шкловский, В.Б. О теории прозы / В. Б. Шкловский. М.: Сов. писатель, 1983. — 383 с.
- Шогенцуков, А.О. Весна Софият: повесть / А. О. Шогенцуков. -М.: Гослитиздат, 1961. 143 с.
- Шогенцуков, А.О. Назову твоим именем: повесть / А.О. Шоге’нцуков. — М.: Сов. писатель, 1970. — 192 с.
- Шогенцуков, А.О. Помочь человеку найти себя / А. О. Шогенцуков // Дружба народов. 1964. -№ 7. — С. 125−128.
- Шогенцуков, А.О. Солнце перед ненастьем: повесть / АО. Шогенцуков. — М.: Дет. лит., 1967. — 103 с.
- Шолохов, М.А. Поднятая целина / М. А. Шолохов. М.: Худож. лит., 1986.-640 с. I
- Шолохов, М.А. Собр. соч. Т. 8 / М. А. Шолохов. — М.: Гослитиздат, 1960.-420 с.
- Шохина, В. О фельдфебелях, карнавале и заговоре чувств / В. Шохина // Независимая газета. — 1999. № 162. — 2 сент.
- Щюц, А. Структуры повседневного мышления / А. Щюц // Социологические исследования. — 1986. — № 1. — 129−137.
- Эйхенбаум, Б.Н. О прозе. О поэзии: сб. ст. / Б. Н. Эйхенбаум. — Л.: Худож. лит., 1986. 453 с.
- Эльберд, М. Большая надежда и большое разочарование / М. 1 Эльберд // Кабардино-Балкарская правда. — 1966. — 5 июня.
- Эльсберг, Я. О стилевых исканиях в современной русской прозе / Я. Эльсберг // Актуальные проблемы социалистического реализма: сб.ст. — М.: Сов. писатель, 1969. 522 с.
- Эльяшевич, Арк. Герои истинные и мнимые / Арк. Эльяшевич. — М.- Л.: Сов. писатель, 1963. 402 с.
- Юнг, К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного / К. Г. Юнг // Вопросы философии. 1988. — № 1.
- Якименко, Л. О «Поднятой целине» М. Шолохова / Л. Якименко. -М.: Сов. писатель, 1960. у1. Интернет-ресурсы:
- Гамзатов, Р. Навстречу современности Электронный ресурс. / Р. Гамзатов. Режим доступа: www.garnzatov.ru/articles/articlesl2.
- Гамзатов, Р. Родной очаг Электронный ресурс. / Р. Гамзатов. — Режим доступа: // www.gamzatov.ru/iJV2dex.html.
- Гамзатов, Р. Уверенность Электронный ресурс. / Р. Гамзатов. — Режим доступа: // www.gamzatov.ru/articles/articles4.
- Дмитриев, А. Шум — голос богов Электронный ресурс. / А. Дмитриев. Режим доступа: // www.nbpiter.ru/main.htm.
- Ковтун Н.В. Роман «Журбины» и традиции гностико-коммунистической утопии Электронный ресурс. // Исследовано' в России: электронный журнал. 2004. — № 112. — Режим доступа: www.nbpiter.ru/main.htm
- Петраков, И. Первый съезд Электронный ресурс. / И. Петраков // i Московский литератор. 2007. — № 22 (190). — Режим доступа: //www.moslit.ru/t№om.htm.
- Шиков, Н.М. Любовь к своему народу Электронный ресурс. / Н. Шиков. — Режим доступа: www.adygi.ru.
- Эренбург, И.Г. Работа писателя Электронный ресурс. / И. Г. Эренбург [Электронный ресурс] / И. Г. Эренбург // Эхан Чо. Философия искусства (на корейском языке). Сеул: Бомунса, 1974. — С. 169. — Режим доступа: truesite.ru/ut/utc07.html#28.
- Cuddon, J.A. The Pinguin Dictionary of Literary Terms and Literary ' Theory Электронный ресурс. / J.A. Cuddon. Режим доступа: truesite.ru/ut/ut.