Сложное диалогическое единство с односторонней организацией (на материале современного английского языка)
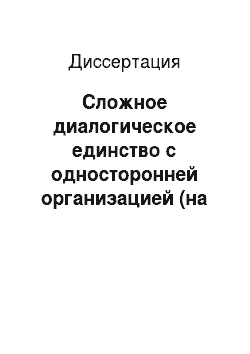
Диалог как языковая категория есть обмен такими высказыва- 1 ниями, которые естественно порождаются одно другим в процессе разговора. Эта взаимосвязанность высказываний в диалоге есть всегда взаимосвязанность смысловая и коммуникативнаяв пределах данной микротемы она закреплена средствами языковых надпред-ложенческих связей. Некоторые реплики находятся в такой тесной взаимосвязи с окружающими… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. СТРУКТУШ0-К0Ш03ИЦИ0ННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ С ОДНОСТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
- Раздел I. Структурные особенности сложных диалогических единств с односторонней организацией
- 1. Структура тематических компонентов односторонних единств
- 2. Структура нетематических компонентов односторонних единств
- 3. Типы односторонних единств по количеству компонентов
- Раздел II. Композиционно-речевые формы сложных диалогических единств с односторонней организацией
- 1. Композиционно-речевая форма как объект лингвистического исследования
- 2. Диалог-повествование
- 3. Диалог-описание
- 4. Диалог-объяснение
- 5. Диалог-извещение
- 6. Диалог-побуждение
- 6. 1. Диалог-просьба
- 6. 2. Диалог-инструкция
- 6. 3. Диалог-приказ
- 7. Диалог-вопрос
- 8. Смешанные типы одностороннего диалога. 94'
- Б ы в о д ы
- ГЛАВА II. СРЕДСТВА СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ОДНОСТОРОННИХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ
- 1. Контактные межкомпонентные связи
- 1. 1. Коррелятивная связь
- 1. 2. Интродуктивная связь
- 2. Дистантные межкомпонентные связи
- 2. 1. Ретроспективная связь
- 2. 1. 1. Конъюнкционная связь
- 2. 1. 2. Коррелятивная связь
- 2. 2. Проспективная связь
- 2. 3. Взаимная связь
- 2. 1. Ретроспективная связь
- 1. Контактные межкомпонентные связи
Сложное диалогическое единство с односторонней организацией (на материале современного английского языка) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Как известно, язык существует в виде устной речи и письменной речи. Письменная речь, в отличие от устной, характеризуется более строгим соблюдением литературной нормы данного языка. Тем не менее, автор художественного произведения в ходе изображения событий воспроизводит и речь людей, принимающих участие в развитии этих событий. На воспроизведении речи людей основан, в частности, текст драматических произведений. Речь персонажей драматического произведения осуществляется в диалогической форме и отражает основные языковые и параязыковые особенности устного общения. Таким образом, наблюдая над диалогической речью в передаче писателя и особенно драматурга, мы можем получить существенные данные о ее объективных строевых свойствах. Поэтому в качестве материала для исследования в данной работе мы выбрали пьесы современных британских и американских авторов.
Важным достижением теории диалога явилось включение диалогического единства в исследовательскую область синтаксиса. Диалогическое единство было определено Н. Ю. Шведовой как «обмен двумя высказываниями, из которых второе зависит от первого, „порождено“ игл и в своей языковой форме непосредственно отражает эту зависимость» /1Пведова, 1960:280/.
Понятие диалогического единства прочно вошло в лингвистическую теорию диалога, ему посвящен целый ряд работ /Святогор, 1960аМаркина, 1973аАлимурадов, 1981 и др./. Возможность вычленения такой синтаксико-коммуникативной единицы вытекает из опыта лингвистического анализа диалогической речи как русского, так и других языков.
Наибольшее освещение в лингвистической литературе получили диалогические единства, состоящие из двух компонентов: вопросно-ответные единства и единства, основанные на лексическом повторе и подхвате. Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что целый ряд речевых комплексов невозможно свести к двухкомпонентным диалогическим единствам. Например, следующее сложное диалогическое единство нельзя представить как простое соположение двучленных единств:
Pamela. What games did you play in Germany?
Walter. I — I used to walk.
Pamela. You mean on hiking parties, all dressed up in those leather shorts?
Walter. No. By myself. I liked it better. (Drama, p. 99) Все реплики этого сложного диалогического единства связаны с начальной репликой при помощи нулевых форм, импликации, прономинализации и т. д.- все они построены вокруг единого смыслового центра «games.
Сложное диалогическое единство с односторонней организацией является частным типом сложного диалогического единства. Поэтому, рассматривая во введении проблему выделения сложного диалогического единства с односторонней организацией как единицы текста, мы говорим о сложном диалогическом единстве вообще, так как все типы сложного диалогического единства будут подчиняться общим закономерностям построения и функционирования этой значимой единицы языка.
При определении сложного диалогического единства мы следуем предложенному О. И. Москальской положению о том, что «членение развернутого диалога-беседы на диалогические единства имеет в принципе те же основания, что и членение монологической речи, а именно одновременный учет показателей семантической /тематической/, коммуникативной и структурной целостности и, при том — в тех ее проявлениях, которые наиболее характерны для диалогической речи» /Москальекая, 1981:50/.
Однако здесь необходимо отметить, что диалогическая речь принципиально отличается от монологической в том плане, что она представляет собой речевое произведение более чем одного коммуниканта /двух и более/, и этот факт накладывает определенный отпечаток на характер употребления языковых средств в диалоге. Для диалога характерны встречные связи, в то время как для монолога — присоединительные. Кроме того, диалогу свойственно употребление специальных форм коммуникативной установки, которые обслуживают языковое диалогическое общение /Блох, 19 736: 198/. Таким образом, распределяясь между двумя или несколькими коммуникантами, тема диалога резко отличается от темы монологического высказывания. Тема диалога обладает большим динамизмом, активностью, в то время как монологическое высказывание является более завершенным, закрытым в семантическом плане /Гельгардт, 1971:145/.
Традиционно принято рассматривать какой-либо отрезок диалогической речи как состоящий из определенного количества реплик. Последние определяются как отрезки диалога от начала речи одного партнера до смены говорящего /Трофимова, 1964:4- Винокур Г. О., 1948:35/. Однако такое деление не позволяет увидеть подлинной картины языковой организации диалогической речи.
Диалог как языковая категория есть обмен такими высказыва- 1 ниями, которые естественно порождаются одно другим в процессе разговора. Эта взаимосвязанность высказываний в диалоге есть всегда взаимосвязанность смысловая и коммуникативнаяв пределах данной микротемы она закреплена средствами языковых надпред-ложенческих связей. Некоторые реплики находятся в такой тесной взаимосвязи с окружающими их репликами, что в отрыве от окружения они теряют свою самостоятельность как коммуникативные единицы. «Языковые грани между такими репликами в значительной мере стерты, высказывания, принадлежащие разным участникам разговора, здесь настолько тесно связаны и структурно взаимообусловлены, что их нельзя рассматривать иначе, как особое коммуникативное и структурно-грамматическое объединение, которое. называется. диалогическим единством» /Святогор, 1960а:3/.
Большинство лингвистов при определении диалогического единства в качестве основного критерия указывают грамматическую /структурную/ и коммуникативную взалмосвязанность компонентов /1Пведова, I960- Глаголев, 1969; Святогор, 1960а/. Однако в ряде работ убедительно показано, что семантический аспект неотделим от высказывания и что его необходимо учитывать при определении диалогического единства /Пенысова, 19 726- Тешшцкая, 1975/.
По словам К. Маркса «форма лишена всякой ценности, если она не есть форма содержания» /Маркс и Энгельс, 1955:159, т.1/. Значит, если есть какое-то содержание /семантика/, то оно должно быть определенным образом оформлено, т. е. должно обладать своей формой — грамматикой. Именно поэтому мы проводим изучение диалогического единства по пути раскрытия определенных закономерностей отражения в языковых формах некоторой семантики этого диалогического единства. Естественно, что семантико-тематичес-кая цельность единства всегда будет выражаться синтаксическими или лексическими показателями связности компонентов этого единства.
Диалектическое единство содержания и формы предполагает ведущую роль содержания по отношению к форме. Поэтому при определении сложного диалогического единства в качестве основного критерия мы будем использовать семантико-тематическую цельность единства, а исследование будем проводить от установления общности темы к выявлению грамматических средств выражения этой общности.^/.
Связность является одним из основных признаков единиц текста — сверхфразоввгх единств и диалогических единств. Связность вытекает из единства темы. Связным можно считать «такой отрезок текста, который содержит в себе информацию, заложенную в предшествующих компонентах текста» /Брчакова, 1979:250/.
Принимая семантическую связность, определяемую, прежде всего, единством темы, за один из основных критериев выделения ! сложного диалогического единства, мы приходим к выводу, что каждому сложному диалогическому единству свойственно наличие некоторого смыслового центра, вокруг которого это единство строится. М. Я. Блох отмечает, что общая идея о последовательности предложений, формирующих текст, предполагает наличие единой информативной цели компонентов этого связного семантического комплекса, или четко выраженного тематического отрезка речи. «Только в этом смысле текст может рассматриваться как языковой элемент с двумя характерными для него чертами: во-первых, семантической /тематической/ цельностьюво-вторых, семантико-синта-ксической связностью» /Блох, 1983а:363/.
— Сложное диалогическое единство можно приблизительно определить как структурно-семантическую единицу диалогического текста, состоящую из трех и более компонентов /встречных высказываний разных участников диалога/, примыкающих к единому смысловому центру и взаимообусловленных семантически, структурно и коммуникативно. J.
Смысловой центр сложного диалогического единства можно обнаружить с помощью дескрипторного анализа компонентов единства. Дескриптором называется «знак для выражения понятия, имеющего наибольшее значение для раскрытия существа описываемого явления, его научной интерпретации и классификации» /Ахманова, Никитина, 1965:112/, или «имя класса слов условной эквивалентности» /Певзнер, 1976:7/. Дескрипторы, входящие в смысловой центр сложного диалогического единства, присутствуют в каждом компоненте этого единства либо эксплицитно, либо имплицитно.
Таким образом, сложное диалогическое единство вычленяется нами в потоке диалогической речи по принципу семантической связности компонентов, образующих его внутреннюю структуру и соединенных по определенным грамматическим правилам. Все эти компоненты группируются вокруг смыслового ядра единства, которое может быть выявлено методом дескрипторного анализа.
Одним из центральных вопросов теории диалогического единства является вопрос о его границах и граничных сигналах. Мы сделаем попытку рассмотреть этот вопрос при помощи дескрипторного анализа. Дескрипторный анализ связного монологического текста впервые был осуществлен Н. И. Серковой /Серкова, 1968/. Эмоциональный аспект диалогических единств исследовался с помощью метода дескрипторов в кандидатской диссертации Н. Е. Юдиной /Юдина, 1973/. Общий дескрипторный анализ компонентов сложных диалогических единств до сих пор не проводился.
Мы различаем две основные группы дескрипторов — номенклатурные и релятивные. Первые называют /обозначают/ «предмет, свойство, процесс „статически“, как отвлеченно данный» /Ахманова, Никитина, 1965:112/. Вторые же служат для передачи релятив.
— 10 ной информации, так как «дескрипторный язык должен иметь не только „номенклатуру“, но и „грамматику“, то есть набор показателей связей единиц в тексте и их функций в нем» /Ахманова, Никитина, 1965:114/.
Как отмечалось выше, сложное диалогическое единство строится вокруг единого смыслового центра. Мы будем называть дескрипторы, входящие в смысловой центр сложного диалогического единства, основными номенклатурными дескрипторами. Смена основного номенклатурного дескриптора сигнализирует границу сложного диалогического единства. Релятивные дескрипторы не могут выступать в качестве основных, так как тема единства задается средствами номинативного характера. Релятивная информация выступает в роли вторичной по отношению к информации номинативной.
Рассмотрим данные положения на конкретном примере. Для анализа используем отрывок из пьесы Г. Пинтера «The Birthday Party «:
Stanley. What’s it out like today? Petey. Very nice. Stanley. Warm?
Petey. Well, there’s a good breeze blowing. Stanley. Cold? •—Petey. No, no. I wouldn’t say it was cold. [-Meg. What are the cornflakes, Stan? Stanley. Horrible.
Meg. Those flakes? Those lovely flakes? You’re a liar, a little liar. They are refreshing. It says so. For people when they get up late.
— Stanley. The milk’s off. Meg. It’s not. Petey ate his, didn’t you, Petey? Petey. That’s right. L-Meg. There you are then.
— Stanley. All right, I’ll go on to the second course. Meg. He hasn’t finished the first course and he wants to go on to the second course! 4 Stanley. I feel like something cooked.
Meg. Well, I’m not going to give it to you. Petey. Give it to him.Meg. I’m not going to. (Party, p. 15).
Данный отрезок диалога расчленяется на четыре сложных диалогических единства, выделяемых по принципу тематической связности компонентов. Основными номенклатурными дескрипторами для единств будут, последовательно: it /неопределенно-личное местоимение со значением «состояние атмосферы» в конструкциях типа It is warm. /, cornflakes, milk, second course.
Смена основного номенклатурного дескриптора сигнализирует границу сложного диалогического единства. Например, компоненты No, no. I wouldn’t say it was cold. — What are the cornflakes like, Stan? содержат в себе разные основные номенклатурные дескрипторы и поэтому относятся к разным диалогическим единствам /it — cornflakes/.
Основным номенклатурным дескриптором третьего сложного диалогического единства является существительное milk, содержание которого представлено рядом вариантов milk — it — his — 0. Основной номенклатурный дескриптор milk обязательно входит в смысловое ядро единства The milk is off.
Граничным сигналом сложного диалогического единства будет смена этого основного номенклатурного дескриптора. Проведя дес-крипторный анализ соседних с данным диалогическим единством реплик, мы увидим, что они не содержат дескриптор milk ни эксплицитно, ни имплицитно: Those flakes? Those lovely flakes? You’re a liar, a little liar. They are refreshing. It says so. For people when they get up late. — All right, I’ll go on to the second course.
Будучи «именем класса слов условной эквивалентности», основной номенклатурный дескриптор может быть выражен членами синонимического ряда или парафразами / second course — something cooked /, словами-заместителями или репрезентантами / milkit — his /, «нулевым» заместителем / Warm? /, где слово it, являющееся основным номенклатурным дескриптором сложного диалогического единства, нулюется.
Основной номенклатурный дескриптор, входящий в состав смыслового /тематического/ ядра сложного диалогического единства, имеет наиболее широкие контекстные связи в рамках микроконтекста данного единства. Например, номенклатурный дескриптор it первого диалогического единства присутствует во всех его компонентах /эксплицитно и имплицитно/ и таким образом контекстуально связан со всеми остальными дескрипторами единства.
При взгляде на диалог сразу бросается в глаза тот факт, что реплики имеют неодинаковую протяженность в плане количества их составляющих. Одни реплики состоят из отдельного слова, другие — из предложения и даже нескольких предложений. В случае, когда реплика состоит из двух и более предложений, возникает вопрос: Каковы семантические отношения между ними? Являются ли они семантически /тематически/ однородными или представляют собой простое соположение двух и более семантически разноплановых высказываний?
Обзор материала показывает, что реплика, состоящая более-чем из одного предложения, может быть как одноплановой, так и разноплановой с точки зрения тематической цельности. В первом случае она составляет кумулятив /см.: Блох, 19 736:211/, а во втором части ее входят в разные, хотя и соседствующие друг с другом единицы надфразового уровня. Например:
Admiral. When I took my first ship to sea I used to skip rope around the quarter deck for two hours before breakfast. That’s how I got that stomach you call a beer barrel. Barrel of nails. Give it a punch. You, young girl. Try it. Go on. Don’t be shy. There. See.
York, p. 196).
Нетрудно видеть, что данная реплика, включающая десять предложений разной протяженности, составляет единый кумулятив.
С другой стороны, в случае, если в состав реплики входят два тематически разнородных высказывания, то одно предложение будет относиться к предыдущему диалогическому единству, а второе — к последующе^:
— O'Keef. That all you got to eat. Dangerfield. Kenneth, you are welcome to whatever I possess. O’Keef. Which is nothing.
Dangerfield. I wouldn’t put it that way.
I think you wear too many tight clothes in this town of temptation. O’Keef. I haven’t had these clothes off for three months. etc. (Man, p. 60).
Граница между диалогическими единствами в приведенном примере проходит внутри реплики, состоящей из двух предложений, и четко определяется посредством наблюдения над основными номенклатурными дескрипторами.
Если реплика состоит из двух кумулятивов, то граница между кумулятивами будет границей сложного диалогического единства: Jimmy. And have my enjoyment ruined by the Sunday night yobs in the front row? No, thank you. (Pause.) Did you 1 2 read Priestley’s piece this week?. (Anger, p. 40) Тема диалога может изменяться не только на стыке двух реплик или внутри реплики, состоящей более чем из одного предложения, но также и внутри реплики, включающей лишь одно предложение. В таких случаях диалогические единства частично перекрывают друг друга. Например:
Stanley. Anyway, this isn’t my birthday. McCann. No?
Stanley. No, it’s not till next month. —McCann. Not according to the lady. Stanley. Her? She’s crazy. Round the bend. (Party, p.32) Вышеприведенный отрезок диалога подразделяется на два сложных диалогических единства /второе единство приведено не полностью/. Компонент Not according to the lady является общим для двух единств. Основным номенклатурным дескриптором первого сложного диалогического единства будет существительное birthday, а второгог lady. Оба дескриптора содержатся в одном и том же компоненте Not according to the lady / birthday имплицируется контекстом/, однако их значимость для соседних диалогических единств различна. Это легко увидеть, если рассматривать сложные диалогические единства порознь: в первом общий компонент является конечным, а во втором — зачинным.
Подобное явление возможно в диалоге благодаря его основному отличительному свойству — двуплановости /или многоплановости/ процесса коммуникации /наличию более чем одного коммуниканта/. Коммуникативная значимость того или иного элемента высказывания может быть изменена получателем информации, который намечает новую тематико-коммуникативную перспективу в рамках реплики, завершающей некоторое диалогическое единство.
Наличие общей пограничной зоны для двух соседних сложных диалогических единств может вызываться также и тем, что говорящий реагирует не на все высказывание собеседника, а лишь на часть его. Такого рода реакция способствует появлению тематической неоднородности или «тематической зыби» /Брчакова, 1979: 259/ как одного из характерных признаков диалогической речи, отличающей ее от монологической.
Итак, часто деление на диалогические единства не совпадает с делением диалога на реплики. В лингвистической литературе реплики подразделяются на два больших класса — монологические и диалогические. Первые определяются как более сложные синтаксические построения, не рассчитанные на непосредственную словесную реакцию собеседника, охватывающие обширное тематическое содержание, в то время как диалогические реплики характеризуются как высказывания, прямо адресованные собеседнику и более простые по тематическому составу и синтаксическому построению /Ахманова, 1969:239,132/.
Р.Р.Гельгардт предлагает подразделять реплики на диалогические и монологические по признаку синсемантичности/автосеман-тичности. Диалогическая реплика относится автором к синсеманти-ческим, композиционно открытым единицам, а монологическая — к автосемантическим, композиционно закрытым единицам организованной речи /Гельгардт, 1971:145/.
— 16.
Подробный анализ реплик русской диалогической речи с точки зрения их коммуникативной направленности и синтаксического строения осуществлен И. П. Святогором, который пишет, что «реплика является основной строевой единицей диалога и — в большинстве случаев — составной частью диалогических единств и других сложных речевых комплексов, объединяющих в своем составе несколько смежных реплик или частей этих реплик» /Святогор, 1967:19, разрядка наша — С.П./.
В связи с проблемой установления границ сложного диалогического единства возникает ряд вопросов, требующих дальнейшего уточнения.
Во-первых, выше отмечалось, что диалогические реплики могут состоять как из одной конструкции, так и из нескольких. Довольно часто диалогическая реплика состоит из двух сверхфразовых единств, разделенных кумулятивно долгой паузой и интонацией. Однако такую реплику нельзя назвать монологической, так как части ее входят в соседние диалогические единства /примеры смотри выше/.
Во-вторых, монологическая реплика в большинстве случаев неоднородна по своей семантико-синтаксической структуре, часть ее входит в состав диалогического единства и либо начинает, либо завершает его. Начальное или финальное положение части монологической реплики в диалогическом единстве обусловлено тем фактом, что монологическая реплика характеризуется политемностью, смена же темы является граничным сигналом сложного диалогического единства, так как диалогическое единство должно быть монотемным. Поэтому только крайняя /начальная или финальная/ конструкция или кумулятив монологической реплики могут входить в диалогическое единство.
— 17.
Таким образом, учитывая все вышесказанное становится очевидной необходимость уточнения таких понятий, как реплика и компонент диалогического единства. Мы приходим к выводу, что диалог состоит из следующих единиц:
I/ самостоятельные, автосемантические реплики /монологические реплики или их части, не входящие в диалогические единства/;
2/ компоненты диалогических единств: а/ совпадающие с репликойб/ меньше реплики.
В условиях устной или письменной коммуникации все высказывания будут подразделяться на относительно автосемантические /монологические/ и синсемантические — компоненты диалогических единств. В дальнейшем мы будем придерживаться терминов «сложное диалогическое единство» и «компонент диалогического единства». Отношение оккурсива, т. е. диалогического единства, к кумуляти-ву, т. е. компоненту диалогического единства, состоящему более чем из одного предложения, есть отношение целого к его части.
В этой связи необходимо установить место оккурсива и куму-лятива в иерархии средств выражения надпредложенческой области синтаксиса. М. Я. Блох пишет, что «. если кумулятив включает в себя два или более предложения, объединенные посредством присоединения, то оккурсив может состоять из двух или более кумуля-тивов, так как высказывания собеседников могут быть образованы не только отдельными предложениями, но также и кумулятивными последовательностями предложений» /Блох, 1983а:364−365/. Следовательно, оккурсив как элемент системы с точки зрения иерархии является элементом более высокого порядка и находится над куму-лятивом.
Как уже отмечалось, диалогическая речь принципиально отличается от монологической в том плане, что семантическая структура диалога является результатом речетворчества двух или более индивидов, и этот факт дает нам возможность классифицировать сложные диалогические единства с точки зрения характера участия коммуникантов в раскрытии темы диалогического единства.
Сложное диалогическое единство в этом плане до сих пор подробно не исследовалось.
И.Аксенов сделал попытку классификации реплик драмы в зависимости от характера передаваемой ими информации или, точнее, от характера участия в развитии темы диалога /Аксенов, 1934: 21−29/. Однако критерии разбиения реплик на определенные группы были разработаны автором недостаточно четко, а сама классификация носила скорее литературоведческий, чем лингвистический характер.
В некоторых работах по диалогу отмечается, что реплики могут быть неоднородными по их тематической значимости /см.: Винокур Т. Г., 1955; Седов, 1961/, однако авторы рассматривают реплики изолированно, вне диалогического единства, что не позволило более четко увидеть их разноплановость с точки зрения вклада в формирование семантико-тематической структуры единства.
Ряд ценных наблюдений над особенностями диалогических единств, отличающихся степенью активности того или другого говорящего, был сделан Г. А. Пеньковой /1972а- 19 726/ на материале современного французского языка.
Р.Поснер / Posner, 1972/ выделяет односторонний диалог, активный диалог, реактивный диалог и прямой диалог на основе типа комментирования в последующей реплике. Автор понимает диалог в широком смысле этого термина как речь, направленную на восприятие реципиентом, и поэтому к одностороннему диалогу относит такие виды речи, как проповедь, лекция и т. д. Однако, по справедливому замечанию Г. Хельбига, признак предназначенности для восприятия партнером не может способствовать идентификации монологического текста и диалога, так как любой текст в конечном итоге предназначен для чьего-то восприятия /см.: Helbig, 1975:67/.
Итак, анализ семантической структуры диалога показывает, что говорящие могут вносить различный вклад в развитие темы диалогического единства. Понимание диалогического единства как лингвистической единицы, обладающей семантической /тематической цельностью и семантико-синтаксической связностью приводит нас к необходимости изучения, во-первых, средств формирования такой цельности и связности и, во-вторых, определения вклада высказываний разных коммуникантов в развитие темы данного единства.
По принципу того, какой вклад в развитие темы и установление семантической связности единства вносят компоненты, принадлежащие разным участникам диалога, мы разделяем все сложные диалогические единства на три большие группы:
I. Сложное диалогическое единство, оба /все/ коммуниканты которого активно участвуют в раскрытии теш единства:
Kate. What about McCabe?
Anna. Do you really want to see anyone?
Kate. I don’t think I like McCabe.
Anna. Nor do I.
Kate. He’s strange. He says some very strange things to me.
Anna. What things?
Kate. Oh, all sorts of funny things.
Anna. I’ve never liked him. (Drama, p. 37*1).
— 20.
2. Сложное диалогическое единство, тема которого развивается в компонентах лишь одного коммуниканта:
Arthur. I remember working here with you.
Jenny. Working?
Arthur. Stooking. Harvesting. Days of yore.
Jenny. Yes. (Farm, p. 48).
3. Квазидиалог — полное несоответствие тематических планов коммуникантов:
Sophie. Why’won’t he let me go?
Toby. Whisky? Have a whisky.
Sophie. It’s just as awful for him.
Toby. Do have a whisky.
Sophie. But he can’t let me go.
Toby. I’m going to have one.
Sophie. And I can’t get away — can’t get away anywhere.
No refuge. No peace.
Toby. Come and watch the children.
Sophie.There may be a way to escape, but I can’t see it.
Toby. Are you all right?
Sophie. I can’t see anything. (Dance, p. 32).
Определенный интерес вызывает сложное диалогическое единство второго типа — сложное диалогическое единство с односторонней организацией.
Тема приведенного одностороннего единства working развивается только в репликах Артура. Основной номенклатурный дескриптор, представленный вариантами working, stooking, harvesting, содержится в компонентах единства, принадлежащих только одному коммуниканту. Высказывания Дженни не участвуют в тематическом развертывании диалогического единства. Однако они включаются в общую семантику сложного диалогического единства. Второй и четвертый компоненты единства имеют ретроспективную коммуникативную направленность и выражают отношение слушающего к полученной информации.
Тема диалогического единства с односторонней организацией всегда будет развиваться только в компонентах первого коммуниканта, поскольку нерелевантные для тематического развертывания единства высказывания не могут выступать в качестве зачинных. Они могут быть только последующими.
Речевая деятельность второго коммуниканта может выполнять различные функции: сигнализация наличия контакта, выражение согласия/несогласия, удивления, гнева, боли и т. д., переспрос с различными целями, выражение субъективной оценки услышанного, побуждение к продолжению разговора, изменение коммуникативной перспективы диалога и т. д. Все эти функции носят нетематический характер, т. е. такие высказывания практически не участвуют в развитии темы в смысле сообщения новой интеллектуальной информации.
Если мы в целях исследования изолируем компоненты одностороннего диалогического единства, принадлежащие одному коммуниканту, в той последовательности, в какой они даны в единстве, то мы увидим, что одна группа компонентов составит связное монологическое высказывание, в котором происходит развитие темы единства. Другая же группа компонентов такого единства не образует. Это будет лишь набор единиц, необходимых для образования структуры сложного диалогического единства с односторонней организацией, практически не участвующих в тематическом развертывании единства.
Тем не менее было бы неверным утверждать, что одностороннее диалогическое единство ничем не отличается от монологического высказывания, за исключением дистантного расположения его частей. Все компоненты входят в семантическую структуру единства, хотя и в разной степени участвуют в развитии его темы.
Таким образом, анализ сложного диалогического единства с точки зрения вклада коммуникантов в формирование и развитие его тематической цельности позволяет выделить односторонний диалог как специальный вид диалогического текста, тема которого развивается в компонентах лишь одного говорящего. Мы называем такой вид текста сложным диалогическим единством с односторонней организацией.
ЗЕ • * х.
Предметом данного диссертационного исследования является сложное диалогическое единство с односторонней организацией в современном английском языке. Актуальность выбранной темы вытекает из того, что, несмотря на довольно обширную литературу по теории диалога /обзор работ советских лингвистов по вопросам изучения диалога см. в кн.: Валюсинекая, 1979/, сложное диалогическое единство с односторонней организацией изучено еще далеко не достаточно. Оно фактически остается до сих пор не определенным ни со стороны структуры /количество компонентов, формы их связи и т. д./, ни со стороны семантики /характер семантических отношений между компонентами, содержательно-тематическая цельность или разобщенность всего единства/. Исследование связности в рамках сложного диалогического единства проводится с позиций теории парадигматического синтаксиса, разработанной в трудах М. Я. Елоха.
— 23.
Цель исследования состоит в том, чтобы раскрыть определенные закономерности отражения в языковых формах семантики сложного диалогического единства с односторонней организацией, которая обусловлена тематической цельностью и семантико синтаксической связностью входящих в него компонентов.
Достижение поставленной цели вызвало необходимость решения следующих конкретных задач:
I/ Установить особенности структуры компонентов односторонних единств;
2/ исследовать характерные особенности различных композиционно-речевых форм сложных диалогических единств с односторонней организацией;
3/ выявить средства связи компонентов односторонних диалогических единств.
Научная новизна работы заключается в том, что на материале современного английского языка впервые показывается возможность выделения ряда композиционно-речевых форм одностороннего диалога как коммуникативно-смысловых типов текста. Изучение связности в единствах показало, что сложному диалогическому единству с односторонней организацией свойственно наличие связности как между контактно, так и дистантно расположенными компонентами. Дистантные связи охватывают только тематические компоненты. В ходе исследования выявлено, что контактные связи носят встречный характер, а дистантные — присоединительный. Вскрытие встречных и присоединительных межкомпонентных связей в семантико-син-таксической структуре единства позволило прийти к заключению о том, что сложное диалогическое единство с односторонней органы- 1 зацией является переходным типом текста от диалога к монологу.
Теоретическое значение представленной работы определяется применением теории парадигматического синтаксиса для уточнения положения диалогического единства в иерархии значимых единиц языка как системы. Такой подход позволил провести последовательный анализ категорий семантико-синтаксической связности и тематической цельности сложного диалогического единства с односторонней организацией.
Практическое значение диссертации заключается в том, что решение теоретических вопросов, связанных с изучением сложных диалогических единств, имеет широкий выход в практику преподавания иностранного языка в средней и высшей школе. Материалы и выводы исследования могут быть использованы в преподавании курсов теоретической и практической грамматики, стилистики английского языка, а также при чтении спецкурсов по теории и интерпретации текста, при написании курсовых и дипломных студенческих работ.
Материалом исследования послужили пьесы современных британских и американских авторов общим объемом около 18 тыс. страниц. Из текстового материала методом сплошной выборки выписано и проанализировано 1100 примеров сложных диалогических единств с односторонней организацией.
В диссертации используется комплексная методика исследования, включающая контекстуальный, дескрипторный и трансформационный анализ.
Работа прошла апробацию на научной конференции молодых научных работников «Лингвистический статус разговорной речи и методика ее преподавания» в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени М. Тореза 17 мая 1984 года. Материалы диссертации используются в курсе лекций по теоретической грамматике английского языка и спецкурсе по лингвистике текста на факультете английского языка Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина.
По теме диссертации опубликованы следующие статьи:
1. Сложное диалогическое единство с односторонней организацией. — Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР, № 16 684. Новая советская литература по общественным наукам. Языкознание, М., 1984, № 10. — 56 с.
2. Сложное диалогическое единство. — В кн.: функциональные аспекты слова и предложения. — М.: МГШ им. В. И. Ленина, 1985.
— 12 с.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и списка использованных литературных источников.
— 144 -ВЫВОДЫ.
1. Анализ межкомпонентных связей в сложном диалогическом единстве с односторонней организацией показал, что они разбиваются, в первую очередь, на две большие рубрики: контактные и дистантные. Первая группа представлена встречными связями, а вторая — присоединительными.
2. Контактные межкомпонентные связи подразделяются нами на коррелятивные и интродуктивные, последние считаются разновидностью конъюнкционных связей.
Из всех разновидностей коррелятивных контактных связей наибольшее распространение в одностороннем диалоге получают функциональная, рекуррентная, редукционная и апеллятивная связи. Субституционная и репрезентативная связь ограниченно распространены в односторонних единствах как средства формирования контактной связности.
3. Самым распространенным видом контактной связи в единствах исследуемого типа является функционально-коррелятивная. Эта связь основывается на принципе коммуникативной недостаточности последующего высказывания, в силу чего оно может выступать только как реагирующее. Это слова-предложения Tes, Noмеждометные высказываниямодальные слова-предложения и ответные реакции для стандартных ситуаций общения. Все вышеперечисленные высказывания отличаются очень высокой степенью синсемантичности.
4. Рекуррентная связь, основанная на лексико-синтаксичес-ком параллелизме, редукционная и апеллятивная связи отражают основные тенденции диалогической речи: одновременное участие в речевом акте двух или более говорящих, стремление к экономии языковых средств и направленность речи на собеседника.
5. Собственно конъюнкционная /союзная/ связь не употребляется для объединения контактно расположенных компонентов односторонних единств. Она выступает здесь в своей диалогической разновидности — в виде сочленения элементов текста посредством интродукторов. Б качестве интродукторов функционируют вводящие частицы междометного характера Oh, Ah, Why и др.- вводящая частица Wellустойчивые словосочетания All rightAs a matter of fact и др. 6. Дистантные межкомпонентные связи устанавливаются между тематическими компонентами сложных диалогических единств с односторонней организацией. Дистантные связи обнаруживают ряд отличий от контактных. Во-первых, дистантные связи могут быть не только ретроспективными, но и проспективными и взаимными /ретроспективно-проспективными/. Во-вторых, конъюнкционные связи представлены как союзным, так и интродуктивным типом. В-третьих, наблюдается перераспределение по значимости и номенклатуре отдельных видов коррелятивной связи.
7. Дистантная коррелятивная связь представлена субституци-онной, репрезентативной, субституционно-репрезентативной, рекуррентной и ассоциативной разновидностями. Все они достаточно широко распространены в одностороннем диалоге. В отличие от контактных связей, дистантным не свойственно употребление функциональной и апеллятивной связи, в то время как субституция и репрезентация получают здесь широкое распространение.
8. Различия между контактной /встречной/ и дистантной /присоединительной/ связями в одностороннем диалоге обусловлены кардинальными различиями семантики тематических и нетематических компонентов. Если в первом случае объединяемые компоненты резко отличаются по своему содержанию — тематические содержат.
— 146 всю интеллектуальную информацию по теме, а нетематические представляют собой всевозможные модальные и коммуникативные реакции на сказанное — то во втором сочленению подлежат семантически однородные компоненты.
9. Как известно, встречные связи характерны для диалогической речи, а присоединительные — для монологической. Сложному диалогическому единству с односторонней организацией свойственны как те, так и другие. Это позволяет нам сделать вывод, что односторонний диалог занимает промежуточное место между собственно диалогом и монологом. Переходный характер одностороннего диалога закреплен в системе надфразовых связей его составляющих.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Предметом исследования данной диссертационной работы послужило сложное диалогическое единство с односторонней организацией. Изучение одностороннего диалога проводится с позиций теории парадигматического синтаксиса, разработанной в трудах М. Я. Елоха. Согласно этой теории языковая семантика надпредло-женческих связей в тексте трактуется как синтаксическая, поскольку при отображении всевозможных отношений между ситуациями выражается некоторая типическая, постоянно повторяющаяся семантика, передаваемая особыми, специализированными языковыми формами.
Диалектическое единство содержания и формы предполагает ведущую роль содержания по отношению к форме. Поэтому при определении сложного диалогического единства в качестве основного критерия мы используем семантико-тематическую цельность единства, а исследование проводим от установления общности темы к выявлению грамматических средств выражения этой общности.
Сложное диалогическое единство определяется нами как структурно-семантическая единица диалогического текста, состоящая из трех и более компонентов /встречных высказываний разных участников диалога/, примыкающих к единому смысловому центру и взаимообусловленных семантически, структурно и коммуникативно.
Смысловой центр сложного диалогического единства обнаруживается с помощью дескрипторного анализа его компонентов. Дескрипторы, входящие в смысловой центр сложного диалогического единства, называются нами основными номенклатурными дескрипто-раш. Смена основного номенклатурного дескриптора сигнализирует границу сложного диалогического единства.
Дескрипторный анализ диалогических реплик, состоящих более чем из одного предложения, показал, что если реплика состоит из двух предложений, то одно предложение может относиться к предыдущему диалогическому единству, а второе — к последующему. Если резшика состоит из двух сверхфразовых единств, то граница между ниш будет и границей сложного диалогического единства. Часть монологической реплики в ряде случаев может входить в сложное диалогическое единство и либо начинать, либо завершать его.
Итак, часто деление на диалогические единства не совпадает с делением диалога на реплики. В этой связи возникает необходимость уточнения понятий «реплика» и «компонент диалогического единства». Мы приходим к выводу, что диалог состоит из следующих единиц:
I/ самостоятельные, автосемантические реплики /монологические реплики или их части, не входящие в диалогические единства/'';
2/ компоненты диалогических единств: а/ совпадающие с репликойб/ меньше реплики.
В условиях устной или письменной коммуникации все высказывания подразделяются нами на относительно автосемантические /монологические/ и синсемантические — компоненты диалогических единств. В данной работе мы придерживаемся терминов «сложное диалогическое единство» и «компонент диалогического единства». Отношение диалогического единства к его компоненту, составляющему сверхфразовое единство, есть отношение целого к его части.
Семантическая структура диалога является результатом рече-творчества двух или более индивидов, и этот факт дает нам возможность классифицировать сложные диалогические единства с точки зрения характера участия коммуникантов в раскрытии темы диалогического единства.
По принципу того, какой вклад в развитие темы и установление} семантической связности единства вносят компоненты, принадлежащие разным участникам диалога, мы разделяем все сложные диалогические единства на три большие группы: сложное диалогическое единство, оба /все/ коммуниканты которого активно участвуют в раскрытии темы единствасложное диалогическое единство, тема которого развивается в компонентах лишь одного коммуникантаквазидиалог — полное несоответствие тематических планов коммуникантов.
Специальному исследованию в данной работе подверглось единство второго типа — сложное диалогическое единство с односторонней организацией.
Компоненты сложных диалогических единств с односторонней организацией распадаются на две группы с ярко выраженными отличительными признаками. К первой группе относятся тематические компоненты, в которых происходит развитие темы единствако второй — нетематические компоненты реагирующего характера. Различия: компонентов этих двух групп в плане содержания обусловливают значительные расхождения в плане выражения — в их грамматической структуре.
Так, компоненты первой группы имеют относительно простой грамматический состав по сравнению с монологической речью — не более пяти конструкций в 98,5 $ случаев, тем не менее для диалогической речи входящие в них конструкции обладают сравнительно большим объемом в плане количества составляющих и их протяженности. Это обусловлено их тематическим характером.
Вторая группа, компонентов представлена высказываниями peaгирующего характера. Они практически не участвуют в развитии темы единства. Особенности передаваемой содержательной информации накладывают свой отпечаток на структуру этих компонентов: 89 $ примеров приходится на компоненты, состоящие из одной конструкции, 9,5 $ - из двух и 1,5 $ - из трех конструкций. Более чем трехконструкционные компоненты наш не зарегистрированы.
Выделение сложного диалогического единства создает предпосылки для изучения композиции и семантики отрезков тематической связности. Части текста, характеризующиеся семантико-тематичес-кой цельностью и построенные по различным линиям синтаксической связности, в стилистике называются композиционно-речевыми формами. На основе анализа языкового материала мы выделили шесть чистых композиционно-речевых форм одностороннего диалога и одну со смешанными коммуникативными установками входящих в нее ком-шшентов.
Четыре композиционно-речевые формы одностороннего диалога строятся на базе повествовательного предложения. Это диалог-повествование, диалог-описание, диалог-объяснение и диалог-извещение .
Диалог-повествование определяется нами как композиционно-речевая форма диалогического текста, переход от одного тематического элемента которого к другому определяется временными признаками. Глагольные характеристики играют в этом виде текста первостепенную роль, поэтому в диалоге-повествовании преобладают предложения глагольного типа.
Ремовыделяющая функция повествования проявляется в том, что предикативный элемент /часто сам глагол-сказуемое/ с необходимостью включается в коммуникативно-смысловой центр высказывания.
Диалог-описание можно определить как сложное диалогическое единство с односторонней организацией, направленное на более или менее полное изображение разных сторон одного предмета, явления, процесса. Описание выявляет квалитативные стороны референта.
Ремовыделяющая функция описания как композиционно-речевой формы проявляется в том, что в коммуникативно-смысловой центр высказывания в большинстве случаев включается предикатив, оставляя глагольный элемент за рамками ремы. Для диалога-описания характерен высокий процент предложений с составным именным сказуемым.
Диалог-объяснение мы определяем как особый вид диалогического текста, каждый тематический компонент которого либо вытекает из предыдущего, либо вызывает последующий, устанавливая причину, смысл, закономерность высказываний всего единства. Композиционные элементы диалога-объяснения находятся в причинно-следственных отношениях между собой.
Диалог-извещение определяется нами как композиционно-речевая форма диалогического текста, целью которого является сообщение о каком-либо событии, явлении или процессе, не останавливаясь подробно на его характеристиках. Это одно высказывание, расчлененное репликой партнера или представленное двумя трансформами одного и того же предложения.
Диалог-побуждение строится на базе побудительных конструкций. К ним относятся чисто повелительное предложение и переходные! типы: повествовательно-побудительное и вопросительно-побудительное.
В семантическом поле «побуждение» действует тройная градуальная оппозиция: просьба — инструкция — приказ, члены которой противопоставляются по признаку степени императивности высказывания. Наименьшая степень императивности содержится в просьбе и наивысшая — в приказе. Соответственно такому членению выделяются диалог-просьба, диалог-инструкция и диалог-приказ.
Мы выделяем особый тип сложного диалогического единства с односторонней организацией, включающий в зачин вопросительную конструкцию, коммуникативное задание которой либо не реализуется вообще, либо реализуется в тематических компонентах — говорящий отвечает сам себе. Степень семантической завершенности такого единства зависит от характера надпредложенческих связей между его компонентами.
В реальных условиях живого общения часто происходит соединение выделенных нами композиционно-речевых форм диалога в рамках одного единства. Такие единства называются нами смешанными. Семантическая структура диалога этого типа отражает естественную динамику человеческой мысли и восприятия реальной действительности во всем ее многообразии.
Анализ межкомпонентных связей в сложном диалогическом единстве с односторонней организацией, проведенный с позиций теории парадигматического синтаксиса, показал, что они разбиваются, в первую очередь, на две большие рубрики: контактные и дистантные. Первая группа представлена встречными связями, а вторая — присоединительными.
Контактные связи действуют между семантически разнородными компонентами — тематическими и нетематическими — что и обусловило их характерные особенности. Во-первых, контактные связи имеют только ретроспективную ориентациюво-вторых, наибольшее распространение получают здесь коррелятивные связи, а именно функциональная, рекуррентная, редукционная и апеллятивная. Субститудия и репрезентация распространены довольно ограниченно, в отличие от монологических последовательностей. Конъюнкционная связь в чистом виде здесь не встречается, она выступает в своей диалогической разновидности — как интродуктивная.
Самым распространенным видом контактной связи является функционально-коррелятивная, основанная на принципе коммуникативной недостаточности последующего высказывания.
Дистантные связи устанавливаются между тематическими компонентами односторонних единств. Б отличие от контактных связей, они могут быть не только ретроспективными, но и проспективными и взаимными /ретроспективно-проспективными/.
Дистантная коррелятивная связь представлена субституцион-ной, репрезентативной, субституционно-репрезентативной, рекуррентной и ассоциативной разновидностями. Субституция и репрезентация получают здесь широкое распространение.
Конъюнкционная дистантная связь выступает как в чистом виде, так и в виде интродуктивной связи.
Различия между контактной /встречной/ и дистантной /присоединительной/ связями в одностороннем диалоге обусловлены кардинальными различиями семантики тематических и нетематических компонентов. Если в первом случае объединяемые компоненты резко отличаются по своему содержанию — тематические содержат всю интеллектуальную информацию по теме, а нетематические представляют собой всевозможные модальные и коммуникативные реакции на сказанное — то во втором сочленению подлежат семантически однородные компоненты.
Как известно, встречные связи характерны для диалогической речи, а присоединительные — для монологической. Сложному диало.
— 154 гическому единству с односторонней организацией в равной мере свойственны как те, так и другие. Это позволяет нам сделать вывод, что односторонний диалог занимает промежуточное место мезвду собственно диалогом и монологом. Переходный характер одностороннего диалога закреплен в системе надфразовых связей его составляющих.
Таким образом, анализ сложного диалогического единства с односторонней организацией с позиций теории парадигматического синтаксиса позволил исследовать семантико-синтаксическую связность в единстве как отражение его внутренней организации, определяемой тематической цельностью.
Список литературы
- К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, изд. 2: в 30 т. — М.: Госполитиздат, 1955.
- Абрамов Б.А. Текст как закрытая система языковых средств. В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1974, ч. I, с. 3−4.
- Абрамович А.В. Особенности структуры описания и его композиционная роль в жанрах публицистики. В кн.: Вопросы стилистики. М.: Изд-во МГУ, 1966, с. 202 — 214.
- Аксенов И. Язык советской драматургии. Театр и драматургия, 1934, № 6, с. 21−29.
- Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное строение современного английского диалога как коммуникативной формы текста: Дисс.. канд. филол. наук. Пятигорск, 1981. — 201 л.
- Антипова Е.Я. Глагольное замещение в современном английском языке. Вестник ЛГУ, 1962, № 2, вып. I, с. 137 — 149.
- Аринштейн В.М. 0 структурной обусловленности сверхфра-зоеых единств. В кн.: Проблемы общего языкознания и английской филологии. Ученые зап. Калинин: КГПИ им. М. И. Калинина, 1969, т. 64, вып. I, ч. I, с. 103 — 142.
- Арнаутова А.Г. Сложные синтаксические единства. В кн.: Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии. Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1974, с. 171 186.
- Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения. Вопросы языкознания, 1982, № 4, с. 83 — 91.
- Арутюнова Н.Д. Некоторые типы диалогических реакций и «почему» реплики в русском языке. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1970, № 3, с. 44 — 58.
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Автореф. дисс.. доктора филол. наук. М., 1975. — 45 с.
- Афанасьев П.А. Выражение подтверждения и отрицания в ответных репликах в современном английском языке: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1966. — 30 с.
- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. — 608 с.
- Ахманова О.С., Никитина С. Е. 0 некоторых лингвистических вопросах составления дескрипторных языков. Вопросы языкознания, 1965, № 6, с. Ill — 115.
- Бакарева А.П. К вопросу о структуре предложения как средстве связи между предложениями в сверхфразовом единстве.- 13 кн.: Вопросы грамматики германских языков. Сборник научных трудов. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1980, вып. 161, с. 181 192.
- Бакун В.М. Вычленение коммуникативного центра в диалогическом единстве. В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Ученые записки. Рязань: Рязанский гос. пед. ин-т, 1975, вып. 2, с. 60 — 68. — а.
- Бакун В.М. «Привязка» валентности к вопросу изучения структурного взаимодействия реплик диалогического единства.-В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Ученые записки. Рязань: Рязанский гос. пед. ин-т, 1975, вып. 3, с. 35 44. — б.
- Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. М.: Высшая школа, 1966. — 199 с.
- Бархударов Л. С. Текст как единица языка и единица перевода. В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГШИЯ им. М. Тореза, 1974, ч. I, с. 40 — 41.
- Бархударов Л.С. Структура предложения и структура текста. В кн.: Лингвостилистические проблемы текста. Сборник научных трудов. М.: МГШИЯ им. М. Тореза, 1980, вып. 158, с. 51−58.
- Баталова Т.М. Некоторые семантические аспекты связности текста. В кн.: Сборник научных трудов. М.: МГШИЯ им. М. Тореза, 1977, вып. 116, с. 3 — 26.
- Беркаш Г. В. Логико-грамматическая природа вопроса и ее реализация в вопросно-ответных структурах английской диалогической речи: Дисс.. канд. филол. наук. М., 1969. — 333 л.
- Беркнер С. С. 0 взаимодействии реплик в английской диалогической речи. В кн.: Английская филология. Ученые записки. Ульяновск: Ульяновский гос. пед. ин-т, 1959, т.15, вып.2, с.3−40.
- Беркнер С.С. Некоторые явления взаимодействия реплик английской диалогической речи: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., I960. — 19 с.
- Беркнер С.С. Проблемы развития разговорного английского языка Х1У XX вв. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. — 230 с.
- Беркнер С. С. К вопросу о трансформации устно-разговорного текста в письменно-разговорный. В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1974, ч. I, с. 45 — 50.
- Блох М.Я. Проблема синтаксической связи самостоятельных предложений. В кн.: Проблемы синтаксиса, лексики и методики преподавания английского языка. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону: Рост. н/Д гос. ун-т, 1966, с. 7 — 8.
- Блох М.Я. Вопросы классификации синтаксических связей в последовательностях предложений. В кн.: Вопросы германского языкознания и методики преподавания иностранных языков. — Иркутск: Иркутский ГПИИЯ, 1968, т. I, с. 66 — 73.
- Блох М.Я. Дихотомия «язык речь» и теория трансформационной грамматики. — В кн.: Вопросы грамматики английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ игл. В. И. Ленина, 1969, № 367,с. 17 37. — а.
- Блох М.Я. К проблеме присоединительных связей предло-жевяй. В кн.: Вопросы грамматики английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1969, В 367, с. 38 — 55. — б.
- Блох М.Я. К проблеме синтаксиса монологической речи. В кн.: Вопросы лингвистики. Ученые записки. Томск: Томский гос. пед. ин-т, 1969, вып. I, № 27/а/, с. 27 — 34. — в.-159
- Блох М.Я. К проблеме синтаксической парадигматики. В кн.: Проблемы синтаксиса английского языка. Ученые записки, М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1970, № 422, с. 20 — 42. — а.
- Блох М.Я. Конечно-автоматная грамматика в теории синтаксической структуры языка. В кн.: Проблемы синтаксиса английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1970, № 422, с. 43 — 74. — б.
- Блох М.Я. Факультативные позиции и нулевые формы в парадигматическом синтаксисе. В кн.: Проблемы синтаксиса английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1970,422, с. 75 105. — в.
- Блох М.Я. Ядерный уровень в парадигматическом синтаксисе. В кн.: Синтаксические исследования по английскому языку. Ученые записки. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1971, № 416, вып. I, с. 41 54, — а.
- Блох М.Я. Об информативной и семантической ценности язековых элементов. В кн.: Синтаксические исследования по английскому языку. Ученые записки. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 197I, Jfe 473, вып. 2, с. 3 — 27. — б.
- Блох М.Я. Категория оппозиционного замещения. В кн.: Вопросы теории английского языка. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1973, вып. I, с. 37 — 44. — а.
- Блох М.Я. Надфразовый синтаксис и синтаксическая парадигматика. В кн.: Проблемы грамматики и стилистики английского языка. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1973, с. 195 — 225. — б.
- Блох М.Я. Проблемы парадигматического синтаксиса: Дисс.. доктора филол. наук. М., 1976. — 444 л. — а.
- Блох М.Я. Вопросы изучения грамматического строя языка. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1976. — 107 с. — б.
- Блох М.Я. Коммуникативные типы предложения в аспекте актуального членения. Иностранные языки в школе, 1976, № 5, с. 14 — 23. — в.
- Блох М.Я. Типы коммуникации и актуальное членение предложения в разговорной речи. Б кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький: ГГШ им. М. Горького, 1976, вып. 7, ч. I, с. 55−62. — г.
- Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Ы.: Высшая школа, 1983.-383 с. — а.
- Блох М.Я. Коммуникативная синтаксическая парадигматика и логический аспект высказывания. В кн.: Структура и функция синтаксических единиц в германских языках. Горький: ГГПИ им. М. Горького, 1983, с. 3 — 12. — б.
- Борисова М, Б. 0 типах диалога в пьесе Горького «Враги». -В кн.: Очерки по лексикологии, фразеологии, стилистике. Ученые записки. Л.: ЛГУ им. А. А. Жданова, 1956, 198, серия филологических наук, вып. 24, с. 96 124.
- Брандес М.П. Синтаксическая семантика текста. В кн.: Вопросы романо-германской филологии. Синтаксическая семантика.
- Сборник научных трудов. М.: МГШИЯ им. М. Тореза, 1977, вып.112, с. 145 153.
- Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. М.: Высшая школа, 1983. — 271 с.
- Брчакова Д. О связности в устных коммуникатах. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 248 — 261.
- Валимова Г. В. Сложное предложение и сочетание предложений. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975, с. 183 — 190.
- Валюсинская З.В. Вопросы изучения диалога в работах советских лингвистов. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 299 — 313.
- Вейхман Г. А. К вопросу о синтаксических единствах.- Вопросы языкознания, 1961, № 2, с. 97 105.
- Вейхман Г. А. Синтаксические единства в современном английском языке: Дисс.. канд. филал. наук. М., 1963. — 463л.
- Вейхман Г. А. Структурные модели разговорного английского языка. М.: Международные отношения, 1969. — 223 с.
- Вейхман Г. А. Высшие синтаксические единицы /на материале современного английского языка/: Дисс.. доктора, филал. назтс. М., 1980. — 430 л.
- Виноградов В.В. Синтаксическая концепция академика Л. А. Булаховского. Русский язык в школе, 1965, № 4, с. 79 — 83.
- Виноградов В.В. Русский язык. М.: Высшая школа, 1972.- 613 с.
- Винокур Г. И. «Горе от утла» как памятник русской художественной речи. В кн.: Труды кафедры русского языка. Ученые записки. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1948, вып. 128, с. 35−69.
- Винокур Т.Г. 0 некоторых синтаксических особенностях, диалогической речи в современном русском языке: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1953. — 16 с.
- Гаврилова З.Ф. Принципы строения монологических высказываний и их структурные типы в английской разговорной речи.- В кн.: Ученые записки 1ТПИШ им. Н. А. Добролюбова. Горький, 1967, вып. 34, с. 322 346.
- Гаврилова З.Ф. Некоторые особенности монологических высказываний в диалогической речи /на материале английского языка/: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Л., 1970. -23с.
- Гак В. Г. Русский язык в зеркале французского. Структура диалогической речи /часть I/. Русский язык за рубежом.
- М.: йзд-во МГУ, 1970, J6 3, с. 75 80.
- Гак В. Г. Русский язык в зеркале французского. Структура диалогической речи /часть 2/. Ясский язык за рубежом.
- М.: Изд-во МГУ, 1971, № 2, с. 63 69.
- Гак В.Г. О семантической организации текста. В кн.: Лигпгаистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГШИЯ им. М. Тореза, 1974, ч. I, с. 61 — 66.
- Гак В.Г. 0 семантической организации повествовательного текста. В кн.: Лингвистика текста. Сборник научных трудов. М.: МИШИН им. М. Тореза, 1976, IS 103, с. 5 — 14.
- Галкина-Федорук Е.Н. О некоторых особенностях языка ранних драматических произведений Горького. Вестник МГУ, серия: общественных наук, 1953, № I, вып. I, с. 105 — 120.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. — 139 с.
- Гельгардт P.P. Рассуждение о диалогах и монологах. /К общей теории высказывания./ В кн.: Сборник докладов и сообщений лингвистического общества. Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1971, II, вып. I, с. 28 — 153.
- Гиндин С.И. Внутренняя организация текста. Элементы теории и семантический анализ: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1972. — 22 с.
- Глаголев Н.В. Языковая экономия и языковая избыточность в синтаксисе разговорной речи: Дисс.. канд. филол. наук. М., 1967. — 324 л.
- Глаголев Н.В. Об основных видах взаимосвязи предложений диалога. Иностранные языки в школе, 1969, № 2, с. 18−26.
- Горшкова И.М. Дискуссионные вопросы организации текста в чехословацкой лингвистике. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 341 — 358.
- Гузеева К.А. Некоторые случаи взаимодействия реплик английской диалогической речи. В кн.: Грамматические исследования. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1975, ч. I, с. 64 — 75.
- Гузеева К.А. Роль замещения в организации диалогически?: единств. В кн.: Теория и методы исследования текста. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1977, вып. I, с. 3 — II.
- Гулнга Е.В. Автосемантия и синсемантия как признаки ¦ смысловой структуры слова. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1967, № 2, с. 62 — 72.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4х т. М.: Гос. изд-во иностр. и национальных словарей, 1956.
- Девкин В.Д. Особенности немецкой разговорной речи.- М.: Международные отношения, 1965. 318 с.
- Девкин В.Д. Предложения-эхо в немецкой диалогической речи. В кн.: Вопросы немецкой филологии. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1975, с. 153 — 163.
- Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь: синтаксис и лексика. М.: Международные отношения, 1979. — 254 с.
- Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской. М.: Высшая школа, 1981, — 160 с.
- Дмитриева В.Т. Некоторые синтаксические особенности немецкой диалогической речи. В кн.: Вопросы синтаксиса и стилистики немецкого языка. Ученые записки. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1963, т. 255, с. 107 — 112.
- Дудецкий А.Я. Некоторые особенности воссоздающего воображения. Вопросы психологии, 1958, № 3, с. 61 — 73.
- Евгенъева А.П. ред. Словарь русского языка: В 4х т.- М.: Ясский язык, 1981.
- Ежов В.Л. К классификации ответных реплик современной английской диалогической речи. Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1968, с. 289 291.
- Ежов В.Л. Типы ответных реплик в современной английской диалогической речи. В кн.: 0 некоторых проблемах теории и методики преподавания германских языков. Ученые записки. Свердловск: Свердловский гос. пед. ин-т, 1969, т.94, с. 60 — 76.
- Желонкина Н.П. Реагирующие реплики немецкой диалогической речи /реакции на сообщение и побуждение/: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1980. — 16 с.
- Занько С.Ф. Основные вопросы лингвистической теории диалога: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Казань, 1971.- 19 с.
- Зельцер В.И. Изолированные части сложноподчиненного предложения в составе реплик диалогического единства вопросно-ответного типа. В кн.: Принципы и методы лексико-грамматичес-ких исследований. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1972, ч.2, с. 73−78.
- Знаменская Т.А. Структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения в диалоге /на материале английского языка/: Дисс.. канд. филол. наук. Л., 1980. — 191 л.
- Иванчикова Е.А. Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения. В кн.: Мысли о современном русском языке. М.: Просвещение, 1969, с. 126 — 139.
- Инфантова Г. Г. Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи. Ростов-на-Дону: Рост. н/Д гос. пед. ин-т, 1973. 135 с.
- Йотов Ц. Некоторые структурно-функциональные характеристики диалога /на материале современного русского языка/: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1977. — 25 с.
- Кожевникова Н.А. Речевые разновидности повествования в русской прозе: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1973. — 27 с.
- Копнин П.В. Природа суждения и формы выражения его в языке. В кн.: Мышление и язык. М.: Госполитиздат, 1957, с. 276 351.
- Котляр Т.Р. 0 сложном синтаксическом целом в разговорной и книжно-монологической речи. В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1968, с. 246 — 249.
- НО. Крылова О. А. Понятие многоярусности актуального членения и некоторые синтаксические категории. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1970, 5, с. 86−91.
- Крючков С.Е. О присоединительных связях в современном русском языке. В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950, с. 397 — 411.
- Крючков С.Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения. М.: Просвещение, 1969.- 189 с.
- ИЗ. Кучер А. В. О структуре английской диалогической речи.- кн.: Вопросы романо-германского и общего языкознания. Минск: Минский гос. пед. ин-т ин. яз., 1973, с. 86 100.
- Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М.: Наука, 1976. — 397 с.
- Леонова Л.А. Реестр «готовых» предложений современного английского бытового диалога. Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1972. — 142 с.
- Леонова Л.А., Шубин Э. П. «Готовые» предложения в современном английском бытовом диалоге. Иностранные языки в школе, 1970, й 5, с. II — 21.
- Леонтьев А.А. Признаки связности и цельности текста.- В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГПЙШ игл. М. Тореза, 1974, ч. I, с. 168 Г72.
- Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 18 — 36.
- Лосева Л.М. Текст как единое целое высшего порядка и его составляющие /сложные синтаксические целые/. Русский язык в школе, 1973, 16 I, с. 61−67.
- Лосева Л.М. 0 синтаксическом и семантическом аспектах исследования целых текстов. Б кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГШШ им. М. Тореза, 1974, ч. I, с. 176 184.
- Мальчевская Л.М. Некоторые языковые средства связи между предложениями: Автореф. дисс•. канд. филол. наук.- М., 1964. 28 с.
- Маркина Л. С. Четырехчленные ДЕ / ДЕ 4 / в современном английском языке: Автореф. дисс.. канд. филол. наук.- Л., 1973. 16- с. — а.
- Маркина Л. С. Конструктивный анализ четырехчленного диалогического единства /на материале современного английского языка/. Лекция. Л.: ЛГШ им. А. И. Герцена, 1973. — 39 с. — б.
- Маслов Б.А. Проблема лингвистического анализа связного текста /надфразовый уровень/. Учебное пособие к спец. курсу.- Таллин: ТГПИ им. Э. Вильде, 1975. 104 с.
- Мильчин А.Э. Методика и техника редактирования текста.- М.: Книга, 1972. 320 с.
- Михайлов Л.М. 0 некоторых типах односоставных ответных предложений в немецкой диалогической речи. В кн.: Вопросы синтаксиса и лексикологии немецкого языка. Ученые записки. М.: МГШ им. В. И. Ленина, 1964, № 226, с. 115 — 126.
- Михлина М.Л. Из наблюдений над синтаксисом диалогической речи: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Л., 1955.-16с.
- Мордвинов А.Б. Формирование темпоральной семантики в тексте рассуждения. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 214 225.
- Мосейко А.Н. Способы выражения умозаключений в языке: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1955. — 15 с.
- Москальская О.И. Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981. — 183 с.
- Москальская О.И. Актуальные проблемы грамматики текста.- Иностранные языки в школе, 1982, № 2, с. 3−8.
- Невижина З.В. Структурно-семантическая организация сверхфразовых единств в современном английском языке: Дисс.. канд. филол. наук. Киев, 1971. — 219 л.
- Невижина З.В. Парцелляция и виды сверхфразовых единств.- В кн.: Исследования по романской и германской филологии. Киев: Вшца школа, 1975, с. 108 НО.
- Нечаева О.А. функционально-смысловые типы речи /описание, повествование, рассуждение/. Улан-Удэ: бурятское книжное изд-во, 1974. — 260 с.
- Ноздрина Л.А. Композиция и грамматические средства связности художественного текста: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1980. — 26 с.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Ясский язык, 1981. — 816 с.
- Парамонова И.П. Переспрос в немецкой разговорной речи.- В кн.: Структура простого предложения в современном немецком языке. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1972, с. 67 87.
- Певзнер Б. Р. Информационно-поисковые системы и информационно-поисковые языки /лекция/. М.: МЦНТИ, 1976. — 49 с.
- Пенькова Г. А. Двучленные и трехчленные сверхфразовые диалогические единства /СДЕ/. В кн.: Принципы и методы лек-сико- грамматических исследований. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1972, ч. 2, с. 69 73. — а.
- Першикова В. А. Немотивированно-полно составные реплики в структуре диалогического единства: Дисс.. канд. филол. наук. Л., 1982. — 211 л.
- Петина С.М. Текстообразущая функция парцелляции. В кн.: Проблемы синхронного и диахронного анализа германских языков. Ставрополь: Ставропольский гос. пед. ин-т, 1978, вып. 3, с. 62 — 72.
- Петрашевская Ж.Е. Парцелляция простого предложения в современном английском языке: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1974. — 25 с.
- Пименов А.В. Диалог как двухвекторная коммуникация.- В кн.: Труды ВИИЯ. Иностранные языки. М., 1969, № 5, с. 244 -255.
- Попов П.С. Суждение и предложение. В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950, с. 5 — 35.
- Поспелов Н.С. Сложное синтаксическое целое и особенности его структуры. В кн.: Доклады и сообщения института русского языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948, с. 43 — 68.
- Почепцов О.Г. Пресуппозиция вопроса. В кн.: Новые тенденции в изучении грамматики романских и германских языков.
- Киев: Вшца школа, 1981, с. 112 120.
- Ратова Т.Е. О восклицательных предложениях: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Калинин, 1973. — 27 с.
- Реферовская Е.А. Сверхфразовое единство. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975, с. 194 — 199.152. русская разговорная речь. Под ред. Е. А. Земской. М.: Наука, 1973. — 485 с.
- Святогор И.П. О некоторых особенностях синтаксиса диалогической речи в современном русском языке /диалогическое единство/. Калуга: Книжное изд-во, I960. — 39 с. — а.
- Святогор И.П. Повторы как средство синтаксической связи реплик в современном русском языке. В кн.: Русский язык. Статьи и исследования. Ученые записки. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, I960, т. 148, вып. 10, с. 257 — 281.
- Святогор И.П. Типы диалогических реплик в современном русском языке: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. — М., 1967. 20 с.
- Севбо И.П. Структура связного текста и автоматизация реферирования. М.: Наука, 1969. — 134 с.
- Седов В.В. Некоторые особенности диалогической речи /на материале драматургии О. Бальзака/. В кн.: Вопросы теории языка. Ученые записки. Л.: ЛГУ им. А. А. Еданова, 1961, вып. 56, В 283, с. 129 — 139.
- Серкова Н.И. Об одном методе исследования сверхфразового единства. В кн.: Мат-лы межвузовской научной конференции по вопросам романо-германского языкознания. Пятигорск: Пятигорский гос. пед. ин-т ин. яз., 1967, с. 139 — 141.
- Серкова Н.И. Сверхфразовое единство как функционально-речевая единица: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1968. — 16 с.
- Серкова Н.И. Сверхфразовое единство как семантико-син-таксическая проблема. В кн.: Ученые записки Хабаровского гос. пед. ин-та. Хабаровск, 1969, т. 19, с. 197 — 213.
- Сильман Т.И. Структура абзаца и принципы его развертывания в художественном тексте. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975, с. 208 — 216.
- Сиротинина О.Б. Русская разговорная речь и ее особенности. М.: Просвещение, 1974. — 144 с.
- Скребнев Ю.М. Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи: Дисс.. доктора филол. наук.- Горький, 1971. 581 л.
- Содержательные аспекты языковых единиц. Киев: Вища школа, 1982. — 138 с.
- Солганик Г. Я. Об одном типе связи между самостоятельными предложениями. Русский язык в школе, 1965, № 3, с.59−63.
- Соловьева А.К. 0 некоторых общих вопросах диалога.- Вопросы языкознания, 1965, № 6, с. 103 ПО.
- Сухомлинова Т.Р. К вопросу о рекуррентности однокомпо-нентных предложений в современном английском языке. В кн.: Лексико-грамматические исследования /романо-германские языки/. Новосибирск: Наука, 1981, с. 31 — 40.
- Теплицкая Н.И. К вопросу об актуальном членении диалогического текста. В кн.: Вопросы романо-германской филологии. Сборник научных трудов. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1974, вып. 82, с. 289 — 299.
- Теплицкая Н.И. О структуре диалогического текста. В кн.: Вопросы романо-германской филологии. Сборник научных трудов. М.: МГПИЙЯ им. М. Тореза, 1975, вып. 84, с. 314 — 330.
- Тодоров Цв. Грамматика повествовательного текста. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1978, вып.8, с. 450 — 463.
- Трофимова Э.А. Приемы выражения взаимосвязи реплик диалогической речи: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1964. — 15 с.
- Трофимова Э.А. Структурные особенности английской разговорной речи. Ростов-на-Дону: Рост. н/Д гос. пед. ин-т, 1972. — 99 с.
- Трофимова Э.А. Синтаксические конструкции английской разговорной речи. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. унта, 1981. — 159 с.
- Тураева З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное. М.: Высшая школа, 1979. — 219 с.
- Философский словарь. М.: Политиздат, 1975. — 496 с.
- Фостер Дк. Автоматический синтаксический анализ. М.: Мир, 1975. — 71 с.
- Фридман Л.Г. К вопросу о сверхфразовых единицах /на материале немецкого языка/. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975, с. 216 221.
- Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста: Автореф. дисс.. доктора филол. наук. Л., 1979. — 52 с.
- Хлебникова Й.Б. Основные структурные особенности английской диалогической речи. В кн.: Ученые записки МОПИ им. Н. К. Крупской. М., 1970, т. 268, вып. 27, с. 157 — 213.
- Хлебникова И.Б. К проблеме средств связи между предложениями в тексте. Иностранные языки в школе, 1983, № I, с. 6 II.
- Хованская З.И. Категория связности и смысловое развертывание коммуникации. В кн.: Сборник научных трудов МГПИШ им. М.Тореза. М., 1980, вып. 158, с. 100 — 118.
- Холодович А. А. 0 типологии речи. В кн.: Историко-филологические исследования. М.: Наука, 1967, с. 202 — 208.
- Чувакин А.А. 0 структурной классификации неполных предложений. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1974, Л 5, С. 104 — 108.
- Шаройко О.И. Структура диалогической речи в произведениях советской прозы. Одесса: Изд-во Одесского гос. ун-та, 1969. — 69 с. — а.
- Шаройко О.И. Структура простого предложения в диалогической речи: Дисс.. канд. филол. наук. Одесса, 1969.- 290 л, б.
- Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М.: Изд-во АН СССР, I960. — 377 с.
- Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике.- М.: Высшая школа, 1970. 204 с.
- Щукин А.А. Текст как объект лингвистического исследования. Вестник МГУ. Востоковедение, 1976, гё 2, с. 69 — 75.
- Щур Г. С., Мальченко А. А. 0 связях и отношениях в языкознании и об одном средстве текстуальной связи в современном английском языке. В кн.: Лингвистика текста. Ученые записки. М.: МГПЙИЯ им. М. Тореза, 1976, вып. 103, с. 273 — 289.
- Юдина Н.Е. К вопросу об эмоциональных конструкциях в составе диалогических единств: Дисс.. канд. филол^ наук.- М., 1973. 162 л.
- Юзовский И.И. Максим Горький и его драматургия. М.: Искусство, 1959. — 779 с.
- Юхт Б. Л. Некоторые вопросы теории неполных предложений. Научные доклады высшей школы, дологические науки, 1962, Л 2, с. 59 — 69.
- Юхт Б.Л. О синтаксической природе реплик диалога.- Вестник Харьковского ун-та, 1969, № 42 /Иностранные языки/, вып. 2, с. 80 83.
- Якубинский Л.П. 0 диалогической речи. В кн.: Русская речь. Петроград: Фонетич. ин-т практич. изучения языков, 1923, с. 96 — 194.
- Ярцева В.Н. Слова-заместители в современном английском языке. В кн.: Ученые записки ЛГУ им. А. А. Дцанова, серия филол. наук. Л., 1949, 1У, с. 190 — 205.
- Ященко Л.А. Синтаксико-стилистическая характеристика немецкой диалогической речи /бытовой, судебной, научной/: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Душанбе, 1967. — 27 с.
- Bellert I. On a Condition of the Coherence of Texts.- Semiotica. The Hague: Mouton, 1970, v. 2, N 4, p. 335 363.
- Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis. Ld.: Longman, 1977- 195 P
- Coulthard M. Studies in Discourse Analysis. Ld.: Routledge and Kegan Paul, 1981. — 198 p.
- Dressier V/. Textgrammatische Invarianz in tlbersetzung-en? In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athe-naum Verlag, 1972, s. 98 — 106.
- E*ries Ch.C. The Structure of English. Ld.: Longmans, Green and со., 1957. — 304 p.
- Francis W.N. The Structure of American English. N.Y.: The Roland Press Company, 1958. — 614 p.
- Gleason H.A.Jr. Linguistics and English Grammar. -N.Y.: Holt, Reinehart and Winston, 1965. 519 p.
- Gutwinsky V/. Cohesion in Literary Texts. A Study of Some Grammatical and Lexical Features of English Discourse.- The Hague Paris: Mouton, 1976. — 183 p.
- Gulich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athe-naum Verlag, 1972. — 241 s.
- Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in iiiglish. Ld.: Longman, 1976. — 374 p.
- Harnisch H., Schmidt W. Kommunikationsplane und Kommu-nikationsverfahren der rhetorischen Kommunikation. In: Rede -Gesprach — Discussion. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1979, s. 36 — 47.
- Helbig G. Zu Problemen der linguistischen Beschreibung des Dialogs im Deutchen. Deutch als Eremdsprache. Leipzig, 1975, H. 2, s. 65 — 80.
- Henne H., Rehbock H. Einfiihrung in die Gesprachsanaly-se. Berlin — New York: Walter de Gruyter, 1982. — 330 s.
- Hinds J. Aspects of Conversational Analysis. Linguistics. The Hague — Paris: Mouton, 1975, N 149, p. 25 — 40.
- Karlsen R. Studies in the Connection of Clauses in Current English. Zero, Ellipsis and Explicit Forms. Bergen: J.W.Eides, 1959. — 322 p.
- Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk. Bern: Francke, 1951. — 437 s.
- Kummer W. Aspects of a Theory of Argumentation. In: Gulich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/Й: Athenaum Verlag, 1972, s. 25 49.214. beech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. M.: Prosveshcheniye, 1983. — 304 p.
- The Oxford English Dictionary: In 12 volumes. Oxford: At the Clarendon Press, 1933.
- Sandig B. Zur Differenzierung gebrauchssprachlicher Textsorten im Deutschen. In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972, s. 113 — 124.
- Schmidt S.J. 1st «Fiktionalitat» eine linguistische oder eine texttheoretische Kategorie? In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972, s. 59 — 71.
- Searle J.R. What is a Speech Act? In: Black M. — ed. Philosophy in America. Ithaca — N.Y.: Cornell Univ. Press, 1965, p. 221 — 239.
- The Shorter Oxford Dictionary: In 2 volumes. Oxford: At the Clarendon Press, 1933.
- Stempel W.D. Gibt es Textsorten? In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972, s. 175 — 179.
- Wienold G. Aufgaben der Textsortenspezifikation und Moglichkeiten der experimentellen tJberprufung. In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972, s. 144 154.
- Taylor C. Bread and Butter. In: New English Dramatists, 10. Ld.: Penguin Books, 1967.- Pinter H. The Caretaker. Ld.: Methuen, 1963.- 78 p.- Williams T. Cat on a Hot Tin Roof. N.Y.: New Directions, 1955. — 197 p.
- Nichols P. Chez nous. Ld.: Faber and Faber, 1974. — 83 p.
- Chips Weaker A. Chips with Everything. — In: Plays ofthe Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 1970.
- Cigar Osborne J. The End of Me Old Cigar and Jill and
- Jack. Ld.: Faber and Faber, 1975. — 79 p.
- City Wesker A. Their Very Own and Golden City. — Ld.:1. Cape, 1966. 92 p.
- Confusions Ayckbourn A. Confusions. — Ld.: French, 1977"18. Cotton21. Day’s22. Death24. Dillon25. Donkey- 68 p.- Williams T. 27 Wagons Full of Cotton. In: Plays of the Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye. 1970.
- Dance Browne F. The Family Dance. — Ld.: French, 1976.- 60 p.
- Desire Williams T. A Streetcar Named Desire. — N.Y.:
- Pinter H. The Dumb Waiter. In: Plays of the Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 1970. Ayckbourn A. Ernie’s Incredible Illucinations.- Ld.: French, 1969. 22 p.
- Wilde 0. Lady Windermere’s Fan. In: Wilde 0. Plays. M.: Foreign Languages Publishing House, 1961.
- Storey D. The Farm. Ld.: Cape, 1973. — 95 p. Bingham J. To Father with Love. — Macclesfield (Cheshire): New Playwrights' Network, 1976.- 86 p.
- Greene G. The Ministry of Fear. Harmondsworth: Penguin Books, 1982. — 221 p. Nichols P. Born in the Gardens. — Ld.- Faber and Faber, 1980. — 74 p.
- Coburn D.L. The Gin Game. N.Y.: French, 1977- 74 p.
- Bagnold E. A Matter of Gravity. Ld.: Heine-mann, 1978. — 103 p.
- Ayckbourn A. Season’s Greetings. Ld.: French, 1982. — 86 p.
- Kops B. The Hamlet of Stepney Green. In: Penguin Plays. PI 50. Bristol: Penguin Books, 1964. Storey D. Home. The Changing Room. Mother’s Day.- Harmondsworth: Penguin Books, 1978. 269 p. — Pinter H. The Homecoming. — Ld.: Methuen, 1965. 83 p.
- Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 1970.
- Restoration Storey D. The Restoration of Arnold Middleton.- Ld.: Cape, 1967. 104 p.
- The Root McCarthy C. The Root. — In: Playwrights for
- Tomorrow. Vol. 12. Minneapolis: The Univ. of Minnesota Press, 1975*
- Roots Wesker A. Roots. — In: Modern English Plays.
- M.: Progress Publishers, 1966. 57• Samual Donleavy J.P. The Saddest Summer of Samual S.- In: Donleavy J.P. The Plays. Harmondsworth: Penguin Books, 1974.
- Shaw Shaw B. Pour Plays. — M.: Foreign Languages
- Publishing House, 1952. 354 p.
- Singular Donleavy J.P. A Singular Man. — In: Donleavy
- Wilde 0. Plays. M.: Foreign Languages Publishing House, 1961.- Plays by and about Women. N.Y.: Vintage Books, 1974. — 425 p.60. Stand61. Summer62. View63″ Wilson64. Woman65. Women
- Year, 17 Plays of the Year. Vol. 17. — bd.: Elek, 1958.- 429 p.
- York Donleavy J.P. Fairy Tales of New York. — In:
- Donleavy J.P. The Plays. Harmondsworth: Penguin Books, 1974.
- Zoo Albee E. The Zoo Story. — In: Plays of the Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 197o.