Парентеза в немецкой устной диалогической речи: На материале мангеймского корпуса
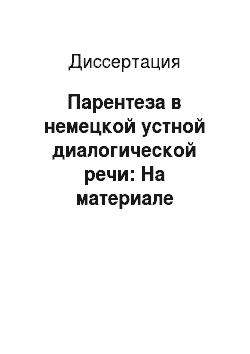
Сложность и многоаспектность данной проблемы обусловили наличие в исследованиях последних лет, посвященных различным видам парентез, следующих основных направлений: анализ характера связи парентетических конструкций с основной частью высказывания и обнаружение лексико-семантических и грамматических средств этой связи- установление двух функциональных типов парентез: субъективно-модальных… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
- 1. 1. Устная речь как феномен культуры и предмет лингвистических дискуссий
- 1. 2. Лингвотекстологические основания дихотомии устной и письменной речи
- 1. 3. Разговорная речь в современных лингвистических концепциях
- Выводы по первой главе
- ГЛАВА II. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕНТЕЗЫ В УСТНОЙ РЕЧИ
- 2. 1. Аспекты изучения монолога и диалога в условиях современной коммуникации
- 2. 2. Типология диалогических дискурсов и их экспериментальное исследование в современной лингвистике
- 2. 3. Этапы конверсационного анализа устной диалогической речи
- Выводы по второй главе
- ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ПАРЕНТЕЗЫ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ В НЕМЕЦКОЙ УСТНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
- 3. 1. Коммуникативная сущность парентез
- 3. 2. Семантическая классификация парентез
- 3. 3. Структурные разновидности парентезы
- 3. 4. Функции парентез
- Выводы по третьей главе
Парентеза в немецкой устной диалогической речи: На материале мангеймского корпуса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Данное диссертационное исследование посвящено рассмотрению особенностей парентезы как лингвистического явления в немецкой устной диалогической речи. Выбор парентезы в качестве предмета исследования продиктован антропоцентрической направленностью современной лингвистической науки на единицы, отражающие человеческий фактор в языке. К числу таких ещё мало изученных единиц относятся парентетические конструкции.
Парентезы, исследуемые в диссертации, принадлежат к области коммуникативного синтаксиса, изучение которого актуально для современной лингвистики в связи с её обращением к языку в действии, к прагматическому аспекту языкового функционирования.
Парентеза как лингвистическое явление находит широкое распространение не только в письменной, но и в устной речи, вместе с тем лингвистический статус парентез в устной речи однозначно не определён и не изучен в должной степени ни в зарубежной, ни в отечественной германистике.
Сложность и многоаспектность данной проблемы обусловили наличие в исследованиях последних лет, посвященных различным видам парентез, следующих основных направлений: анализ характера связи парентетических конструкций с основной частью высказывания и обнаружение лексико-семантических и грамматических средств этой связи [Кобрина 1975, 1980; Рогозина 1979]- установление двух функциональных типов парентез: субъективно-модальных (вводных) и объективно-пояснительных (вставных) [Стунгене 1974; Биренбаум 1976]- рассмотрение парентезы с точки зрения стиледифференцирующей функции [Самолетова 1980]- анализ парентезы на основе принципа позиционности [Дружинина 1970]- рассмотрение явления парентезы в онтологическом аспекте с целью установления природы и причин расчленения высказывания на два плана [Давыдова 1981]- анализ отдельных типов парентетических внесений в более широком лингвистическом контексте [Колыхалова 1983; Шаймиев 1982, 1988]- исследование парентезы в аспекте семиотики неплавной речи [Долгова 1976, 1978; Александрова 1984]- участие парентетических внесений в реализации прагматической установки [Подгайская 1994]- рассмотрение эволюции функционирования парентетических внесений [Стойкович 1989; Новоселецкая 1993; Иеронова 1994]- определение функции парентетических внесений с точки зрения структурных связей в тексте [Мецлер 1987]- исследование парентетических свойств придаточных предложений [Подолюк 1986; Атаджанова 1988; Алагова 1989; Филиппова 1990]- изучение парентезы с точки зрения её структурно-семантической организации [Жирнова 1989; Рачук 1999]- комплексное исследование парентезы с акцентом на её функционально-коммуникативной сущности [Аверкина 1991; Козырева 2003]- исследование категории вводности с позиций теории парадигматического синтаксиса и теории диктемного строя языка, разработанных профессором М. Я. Блохом [Горбачёва 2003].
Ключевой для изучения парентезы явилась работа Н. А. Кобриной «Коммуникативная разноплановость и глубина в предложении и тексте» [Кобрина 1980]. В работе даётся детальный анализ характера связи вставных предикативных единиц (ВПЕ) с включающим предложением (ВП), сущность которой сводится к соположению, или фактическому вхождению одной в другую, двух изолированных предикативных единиц, лишённых в подавляющем большинстве координирующей способности. В основе организации ВП-ВПЕ лежат не задачи интегрирования двух предикативных единиц в одно синтаксическое целое, а смысловая «привязка» одной предикативной единицы к другой с целью сделать попутное замечание, дать оценку какому-то конкретному смысловому звену высказывания или всему высказыванию в целом. Смысловая зависимость ВПЕ от рп проявляется в том, что ВПЕ может иметь неполный состав, содержать неполнознаменательные слова, слова-заместители и репрезентирующие слова, в связи с чем полнота значения ВПЕ выделяется только на фоне включающего предложения. Однако, находясь в рамках включающего предложения, ВПЕ сохраняет автономность и изолированность в коммуникативном смысле, обусловленную сущностью самого построения, что и даёт возможность ВПЕ быть «над текстом» без нарушения цепочки основных высказываний. Лингвистический смысл всех подобных построений есть отражение и материализация в языковых формах случаев особого сложного, нелинейного, ярусного хода мыслительного процесса, представленного в форме двух (или более) линий высказывания, из которых одна есть основная и континуумная (т.е. имеющая развитие до данного предложения и развивающаяся после него) линия высказывания, а другая — вторичная, реализующаяся как встроенное в ткань основной линии (т.е. включающего предложения) высказывание, которое параллельно основному, но не нарушает его целостности.
Недостаточно полной видится нам типология сдвигов или трёх частных значений ВПЕ, предложенная Кобриной, которая не учитывает метакомму-никативного аспекта: 1) задача содержательного сдвига сообщить дополнительную информацию, которая тематически выпадает из основной линии изложения, имеет характер отступления, замечания в сторону- 2) конатив-ный тип коммуникативного сдвига обусловливается конкретными условиями коммуникации, необходимостью визуально дифференцировать высказывания, относящиеся к разным коммуникативным планам- 3) модальный тип коммуникативного сдвига связан с различием в модальном статусе ВП и ВПЕ. Во включающем предложении актуализируется план объективный, констатирующий, а в ВПЕ — план субъективный, с выражением эксплицитной или имплицитной оценки содержания ВП. Безусловной заслугой автора является глубокий анализ исследуемого явления, который вскрывает новые черты и особенности парентез, углубляет наше представление о них и открывает новые пути для их изучения.
Несомненный интерес представляет анализ парентезы с точки зрения принципа позиционности, согласно которому осложнение основного сообщения сторонним, дополнительным высказыванием рассматривается как своеобразное смысловое и интонационно-грамматическое целое, т. е. как сложная конструкция с вводным звеном [Дружинина 1970: 3]. Сложная конструкция есть речевая единица, в которой один синтаксический компонент представляется как основной и ведущий, являющийся неотъемлемым звеном речевой цепи, а другой — добавочный, сторонний, связанный с речевой цепью опосредованно, т. е. через основной состав. При этом основное высказывание является смысловым и грамматическим организующим центром, вводное звено — категорией дополнительного сообщения, а интонация иноплановости — его специфической грамматической формой и характерным признаком сложной конструкции. Благодаря теории контекстуализации формы как методу лингвистического анализа на всех уровнях [Арнольд 1966: 19] выясняется местоположение вводного звена в сложной конструкции, уточняется, как или в каких целях вводное предложение осложняет основной состав, местоположение принимается за формальный признак, способный характеризовать содержание синтаксического компонента [Мухин 1964: 30].
Согласно принципу позиционности, положенному в основу анализа сложной конструкции, парентетические вставки делятся на предвосхищающие и замыкающие. Различаются слабая (после изменяемой части сказуемого) и сильная (после члена на первом синтаксическом месте) позиция предвосхищающего вводного звена. Замыкающие вводные предложения вызываются содержанием какого-либо семантического комплекса основного состава и примыкают к этому комплексу справа с целью дополнить или пояснить его.
Решающими факторами, влияющими на позицию парентетических внесений, оказываются функциональная перспектива высказывания (актуальное членение) и его ритмическая организация. Парентетические внесения конструктивно могут входить как в состав темы, так и в состав ремы, а также могут одновременно содержаться и в тематической, и рематической части. Короткие парентетические внесения наиболее ясно разграничивают тему и рему. И напротив, продолжительные парентезы затемняют границу между темой и ремой.
На необходимость изучения парентезных конструкций в масцгтабе текста — более крупной, чем предложение, языковой единицы — указывает А. А. Мецлер в монографии «Структурные связи в тексте: Парентезные конструкции» [Мецлер 1987]. Именно такой подход позволяет определить реальный лингвистический статус парентезных конструкций, сместить акценты исследования парентезных конструкций на вопросы структуры, семантики и прагматики относительно целостных, коммуникативно-ориентированных смыслонесущих единиц. Мецлер вводит понятие текстового блока как сложной семантико-синтаксической структуры, определенной системы связи смыслов.
Своеобразие текстовых блоков с парентезными конструкциями заключается в том, что в их пределах эти конструкции выполняют функции либо коммуникативного предиката (слова и словосочетания), обеспечивая логическое отношение между составляющими блока, либо комментирующей части блока (предикативные парентезные конструкции).
Основным направлением логического развертывания мысли в пределах текстовых блоков с парентетическими конструкциями различных функционально-семантических групп является выведение нового знания на основе либо общественного знания, либо выработанных ранее ассоциаций. В силу этого композиционно-структурная значимость парентезных конструкций в рамках текстовых блоков любого ранга должна учитываться на уровне, как смысловой структуры, так и грамматической — в семантике парентезных конструкций и в порядке следования частей блока.
Появление и распределение в тексте парентезных конструкций определяется прагматическими факторами коммуникации, которые модифицируют логико-семантические отношения между высказываниями и способствуют их однозначной и адекватной интерпретации.
В зарубежном языкознании парентеза рассматривалась представителями разных грамматических направлений: традиционного [Есперсен 1958; Фриз 1965]- структурного [Якобсон 1985; Greenbaum 1996]- генеративного [Emonds 1974; Huot 1974; Corum 1975; McCawley 1982], в немецком языке [Тарре 1981]- функционально-прагматического [Betten 1976; Bassarak 1985, 1987; Brandt 1994; Pittner 1995].
В отличие от эмпирических исследований, которые занимаются изучением письменных или устных данных, генеративные исследования строятся исключительно на сконструированных примерах, кроме того, они концентрируют своё внимание на отдельной очень узкой подгруппе парентез. Интроспективный подход по сравнению с эмпирическими исследованиями обнаруживает лишь незначительное количество проблемных вопросов, требующих решения. Так как центральное место в генеративных исследованиях занимают трансформации, которые позволяют понять поверхностную структуру через осмысление глубинной структуры, то местоположению парентезы в матричном предложении не придаётся особого значения.
Авторы функционально-прагматических изысканий исследуют коммуникативные функции парентезы. Поскольку парентеза явление синтаксическое, то прежде чем приступить к изучению функциональных аспектов, лингвисты дают его формальное описание, которое необходимо ещё и потому, что рассматриваемые функции реализуются не только в форме парентез. Отсюда — разногласия во мнениях и критика учёными друг друга. Однако данное направление является одним из самых продуктивных, т.к. выводит на новый уровень изучения функцинально-коммуникативной сущности парентезы.
Германские лингвисты кладут в основу определения парентезы разные критерии: интонационные [Winkler 1969; Brandt 1994], синтаксические [Bayer 1973] или совмещают интонационные и синтаксические критерии [Schwyzer 1939; Hoffmann 1998]. Чрезмерное внимание исследователей к прагматическому аспекту приводит к размыванию самого понятия «парентеза» [Betten 1976; Bassarak 1985 и 1987; Brandt 1994; Pittner 1995].
Большое влияние на формулировку дефиниции оказывает выбор исследуемого материала. Выделяя интонационные критерии, некоторые авторы при этом изучают письменные источники, т. е. вместо пауз, интонационных контуров и других просодических свойств устной речи, они исследуют знаки препинания на письме [Schwyzer 1939; Brandt 1994; Pittner 1995]. Замечено, что результаты исследований, полученные учёными при обработке данных письменных источников [Schwyzer 1939; Sommerfeldt 1984; Bassarak 1985 и 1987; Brandt 1994; Pittner 1995], очень отличаются от результатов аналогичных изысканий, проводимых на основе устных текстов [Auer 1997; Uhmann 1997; Stoltenburg 2003], т.к. свойства парентезы тесно взаимосвязаны со стилевыми чертами того или иного вида текста.
Заслуживает особого внимания эмпирическое исследование Б. Штоль-тенбурга, в котором автор учитывает особенности функционирования парен-тез именно в немецкой устной речи и определяет их как нарушения синтаксических структур непосредственно в ходе их возникновения. Речь идёт о «типичной» парентезе лишь в том случае, если синтаксически она не связана с включающим предложением, выделена интонационно (паузой, акцентом, быстрым темпом / меньшим словесным акцентом) и выполняет функцию ме-такомментария [Stoltenburg 2003: 9].
Несмотря на значительное количество работ, посвящённых парентетиче-ским конструкциям, в которых был обобщён целый ряд тонких наблюдений, данная проблема всё ещё остаётся весьма актуальной и требует более глубокого изучения и теоретического осмысления роли парентезы в человеческом общении.
Для современного состояния науки о языке характерно пристальное внимание к феномену устности. В последние годы в лингвистической теории произошло значительное смещение исследовательского интереса в сторону анализа устной речи. На передний план лингвистических исследований выдвинулась проблема изучения спонтанно порождаемой речи, анализируемой во взаимосвязи с конкретными условиями её производства. Речь в таких исследованиях рассматривается как «диалогическая деятельность» (dialogisches Handeln) в конкретной социальной ситуации. Тем самым, по мнению известных немецких лингвистов Г. Шанка и И. Швиталлы, совершился «переход от предложения к тексту и, наконец, к диалогу», в качестве объектов лингвистического исследования [Schank, Schwitalla 1980: 313].
Устная форма речи попала в поле зрения «узких специалистов» — фонетистов, лексикологов, грамматистов, а также исследователей, которые работают на пересечении наук: психолингвистов, социолингвистов, культурологов, этнолингвистов, литературоведов и т. д. Параметры устности также интересуют учёных, специализирующихся в области семиотики, прагмалингви-стики, паралингвистики, лингвистики текста, теории коммуникации, коллок-виалистики, герменевтики, когнитивной лингвистики, фольклористики, лин-гвострановедения.
Такое пристальное внимание к устной форме речи объясняется различными причинами: 1) частичным удовлетворением к 80-м годам XX в. исследовательского интереса к письменности вследствие её активного изучения на предыдущем этапе развития лингвистики- 2) влиянием новых интердисциплинарных методик, которые позволили расширить и объяснить круг явлений, подпадающих под понятие устности, в частности так называемую «соматическую коммуникацию" — 3) трудностями, переживаемыми некоторыми теоретическими концепциями (например, лингвистикой текста), стимулирующими их сторонников искать иные методические ходы и по-новому оценивать устное и письменное проявления языковой деятельности- 4) стремлением отдельных отраслей филологического знания по-новому определить собственный предмет исследования в связи с изменениями парадигмы языкознания в 80-х гг. XX в., с выходом на первый план коммуникативно-функционального направления- 5) переосмыслением роли творческого наследия прошлого, в том числе произведений устной народной поэзии, для лингвистического анализа- 6) новыми техническими возможностями записи всех параметров звуковой речи- 7) изменениями в информационной коммуникативной системе (в том числе — появлением новых каналов общения в среде интернет) — 8) проблемами культуры речи (необходимостью поддержания языкового стандарта в ситуации его размывания под воздействием средств массовой информации) — 9) возросшим интересом к проблеме «естественности» в языке- 10) общей прагматической ориентированностью лингвистических исследований- 11) целеустановкой на создание новой парадигмы в языкознании, основанной, например, на синергетическом подходе к языку с итоговым конструированием более адекватной динамичной языковой модели- 12) возросшей необходимостью верификации выводов лингвистического исследования, доказательств его валидности для обширных пластов всего языка на основе привлечения данных текстовых корпусов- 13) необходимостью опережающего выявления тенденций в развитии конкретного языка, возможного в первую очередь благодаря использованию данных устной речи.
Современная филологическая наука ещё не выработала специального термина для обозначения науки, объектом анализа которой является продукт устной речи в целом. В настоящее время наблюдаются терминологическое и понятийное освоение отдельных аспектов устности. При этом наибольшую активность в этом процессе проявляют западноевропейские лингвисты, которые ввели в научный обиход термин устность (Mundlichkeit). Одним из наиболее перспективных подходов в раскрытии содержания термина «устность» является его рассмотрение в оппозиции к понятию «письменность».
История лингвистики даёт немало свидетельств тому, насколько по-разному оценивался характер взаимоотношений между устной и письменной формами речи в различные эпохи, и иногда с прямо противоположных позиций. Но сейчас вряд ли кто-либо возьмётся оспаривать факт генетической первичности устной формы речи по сравнению с письменной речью. Кроме того, письменное сообщество не может быть абсолютно письменным (противопоставленным бесписьменному сообществу), т.к. широкие функциональные сферы общественной жизни обслуживаются устной речью и не мыслятся без неё. Современное общество высоких технологий переживает «возврат к устности», который поддерживается такими средствами массовой коммуникации, как телефон, радио, телевидение, интернет, общение по мобильной связи в режиме CMC и т. п. Касательно последнего средства коммуникации, отметим, что письменная реализация общения в режиме CMC не означает перехода этого вида коммуникации в письменную форму, а является лишь одним из вариантов реализации устной речи. Это вызывает необходимость более четкого разграничения устной и письменной речи, с одной стороны, и устной и письменной реализации этих форм речи, с другой.
Для становления лингвистического анализа устной диалогической речи решающими явились 3 исследовательских направления:
1) исследование немецкой устной речи (Erforschung der gesprochenen deutschen Sprache), так наз. GS-Forschung, получившее своё широкое распространение в 60-е годы XX в.;
2) «конверсационный анализ» (conversational analysis), возникший в CTITА в 60-х годах XX в. в рамках этнометодологической социологии;
3) теория речевых актов, вышедшая из англосаксонской философии и воспринятая в начале 70-х гг. XX в. лингвистикой. Теперь она рассматривается как составная часть лингвистической прагматики.
К систематическому исследованию устной речи германская лингвистика пришла только в 60-х годах XX в. с появлением новаторских работ К. Леска, Г. Циммерманна и Г. Руппа [Leska 1965; Zimmermann 1965; Rupp 1965]. До этих пор устной речью занимались, не считая фонетики, только в рамках диалектологии. Существовавшее в то время доминирование письменного языка сменяется пониманием равноценности устной речи по отношению к письменному языку. С тех пор устная речь является самостоятельной исследовательской проблемой в рамках лингвистики.
Результатом такого пристального внимания к проблемам устной речи стало основание в 1966 году исследовательского центра «Устная речь» (Gesprochene Sprache) во Фрайбурге под руководством Г. Штегера. Задачей этого центра, который, в свою очередь, является филиалом Мангеймского института немецкого языка, стало исключительно исследование устной речи. Этим центром был составлен не только обширный корпус «текстов устного немецкого литературного языка», но и проведён ряд исследований, касающихся феноменов устной речи. Именно поэтому для анализа парентетиче-ских вставок в немецкой устной диалогической речи нами был выбран ман-геймский корпус.
Если в 60-х гг. XX в. в центре внимания находился грамматический описательный аспект (прежде всего исследование синтаксических признаков устной речи в противопоставлении с письменным языком), то к началу 70-х годов так называемый прагматический поворот в лингвистике привёл исследования устной речи к функциональному изменению в построении теории и анализа. Ситуативные и коммуникативно-функциональные аспекты приобретают гораздо большее значение. Характерные признаки устной речи исследуются, принимая во внимание включённость в диалогический аспект. В качестве первого шага в этом направлении может быть рассмотрена так называемая модель речевой ситуации Фрайбургской Школы (Redekonstella-tionsmodell der Freiburger Schule), которая базируется на гипотезе принципиального соответствия типов речевых ситуаций, ограниченных неязыковыми признаками и видов текста, определяемых языковыми средствами (включая монологические и диалогические тексты) [Steger 1974], [Schwitalla 1979: 162], [Schank, Schoenthal 1983: 26], [Brinker 2001].
Дальнейшее развитие исследования устной речи (GS-Forschung) определялось всё в большей степени восприятием идей американского «конверса-ционного анализа» и англосаксонской теории речевых актов (например, уже с середины 70-х годов во фрайбургском проекте «Диалогические структуры» (Dialogstrukturen) или в исследовании частиц в конце 70-х годов). Тем самым в германской лингвистике произошёл переход от исследования устной речи (GS-Forschung) к анализу разговорной речи (Gesprachsanalyse).
Анализ разговорной речи является важным направлением изучения устной речи в зарубежной германистике, причём понятие «разговора, разговорной речи» (Gesprach) рассматривается некоторыми авторами в качестве «основной единицы речевой коммуникации». Частным случаем такого анализа является изучение устной диалогической речи (Linguistische Gesprachsanalyse, Dialoganalyse, Konversationsanalyse, dialogische mundliche Kommunikation) [Brinker 2001; Schwitalla 1994; Bergmann 1994; Henne, Rehbock 1982].
В лингвистике ФРГ, как и в традиционной лингвистике, вообще, термином «устная речь» (gesprochene Sprache) принято обозначать речевую деятельность посредством говорения в противоположность письму как виду речевой деятельности. Такой взгляд на проблему устности отражает общие закономерности нынешнего этапа развития лингвистической науки, характерными чертами которого является дальнейшая «прагматизация» научных исследований. Во главу угла исследования часто ставится проблема наиболее полного учёта различных экстралингвистических параметров социальной ситуации, в которой происходит общение.
Безусловно, многие вопросы организации устной речи ещё долго будут находиться в центре внимания лингвистов всего мира. Настоятельного решения требуют такие актуальные проблемы современного языкознания, как выяснение характера функционирования в различных условиях коммуникации «механизма спонтанности», установление границ нормативного в спонтанной речи, определение соотношения в ней специфически языковых и универсальных черт и многое др. Развитие средств массовой коммуникации, во многом, способствует решению этих проблем.
Множество интересных исследований устной речи привело ведущих западных лингвистов к идее создания периодических журнальных он-лайн изданий, таких как Gesprachsforschung, Zeitschrift fur Angewandte Linguistik (ZfAL) и Forum: Qualitative Sozialforschung (FQS), которые содержат информацию о новейших тенденциях развития анализа устной речи не только в Германии, но и во всём мире, материалы конференций, посвящённых проблемам изучения устной речи.
Сфера применения корпусной лингвистики обширна, т.к. ценные ресурсы, которыми располагают корпуса, позволяют абсолютно всем языковедам проводить не только дескрептивные, теоретические, но и прикладные лингвистические исследования. Ч. Ф. Мейер под корпусной лингвистикой понимает методологию («corpus linguistics is a methodology» [Meyer 2002: 28]). Для многих отраслей лингвистики корпуса являются ценными источниками: они используются для создания словарей, изучения языковых изменений и отклонений, понимания процесса языкового заимствования и т. д. Исследование особенностей немецкой устной речи также тесно связано с корпусной лингвистикой и опирается на речевой корпус.
Для проведения анализа устной речи нередко используются уже имеющиеся корпуса устной речи, т.к. сбор данных является очень трудоёмким и дорогостоящим процессом. Корпуса представляют собой машинносчиты-ваемое собрание документов естественной речи, которые могут быть приведены в единообразный вид, дополнять друг друга или контрастировать. Многие корпуса общедоступны как тома текстов в машинносчитываемой форме, на аудиокассетах, дисках или в интернете, пользование некоторыми корпусами возможно только с разрешения исследовательских учреждений.
Самые известные разговорные корпуса — английский корпус London-Lund [Svartvik, Quirk 1980] и «Тексты устного немецкого литературного языка I-IV» [Texte gesprochener deutscher Standardsprache I-IV, 1971]. Кроме того, есть корпуса, в которых собраны разговорные дискурсы определённых типов или свойственные отдельным группам говорщих, например, разговор-консультация, молодёжный дискурс или разговор на производстве, многие из них опубликованы в серии книг Phonai-Reihe тюбингенского издательства Niemeyer. Гамбургский компьютерный тезаурус (НСТТ — Der Hamburger computergestiitzte Transkriptionthesaurus) наряду с транскриптами записей устной немецкой речи содержит также транскрипты на иностранных языках (турецком, французском и т. д.), составленные на основе транскрипционной программы SYNCWRITER, разработанной в Гамбурге. Корпуса Баварского Архива речерых сигналов в Мюнхене (BAS — Das Bayerische Archiv fur Sprachsignale) делятся на: корпуса читаемого языка, корпуса спонтанной речи и корпуса акцентной / диалектной речи. Ульмский университет обладает банком текстов, в котором хранятся орфографические транскрипты записей психотерапевтических бесед.
Самым большим фондом устных разговорных корпусов в Германии располагает архив немецкого языка (Archiv flir Gesprochenes Deutsch) мангейм-ского Института немецкого языка, часть его корпусов уже подверглась компьютерной обработке и доступна в интернете в виде печатных и звуковых банков данных. В мангеймском архиве находятся большие корпуса регионально окрашенной разговорной речи и устного литературного языка, звуковые записи и транскрипты вербальной интеракции в различных социальных и ситуативных контекстах. В настоящий момент в архиве находятся 39 корпусов устной речи, около 900 видеозаписей, 16 300 аудиозаписей с общей продолжительностью звучания 4400 часов, а также около 6650 транскриптов.
В силу того, что транскрипция, даже если она ограничена только вербальным аспектом, является, как уже было отмечено выше, трудоёмким и требующим затрат времени методом, целесообразно транскрибировать только то, что необходимо для дальнейшего анализа. Если беседа рассматривается как целое, в котором выделяются структуры (например, общий процесс аргументации), то необходимо транскрибировать весь разговор. Когда такие транскрипты готовы, речь идёт о «речевом корпусе» (Gesprachskorpus).
С другой стороны в рамках исследования устной диалогической речи щ решается целый ряд вопросов, ограниченных узкими локальными событиями разговора. Необходимо лишь выделить отрывки из длинной интеракции, в которых происходит интересующее нас событие. Для такого вида анализа нужен «корпус событий» (Ereigniskorpus) — коротких отрывков, выбранных из достаточно обширного материала, чтобы затем детально их транскрибировать. Для этого предусмотрено создание опорных протоколов (Orientierungsprotokolle).
Опорные протоколы — это метод пошаговой записи, который ещё в нечёткой разговорно-бытовой форме описывает процесс интеракции. Опорные протоколы готовятся посредством точного прослушивания и просмотра записанного на аудиоили видеоплёнку разговора. Они служат для того, чтобы получить первый, но уже достаточно точный обзор всего материала и на его основе выбрать интересные событийные отрывки.
Такие опорные протоколы позволяют выбрать в материале возможные интересные отрывки, слушать и просматривать их ещё раз, а затем решить, транскрибировать их или нет. Выбранные отрывки можно отметить в протоколе в пятой колонке. Если корпус событий составлен таким способом, то можно транскрибировать и анализировать отдельные отрывки.
Объектом исследования является устный диалогический дискурс.
Предметом работы выступают парентетические конструкции в ман-геймском корпусе Института немецкого языка. Выбор данного корпуса обусловлен тем, что изучаемое нами лингвистическое явление представлено в нём наиболее полно и всесторонне. ф Актуальность избранной темы определяется следующими факторами:
1. Анализ устной диалогической речи как наиболее продуктивное направление в современной германистике позволяет по-новому подойти к изучению парентетических конструкций;
2. Устный дискурс является одним из важнейших видов общения, вместе с тем, многие его характеристики изучены недостаточно;
3. Парентетические конструкции являются наиболее показательной характеристикой устного диалогического дискурса, однако особенности и методика их анализа в устном корпусе ещё не стали до сих пор предметом специального лингвистического исследования.
На основе изученного материала и анализа имеющихся дефиниций мы предлагаем следующее определение устной диалогической речи, суть которого — коммуникация в непосредственном режиме сознания в конкретной социальной ситуации. А также в контексте работы предложено следующее определение парентезы, которую мы определяем как локализованный внутри высказывания или более широкого контекста отрезок речи, формально выраженный вводным или вставным словосочетанием, предложением (простым или придаточным) или группой предложений, не имеющих формально-грамматического согласования со всем высказыванием, но связанных с ним по содержанию.
Научная новизна диссертации видится в комплексном исследовании явления парентезы в немецкой устной диалогической речи. В работе предпринята попытка детального исследования парентетических вставок с позиций анализа устной диалогической речи и коммуникативно-функционального подхода. Новым также является сопоставительный анализ употребительности парентетических вставок разных видов в устной диалогической речи, установление взаимосвязи свойств парентезы и стилевых черт устной разговорной речи.
Методы исследования продиктованы его целью и задачами. В основу данной работы положен синтаксический анализ дискурса со сплошной выборкой парентетических внесений, анализируемых с применением статистической обработки материала. В качестве основных приёмов исследования используются количественный анализ, метод непосредственного наблюдения и приёмы определения элементов коммуникативной структуры предложения, разработанные М. Я. Блохом.
Методологическую базу работы составили труды известных германских лингвистов Г. Хенне и Г. Ребокка [Henne, Rehbock 1982], В. Кальмайера [Kallmeyer 1977; 1985; 1988], Г. Глинца [Glinz 1986], Й. Р. Бергманна [Bergmann 1994], К. Бринкера [Brinker 2001], А. Депперманна [Deppermann 2001] и отечественных учёных Л. П. Якубинского, JT.B. Щербы, И. Р. Гальперина, М. М. Бахтина, В. Г. Адмони, В. Д. Девкина и М. Я. Блоха.
Цель исследования — комплексно изучить явления парентезы в устном диалогическом дискурсе. Этой целью определяется круг задач, которые необходимо решить в ходе работы: выявить и описать методы анализа парентезы в устном диалогическом дискурсеописать виды и качества корпусов устной речи, релевантных для нашего исследованияуточнить лингвистический статус парентезы в устной речиустановить функции парентезы в устном дискурсеапробировать на практическом материале методику анализа паренте-тических конструкций в устной диалогической речи.
Научная гипотеза работы: Основная функция парентезы в устной речи — метакомментарий.
Положения, выносимые на защиту. В результате критического обзора работ, посвященных анализу устного диалогического дискурса, определения целей и задач исследования, складывается концепция, раскрывающая тему диссертации. Основные положения этой концепции следующие:
1. Продуктивным методом анализа парентезы в устной диалогической речи является комбинация аудитивного (запись) и визуального (транскрипция) материала, т. е. совместное рассмотрение живого диалога, его мимолётности и письменной фиксации социальной интеракции.
2. Идеальным языковым материалом для комплексного исследования па-рентезы в устной речи являются данные, полученные в условиях неконтролируемого речевого поведения информантов.
3. Использование парентезы совершается по определённым закономерностям, обусловленным коммуникативной интенцией говорящего и спецификой её структурно-семантической организации.
4. В процессе коммуникации различные типы парентез способны выполнять функции актуализации, метакомментария и интертекста.
Теоретическое значение исследования заключается в том, что его результаты являются вкладом в разработку и дальнейшее развитие теории устного дискурса и функционально-прагматического подхода к изучению устной речи, позволяющего исследовать устный дискурс в единстве его планов содержания, выражения и прагматической обусловленности.
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что теоретические положения диссертации, таблицы и модели могут быть использованы в курсе лекций по теоретической грамматике современного немецкого языка, сравнительной типологии, введении в языкознание, а также — на занятиях по практике устной речи в языковом вузе. Практическая ценность диссертации состоит также в том, что полученные выводы о системе методов анализа устной диалогической речи и функционировании паренте-тических внесений в различных коммуникативно-прагматических ситуациях могут стать теоретической базой для разработки и совершенствования коммуникативно направленных методов преподавания иностранных языков.
В качестве материала исследования используются записи пяти спонтанных полилогов об искусстве (ток-шоу «Берлин 19», «Die Woche. Menschen im Gesprach», открытие выставки «Power Play — Engpasse», телепередача «Kunst&Krempel»), записанные в период с 1989 по 2000 год и представленные в транскриптах (4050.021, berlin 19- 4050.018, aktionskiinstler- 6002.01, carlsbader- 6003.01, kunsthaendlerkunst&krempel), опубликованных в интернете на сайте Мангеймского института немецкого языка (www. idsmannheim. de/prag/GAIS/). Общая продолжительность всех полилогов составляет около 83 минут, объём транскриптов 76 страниц. Общее количество примеров, выбранных для анализа, составляет более 1500.
Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации излагались в докладах на международной научно-практической конференции молодых учёных в Астраханском государственном университете (15 апреля 2004 г.) и в МПГУ на международной научной конференции «Слово немецкое и русское: аспекты изучения», посвящённой юбилею профессора В. Д. Девкина (28 октября 2005). Они отражены в четырёх научных публикациях объёмом 0,73 п.л.
Работа также прошла апробацию на кафедре немецкой филологии и современных технологий обучения Астраханского государственного университета 14 мая 2005 года.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии и приложения.
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ.
1. Парентезы генетически связаны с устной речью, с такой её характеристикой как многоплановость, полисубъективность, экспрессивность, что проявляется в избыточности, спонтанности, различного рода нарушениях её линейного характера.
2. В ходе исследования нами было дано собственное определение парентезы, которое учитывает особенности её функционирования в устной речи. Парентезы были определены как локализованный внутри высказывания или более широкого контекста отрезок речи, формально выраженный вводным или вставным словосочетанием, предложением (простым или придаточным) или группой предложений не имеющих формально-грамматического согласования со всем высказыванием, но связанных с ним по содержанию.
3. В немецкой синтаксической традиции, в отличие от русской, вводные и вставные элементы не разграничиваются. Отсутствуют четкие критерии для надёжного различения вводных и вставных предложений. Одним из основных критериев разграничения «вводности» и «вставности» выступает просодия.
4. В корпусе данных, который представляет собой запись естественной речевой интеракции, были выделены парентезы. В дальнейшем было произведено деление парентез на 4 типа, в зависимости от продолжения основного высказывания по окончании парентезы. Анализ данных типов смог частично подтвердить гипотезу о том, что в основе повторения частей основного высказывания после парентезы лежит принцип коррекции. Кроме того, выяснилось, что вставки большой протяжённости, вынуждают говорящего повторить уже сказанное при возвращении к основной теме повествования.
5. Большинство синтаксических нарушений происходит из-за проблем в интеракции, которые могут возникнуть как по вине слушающего, так и говорящего, если, к примеру, ему трудно сформулировать мысль, он заполняет возникшую паузу парентезой. Но и внешние причины могут повлиять на то, что однажды запланированное говорящим высказывание прерывается, для того чтобы отреагировать на него. Таким образом, парентеза всегда стоит там, где возникают подобные трудности. Этим объясняется то, что парентеза имеет лишь незначительные ограничения по месту расположения в структуре высказывания.
6. Парентетические внесения конструктивно могут входить как в состав темы, так и в состав ремы, а также могут одновременно содержаться и в тематической, и рематической части. Рассматривая роль парентезы в актуальном членении предложения, выяснилось, что короткие парентетические внесения наиболее ясно разграничивают тему и рему. И напротив, продолжительные парентезы затемняют границу между темой и ремой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Завершая данное исследование, необходимо ещё раз напомнить ход мыслей, который привёл нас к выводам, выносимым в качестве основных положений на защиту.
1. В основу изучения парентетических внесений положена методика анализа устной диалогической речи. Исследование проводилось на примере устного спонтанного дискурса, т.к. именно здесь использование парентетических внесений наименее изучено.
2. Устная речь является основной формой существования естественных языков и противопоставляется письменной речи. Устная речь — это речь, произносимая, порождаемая в процессе говорения, что предполагает наличие словесной импровизации, которая всегда имеет место в процессе говорения.
Такое определение устной речи имплицирует следующие характерные черты: 1) свободное ad hoc формулирование без предшествующей детальной подготовки- 2) речь происходит в ситуации «лицом к лицу» (face-to-face), поэтому место и время порождения/восприятия речи совпадают- 3) речь имеет место в естественной ситуации, т. е. она не находится в центре внимания исследователя- 4) отсутствуют наблюдатели, не принимающие участия в общении, что могло бы отразиться на действиях говорящих.
Устная диалогическая речь есть коммуникация в непосредственном режиме сознания в конкретной социальной ситуации.
Разговор — основная единица речевой коммуникации.
3. Исследование особенностей немецкой устной речи тесно связано с корпусной лингвистикой, оригинальная методика которой опирается на речевой корпус и поэтому позволяет получить достоверные результаты анализа с учетом характеристик устной речи.
4. Только данные, полученные в условиях неконтролируемого речевого поведения информантов путём регулярного, систематического наблюдения позволяют выявить особенности парентезы в устной диалогической речи и понять её коммуникативную сущность.
5. В результате анализа устного дискурса удалось расставить новые акценты в функциях парентезы. Выяснилось, что в устной речи основной функцией парентезы является функция метакомментария.
6. Появление в устном высказывании парентезы обусловлено коммуникативной интенцией говорящего и спецификой её структурно-семантической организации, а также внешними факторами.
7. Местоположение парентезы в высказывании определяется принадлежностью к определенному семантическому классу парентез, который влияет на выбор говорящим той или иной позиции парентезы в предложении.
8. Анализ лингвистического материала доказывает целесообразность и перспективность применения, наряду с традиционными методами лингвистического анализа, современной методики корпусной лингвистики при интерпретации парентетических внесений. Исследование парентезы в рамках анализа устной диалогической речи открывает новые пути понимания данного лингвистического явления в рамках устного дискурса, а также дает более глубокое представление о механизмах его функционирования.
Настоящее исследование намечает пути дальнейшего изучения проблемы парентезы. Методика и полученные результаты могут быть использованы для широкого спектра дискурсивных единиц, как на материале текстов массовой коммуникации, так и на основе текстов другого жанра.
Список литературы
- Аверкина JI.A. Особенности парентетически осложнённого высказывания в текстах газетно-публицистического стиля современного немецкого языка. Автореф. дис.. канд. филол. наук. -М., 1991. 26с.
- Адмони В.Г. Грамматика и текст//Вопр. языкознания. М.: Наука, 1985. № 1. — С. 63−69.
- Адмони В.Г. Пути развития грамматического строя в немецком языке: учебное пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высшая школа, 1973.- 175с.
- Алагова Т.С. Диалектное единство плавной и прерывистой речи: Автореф. дис.. канд. филол. наук. -М., 1989.
- Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса: на материале английского языка: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1984. — 211с.
- Амирова Т.А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. М.: Наука, 1985. — 285с.
- Амирова Т.А. Общелингвистические основания графемики (теоретические проблемы графемики и гипотезы функциональной взаимосвязи письменного и звукового языка): Дис.. д-ра филол. наук. М., 1981.
- Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика её исследования (на материале имени сущ-го). -JL: Просвещение, 1966.- 191с.
- Арутюнова Н.Д. Диалогическая модальность и явление цитации // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. -М.: Наука, 1992.-С. 52−79.
- Арутюнова Н.Д. Статьи в Лингвистическом энциклопедическом словаре: Дискурс. С. 136- Речевой акт. — С.412- Речь. — С. 414. — М., 1990.
- Атаджанова О.О. Парцелляция текстов жанра массовой коммуникации: Автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.04. МГУ им. Ломоносова. -М., 1988.-24с.
- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов: 2-е изд. стереотип. М.: Изд. Советская энциклопедия, 1969. 605с.
- Балаян А.Р. К проблеме функционально-лингвистического изучения диалога // Изв-ия РАН. Серия лит. и языка. М.: Наука. 1971. — Т. 30. -Вып. 4.-С. 325−331.
- Баранов А.Н. Политическая аргументация и ценностные структуры общественного сознания // Язык и социальное познание. М., 1990. С.166−176.
- Баранов А.Н., Паршин П. Б. Языковые механизмы вариативной интер-притации действительности как средство воздействия на сознание // Роль языка в средствах массовой информации. М., 1986. С. 100−142.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. -421с.
- Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. / АН СССР, ИНИОН.-М.: Наука, 1991.-213с.
- Белянин В.П. Психолингвистика: Учебник / В. П. Белянин. М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2003. — 232с.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 447с.
- Биренбаум Я.Г. Пространство водности и придаточные предложения. -Челябинск, 1976.
- Блакар P.M. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С.88−125.
- Блох М.Я. Проблемы парадигматического синтаксиса: Автореф. дис.. докт. филол. наук. М., 1977.
- Бубнова Г. И., Гарбовский Н. К. Письменная и устная коммуникация: Синтаксис и просодия. М. 1991. — 272с.
- Бухбиндер В.А. О предмете текстуальной лингвистики // Проблемы текстуальной лингвистики. Киев, 1983.
- Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: Учебник для студентов вузов. 2-е изд-е. М.: Высшая школа, 1980. — 438с.
- Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. Общие понятия стилистики. Разговорно-обиходный стиль речи. М.: Рус. яз, 1976. -237с.
- Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. Пер. с франц., нем., англ. и чешек. И. А. Мельчука и В. З. Санникова. Под ред. и с пре-дисл. А. А. Реформатского. -М.: Прогресс, 1964.
- Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике: Избранные труды. М.: Наука, 1975. — 558с.
- Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика: Избранные труды. М.: Акад. наук СССР. Отд-ние лит. и яз., 1963. 253с.
- Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. 490с.
- Винокур Т.Г. Стилевой состав высказывания в отношении к говорящему и слушающему // Русский язык. Функционирование грамматических категорий: Текст и контекст. М., 1984. С. 135−154.
- Гадышева О.В. Структура диалога в жанровых разновидностях драм (на материале драматургии Л. Андреева): Автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 1995.- 18с.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. АН СССР. Ин-т языкознания. М.: Наука, 1981. — 137с.
- Гаспаров Б.М. Устная речь как семиотический объект // Русская разговорная речь. М.: Наука, 1981.
- Гаузенблаз К. О характеристике и классификации речевых произведений // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.VIII. М., 1978.
- Гойхман О.Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация: Учебник / Под ред. проф. О. Я. Гойхмана. М.: Инфра-М, 2003. — 272с.
- Головин Б.Н. Введение в языкознание: Учебное пособие для студентов филол. спец. вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1983. -230с.
- Горбачёва Е.Н. Вводные высказывания в структуре текста. Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 2003. — 18с.
- Гулыга Е.В. Теория сложноподчинённого предложения в современном немецком языке. М.: Высшая школа, 1971. 206с.
- Давыдова B.C. Структурно-семантическая характеристика вводных конструкций каузального типа: (на материале совр. нем. языка): Дис.. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1981.
- Девкин В.Д. Особенности немецкой разговорной речи. М.: Междунар. отношения, 1965. — 319с.
- Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской: Учеб. пособие (для ин-тов и фак-тов иностр. языков). М.: Высш. школа, 1981, — 160с.
- Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь: Синтаксис и лексика. — М.: Междунар. отношения, 1979. 256с.
- Дзуцева Ф.С. Парентетические свойства уступительных конструкций в современном английском языке: Дис.. канд. филол. наук. М., 1987.
- Диалог. Теоретические проблемы и методы исследования. М.: Наука, 1991.-348с.
- Долгова О.В. Синтагматика парентетических внесений как предмет ритмической текстологии. М., 1976.
- Долгова О.В. Семиотика неплавной речи: (на материале английского языка). М.: Высшая школа, 1978. — 264с.
- Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи: Учеб. пособ. Для студентов пед. ин-тов. по спец-ти «Иностр. языки». М., 1980. — 190с.
- Долотин К.И. Проблемы экспериментального исследования эмоциональной речи. // Экспериментальные исследования звучащей речи. М., 1998.
- Дружинина В.В. Вводные предложения и их функционирование в современном немецком языке. Автореф. дис.. канд. филол. наук. JL, 1970.-24с.
- Есперсен О. Философия грамматики, пер. с англ., М.: Изд. иностр. лит., 1958.-404с.
- Ефимова Н.В. Модальные слова в современном языке английском языке: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1954.
- Жирнова И.И. Семантико-синтаксические и коммуникативно-прагматические функции парентезы в современном немецком языке. Автореф. дис.. канд. филол. наук. Пятигорск, 1989. — 19с.
- Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 1987. — 240с.
- Земская Е.А., Ширяев Е. Н. Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная? // Вопр. языкознания. 1980. — № 2. — С. 61−72.
- Зернецкий П.В. Единицы речевой деятельности в диалогическом дискурсе // Языковое общение: Единицы и регулятивы. Межвуз. сб. науч. тр. / КГУ Калинин, 1987. С. 89−95.
- Зиндер J1.P. Лингвистика текста и фонология // Тез. докл. науч.-метод. конф. «Просодия текста». М., 1982. 159с.
- Зиндер Л.Р. Общая фонетика: Учеб. пособие для студ. Филол. фак. Унтов. 2-е изд. перераб. и дополн. М.: Высшая школа, 1979. — 311с.
- Инфантова Г. Г. Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи: Пособие для спецкурса. Ростов н/Д.: М-во просвещения РСФСР. Ростовск. н/Д гос. пед. ин-т, 1973. 133с.
- Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 3-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. — 284с.
- Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональ-ф ный и персональный дискурс. Волгоград, 2000. С. 5−20.
- Карасик В.И. Социальный статус человека в лингвистическом аспекте // «Я», «субъект», «индивид» в парадигмах современного языкознания: Сб. научно-аналитических обзоров. М., 1992. С. 47−85.
- Караулов Ю.Н. Вторичные размышления об эксперименте в языкознании // Теория языка, методы его исследования и преподавания: К 100-летию со дня рождения JI.B. Щербы. Л.: Наука, 1981. 290с.
- Киселёва Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. Л.: Изд-во Ле-нингр. ун-та, 1978. 158с.
- Кобрина Н.А. Предложения с вставной предикативной единицей в современном английском языке: Автореф. дис.. д-ра филол. наук. Л., 1975.- 19с.
- Кобрина Н.А. Коммуникативная разноплановость и глубина в предложении и тексте // Семантико-стилистические исследования текста и предложения. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1980. — С. 75−92.
- Кодухов В.И. Общее языкознание: Учеб. для студентов филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1974. 302с.
- Кожина М.Н. О диалогичности письменной научной речи: Учебное пособие по спецкурсу / Перм. гос. ун-т им. A.M. Горького. Пермь, 1986. -91с.
- Козырева Е.Н. Когнитивные функции парентезы как отражение творческой индивидуальности писателя. Автореф. дис.. канд. филол. наук. -М., 2003. 27с.
- Козырева Е.Н. Когнитивные функции парентезы как отражение творческой индивидуальности писателя. Дис.. канд. филол. наук. Тула, 2003.
- Колокольцева Т.Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. Саратов, 2001. 363с.
- Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. — М.: Наука, 1984.- 173с.
- Колыхалова О.А. Функциональные свойства вводных предикативных единиц в современном английском языке: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1983.
- Костомаров В.Г. О разграничении терминов «устный» и «разговорный», «письменный» и «книжный» // В сб.: Проблемы современной филологии. М.: Наука, 1965. — С. 172−176.
- Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. СПб.: Златоуст, 1994. 319с.
- Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка: Учебное пособие. М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2004. — 240с.
- Кромм О.А. К разграничению понятий «монолог, диалог, полилог» // Wies. Zeitschr. der Fr.- Schiller Universitat Jena. 1960. H. 2.
- Кубрякова E.C., Александрова O.B. Виды пространств текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время. М., 1997.
- Культура русской речи и эффективность общения Е. Н. Ширяев, Л. И. Скворцов, Е. М. Лазуткина и др.- Отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев.-
- Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. М.: Наука, 1996. -439с.
- Куприна С.В. Устная и письменная монологическая речь одного лица. Автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.01. Саратов, 1998. 19с.
- Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения: Учебное пособие для студентов. 2-е изд., перераб. — М.: Флинта: Наука, 1998.- 136с.
- Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978. -543с.
- Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М.: Наука, 1976. 399с.
- Лашкевич О.М. Роль вводных слов и словосочетаний в выражении модальности текста. Автореф. дис.. канд. филол. наук. -М., 1984.
- Лотман Ю.М. Устная речь в историко-культурной перспективе // Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. 1. С. 184−190.
- Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 248 с.
- Макаров М.Л. Коммуникативная структура текста. Тверь, 1990. 52с.
- Маслов Ю.С. Введение в языкознание: Учеб. для филол. спец. вузов. 2-е изд. М.: Высш. шк., 1987. 272с.
- Мецлер А.А. Структурные связи в тексте (Парентезные конструкции). Отв. ред. А.Л. Ленца- Бельц. гос. пед. ин-т. им. Руссо. Кишинёв, 1987. -133с.
- Милосердова Е.В. Некоторые семантико-прагматические аспекты модальности как грамматической категории (На материале современного немецкого языка). М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1988.
- Митева Н.В. Функционально-прагматические и когнитивные особенности использования комментирующих предложений в современном английском языке: Дис.. канд. филол. наук. М., 1999.
- Михайлов J1.M. Немецкий язык: Грамматика устной речи: Учеб. пособие для вузов. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2003.-348, 4. с.
- Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово. М.: Просвещение, 1996. 196с.
- Мороховский А.Н. К проблеме текста и его категорий // Текст и его категориальные признаки. Киев, 1989.
- Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Терминологический словарь-справочник. М.: Едиториал УРСС, 2004. 248с.
- Мухин A.M. Функциональный анализ синтаксических элементов. На материале древнеанглийского языка. M.-JL: Наука, 1964. 291с.
- Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. VIII.
- Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М. 1985.
- Новоселецкая Э.П. Эволюция функционирования вставных конструкций в английских научных текстах XVIII-XX вв.: Учеб. пособие по спецкурсу.-Пермь, 1993.
- Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1994. -228с.
- Оптимизация речевого воздействия / Н. А. Безменова, В. П. Белянин, Н. Н. Богомолова и др.- под ред. Р. Г. Котова. М.: Наука, 1990. 239с.
- Орлов Г. А. Современная английская речь: Учеб. пособие для вузов по спец. «Англ. яз. и лит-ра». М.: Высш. шк., 1991.
- Основы теории речевой деятельности / Под ред. А. А. Леонтьева. — М.: Наука, 1974.-368с.
- Остин Дж. JL Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986. С. 22−140.
- Падучева Е.В. Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэррол-# ла, в кн.: Семиотика и информатика, в. 18, М., 1982.
- Паршина О.Н. профессиональный диалог. Автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 1994. 18с.
- Потебня А.А. Эстетика и поэтика / История эстетики в памятниках и документах. М.: Искусство, 1976. 613с.
- Пб.Почепцов Г. Г. Коммуникативные аспекты семантики. Киев: Вища шк., т 1987.- 129с.
- Пфютце М. Грамматика и лингвистика текста: заметка об участии некоторых грамматических средств в построении текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. Уш. М., 1978.
- Радченко О.А., Закуткина Н. А. Диалектная картина мира как идиоэтни-ческий феномен. // Вопр. языкознания. 2004. № 6. — С. 25−48.
- Рачук Н.В. Функционирование вводных элементов в современном газетном тексте. Автореф. дис.. канд. филол. наук. СПб., 1999. — 18с.
- Рождественский Ю.В. Теория риторики. М.: Изд-во Добросвет, 1997. -Гл.З. Теория диалога. Структура диалога. С. 298−452.
- Русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведова. Т. 1−2, М.: Наука, 1980.
- Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. 2-е изд., — М.: Большая Российская энциклопедия- Дрофа, 1998. — 703с.
- Савченко А.Н. Лингвистика речи. // Вопр. языкознания. 1986. № 3. — С.62.74.
- Сакиева Р.С. Немецкий язык. Эмоциональная разговорная речь: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1991. — 192с.
- Салувеэр М.Э. Семантический и прагматический анализ вводных элементов высказывания типов «очевидно, естественно, к счастью» (obviously, naturally, fortunately). Автореф. дис.. канд. филол. наук. — М., 1989.
- Самолетова Р.С. Структурно-семантические свойства и функционально-стилистический статус парентезы в современном немецком языке: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Минск, 1980.
- Самуйлова Л.В. Устность в динамике: Монография. Тверь: Твер. гос. унт т, 2000.- 152с.
- Саночкина Н.Н. Некоторые аспекты эмоционально-экспрессивного синтаксиса в дискурсе современной немецкой прессы (на материале статей немецких газет). Дис.. канд. филол. наук. -М., 2003.
- Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику. Курс лекций. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. — 180с.
- Светана С.В. О диалогизации монолога //Филолог, науки. 1985. № 4. С. 39−46.
- Семененко Л.П. Аспекты лингвистической теории монолога / Моск. гос. лингв, ун-т. М., 1996.
- Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике.
- Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986. С. 151−169.
- Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и её особенности. М.: Просвещение, 1974. 144с.
- Сиротинина О.Б. Тексты, текстоиды, дискурсы в зоне разговорной речи // Человек Текст — Культура. Екатеринбург, 1994. С. 105−124.
- Скалкин B.JT. Обучение диалогической речи (На материале англ. яз.): Пособие для учителей. Киев. Радянська шк. 1989. 156с.
- Скребнев Ю.М. Исследование русской разговорной речи // Вопр. языкознания. 1987. № I. с. 144−155.
- Слюсарева Н.А. О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию // Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. М., 1990.
- Соловьёва А.К. О некоторых общих вопросах диалога // Вопр. языкознания. 1965. — № 6. — С. 103−110.
- Соссюр Фердинанд де. Труды по языкознанию. Пер. с франц. яз. под ред. А. А. Холодовича. М.: Прогресс, 1977. — 695с.
- Стойкович Г. В. Развитие вводных единиц в английском языке с XVI по XVIII вв.: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1989.
- Стунгене А.Э. Проблема вводного и вставного элемента в потоке речи: Автореф. дис.. канд. филол. наук. -М., 1974.
- Сухих С.А. Прагмалингвистическое измерение коммуникативного процесса. Автореф. дис.. доктора ф. н. Краснодар, 1998. 30с.
- Сухих С.А. Речевые интеракции и стратегии // Языковое общение и его единицы. Калинин, 1986.
- Т.А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация: Сб. работ / Сост. В. В. Петрова. Пер. с англ. яз. под ред. В. И. Герасимова. М.: Прогресс, 1989. -310с.
- Тихонова И.С. Интонационно-семантический анализ вводных единиц в английской разговорной речи: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1965.-30с.
- Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения. / Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 700с.
- Урмсон Дж.О. Парентетические глаголы: Пер. с англ. А. С. Чехова // НЗЛ. Вып. XVI. -М.: Прогресс, 1985.-е. 196−216.
- Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000. — 345с.
- Фёдорова Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения // Вопросы языкознания. 1991. № 6. — С. 46−50.
- Филиппов К. А Лингвистика текста и проблемы анализа устной речи: Учеб. пособие. Л., 1989. 97с.
- Филиппова М.М. Функционально-коммуникативные свойства придаточного предложения в современном английском языке: Дис.. канд. филол. наук. М., 1990.
- Фишер И.С. Устная монологическая речь (на материале публицист, телепередач): Дис.. канд. филол. наук: 10.02.01. Саратов, 1995. 133с.
- Форд С. Грамматика во взаимодействии. М.: Прогресс, 1993. 231с.
- Фриз Ч. «Школа» Блумфилда, пер. с англ., в кн.: НЛ, в. 4, М., 1965.
- Чернявская В.Е. От анализа текста к анализу дискурса: немецкая школа дискурсивного анализа // Филологические науки. 2003. № 3. — С. 68−76.
- Шаймиев В.А. Вставные конструкции в аспекте из текстового изучения: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1982. — 19с.
- Шаймиев В.А. Роль вставных конструкций в реализации текстовых категорий // Текстовые реализации и текстообразующие функции синтаксических единиц: Межвуз. сб. научных трудов / ЛГПИ им. А. И. Герцена. -Л., 1988.-С. 117−126.
- Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. 377с.
- Шимберг С.С. Функциональный диапазон вопросительного высказывания в современном английском диалогическом дискурсе. Автореф. дис.. канд. филол. наук. СПб., 1998.
- Шпранц-Фогаши Т. Аргументация как интерактивный ресурс // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2003. № 4. — С. 129−143.
- Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.-427с.
- Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. — 688 с.
- Якобсон P.O. Избранные работы. Перев. с англ., нем., фр. яз. М.: Прогресс, 1985.-455с.
- Якубинский Л.П. О диалогической речи // Русская речь. I. Петроград, 1923.
- Auer Р. (1997): Formen und Funktionen der Vor-Vorfeldbesetzung im gesprochenen Deutsch. In: Schlobinski, Peter (ed.): Syntax des gesprochenen Deutsch. Opladen: Westdeutscher Verlag, 55−91.
- Austin J. L. (1962): How to do things with words. The William James lectures delivered at Harvard univ. in 1955. Oxford, Clarendon press. VII, 166 p.
- Bassarak A. (1985): Zu den Beziehungen zwischen Parenthesen und ihren Tragersatzen. In: Zeitschrift fur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikation 38, 368−375.
- Bassarak A. (1987): Parenthesen als illokutive Handlungen. In: Motsch, Wolfgang (ed.): Satz, Text, sprachliche Handlung. Berlin: Akademie, 163 178.
- Bayer K. (1973): Verteilung und Funktion der sogenannten Parenthese in Texten gesprochener Sprache. In: Deutsche Sprache 1, 64−115.
- Bergmann J. R. (1994): Ethnomethodologische Konversationsanalyse. In: Fritz, Gerd/Hundsnurscher, Franz (Hrsg.): Handbuch der Dialoganalyse. Tubingen: Niemeyer, S. 3−16.
- Bergmann J. R. (1991): Studies of Work/Ethnomethodologie. In: Flick, U./Kardoff, E.v./ Keupp, H./Rosenstiel, L.v./Wolff, S. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Miinchen, S. 269−272.
- Berthold H. (1984): Theoretische Fragen der Beschreibung gesprochener Sprache. In: Wiss. Zeitschr. Padag. Hochsch. «Clara Zetkin», Leipzig.
- Betten A. (1976): Ellipsen, Anakoluthe und Parenthesen Falle fur Grammatik, Stilistik, Sprechakttheorie oder Konversationsanalyse? In: Deutsche Sprache 4, 207−230.
- Bonczyk A. (1982): Aspekte der Untersuchung miindlicher Texte // Wiss. Zeitschr. Padag. Hochsch. «Karl Liebknecht» Potsdam. H.5.
- Brandt M. (1994): Subordination und Parenthese als Mittel der Informationsstrukturierung in Texten. In: Sprache und Pragmatik 32. Arbeitsberichte Lund: Universitat Lund, 1−37.
- Brinker K. (2001): Linguistische Gesprachsanalyse: eine Einfuhrung / von Klaus Brinker und Sven F.Sager. 3., durchges. und erg. Aufl. — Berlin: Erich Schmidt.
- Burke K. (1986): Language as symbolic action. Berkeley: University of California Press.
- Corum C. (1975): A Pragmatic Analysis of Parenthetic Adjuncts. In: Chicago Linguistic Society, 133−141.
- Coseriu E. Textlinguistik. Eine Einfuhrung. 2. Aufl., durchges. Tubingen, 1981. Crystal D. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge, 1987.
- Deppermann A. (2001): Gesprache analysieren: Eine Einfuhrung in konversationsanalztische Methoden. Opladen: Leske + Budrich.
- Dittmann J. (Hrsg.) (1979): Arbeiten zur Konversationsanalyse. Tubingen.
- Donath J. (1982): Sprachliche Normallage, Sprachvariation und hochsprachliche (literatursprachliche) Norm // Sprachpflege. H.9.
- Donath J. (1985): Wie spreche ich wirkungsvoll? Gedanken zur Einschatzung des eigenen Sprechens // Sprachpflege. H.l.
- Drach E. (1940): Grundgedanken der deutschen Satzlehre. Frankfurt/M.
- Duden. Deutsches Universalworterbuch, 1989.
- Eberle T. (1984): Sinnkonstitution in Alltag und Wissenschaft: Der Beitrag der Phanomenologie an die Methodologie der Sozialwissenschaften. Bern.
- Ehlich K./Rehbein, J. (1976): Halbinterpretative Arbeitstranskription (ШАТ). In: Linguistische Berichte 45, S. 21−42.
- Emonds J. (1974): Parenthetical Clause. In: Rohrer C. & Ruwet N. (eds.): Actes du Colloque Franco-Allemand de Grammaire Transformationnelle. I. Etudes de Syntaxe. Tubingen: Niemeyer (=Linguistische Arbeiten 13), 192 205.
- Ferguson Ch. (1959): Diglossia. In: Word 15, 1959, c. 325−340.
- Fowler R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London-N-York, 1991.
- Garfinkel H. (1967): Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J.
- Glinz H. (1986): Sprache und Schrift kognitive Ablaufe beim Lesen und Schreiben // Zeitschr. f. Germ. H.2.
- Goffman E. (1981): Forms of talk. Oxford.
- Goodwin C. (1981): Conversational organization: Interaction between speakers and hearers. New Jork.
- Greenbaum S. (1996): The Oxford English Grammar. Oxford University Press.
- Heath C. (1986): Body movement and speech in medical interaction. Cambridge.
- Henne H., Rehbock H. (1982): Einfuhrung in die Gesprachsanalyse. 2. Aufl., verb. u. erw. Berlin- New York: de Gruyter.
- Heritage J. (1984): Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge, 238ff.
- Hess-Liittich E.M.B. Soziale Interaktion und literarischer Dialog. Bd. l: Grundlagen der Dialoglinguistik. Berlin (West), 1981.
- Hoffmann L. (1998): Parenthesen. In: Linguistische Berichte 175, 299−328.
- Huot H. (1974): Les Relatives Parenthetique. In: Rohrer C. & Ruwet N. (eds.): Actes du Colloque Franco-Allemand de Grammaire Transforma-tionnelle. I. Etudes de Syntaxe. Tubingen: Niemeyer (=Linguistische Arbeiten 13), 31−62.
- Jager K.-H. (1976): Untersuchungen zur Klassifikation gesprochener deutscher Standardsprache. Munchen.
- Kallmeyer W. Handlungskonstitution im Gesprach. In: Giilich, E./Kotschi, T. (Hg.) Grammatik, Konversation, Interaktion. Tubingen, 1985, 81−123.
- Kallmeyer W. (1996): Gesprachsrhetorik. Rhetorische Verfahren im Gesprachsprozess. Tubingen.
- Kallmeyer W./Schiitze F. (1976): Konversationsanalyse. In: Studium Linguistik 1, 1−28.
- Kloepfer R. Das Dialogische im Alltagssprache und Literatur / Hrsg. P. Schroder, H. Steger // Dialogforschung. Jb. 1980 des Instituts fur deutsche Sprache. Dusseldorf, 1981. S. 314−333.
- Labow W. (1966): The social stratification of English in New York city. Waphington.
- Lakoff R.T. Persuasive discourse and ordinary conversation, with examples of advertising. In Tannen D. (Ed.) Analyzing discourse: text and talk. Georgetown University Press, 1982, 25−42.
- Larson Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Wadsnorth Publishing Company. Belmont, Ca 1995.
- Leska Ch. (1965): Vergleichende Untersuchungenzur Syntax gesprochener und geschriebener deutscher Gegenwartssprache. In: Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (Halle) 87, S. 427−464.
- Lewandowski Th. Linguistisches Worterbuch. 1−3. Bd. 3. Aufl., verb. u. erw. Heidelberg, 1979.
- McCawley J. D. (1982): Parentheticals and Discontinuous Constituent structure. In: Linguistic Inquiry 13, 91−106.
- Meyer C.F. (2002): English corpus linguistics. An Introduction.
- Morley D. D/ Subjective message constructs: a theory of persuasion // Communication Monographs, v. 54, 1997, 183−203.
- Nerius D. (1985): Uber den linguistischen Status der Orthographie // Zeitschr. f. Germ. H.3.
- Pape R. (1984): Einige Uberlegungen zur miindlichen und schriftlichen Kommunikation // Sprachpflege. H. 10.
- Pflug G. (1994): Schriftlichkeit und Mundlichkeit // Mutter sprache. H. 4.
- Pittner K. (1995): Zur Syntax von Parenthesen. In: Linguistische Berichte 156, 85−108.
- Rahnenflihrer I. (1986): Einige Bemerkungen zum Verhaltnis von schriftlicher und mundlicher Kommunikation // Sprachpflege. H.5.
- Rupp H. (1965): Gesprochenes und Geschriebenes Deutsch. In: Wirkendes Wort 15, S. 19−29.
- Sacks H. (1984): Notes on methodology. In: Atkinson, J.M./Heritage, J.C. (eds.): Structures of social action. Cambridge, 21−27.
- Sacks H., Schegloff, E.A., Jefferson, G. (1974): A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation. In: Language 50, 696−735.
- Sacks Harvey (1992): Lectures on conversation. Ed. G.Jefferson. Oxford.
- Sager J.C. A model of major text types / Eds. G. Graustein, A. Neubert // Trends in English text linguistics: Linguistische Studien, Reihe A: Erbeits-berichte. 1979, № 55.
- Schank G. Zur Binnesteuerung natiirlicher Gesprache // Projekt Dialogstruk-turen: Ein Arbeitsbericht / Einleit. von H. Steger. Mtinchen, 1976. S. 52−55- Schwitalla J. Dialogsteuerung-
- Schank G., Schoenthal G. (1983): Gesprochene Sprache. Eine Einfuhrung in Forschungsansatze und Analysemethoden. Tubingen.
- Schank G., Schwitalla J. (1980): Gesprochene Sprache und Gesprachsanalyse. In: Althaus H.P., Henne H., Wiegand H.E. (Hrsg.): Lexikon der germanistischen Linguistik. 2 Aufl. Tubingen, S. 313−322.
- Schegloff E.A. (1968): Sequencing in conversational openings. In: Gumperz J.J., Hymes D. (eds.): Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication. New York, 346−380.
- Schiitz A. (1932/1960): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien.
- Schwitalla J. (1979): Dialogsteuerung in Interviews. Munchen.
- Schwitalla J. (1994): Gesprochene Sprache dialogisch gesehen. In: Fritz, G., Hundsnurscher F. (Hrsg.): Handbuch der Dialoganalyse. Tubingen: Niemeyer.
- Schwyzer E. (1939): Die Parenthese im engern und weitern Sinne. Berlin: Akademie der Wissenschaften (=Abh. d. Wiss. Phil.-hist. Klasse Nr.6).
- Selting, M./Couper-Kuhlen, E. (2000): Argumente fur die Entwicklung einer 'interaktionalen Linguistik', In: Gesprachsforschung Online 2000/1, 76−95.
- Sommerfeldt K.-E. (1984): Zu Verdichtungserscheinungen im Satzbau der deutschen Sprache der Gegenwart (unter besonderer Beriicksichtigung der Parenthesen). In: Zeitschrift flir Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikation 37, 242−248.
- Stachowiak H. (1973): Allgemeine Modelltheorie. Wien, New York.
- Steger H. Einleitung // Projekt Dialogstrukturen: Ein Arbeitsbericht / Einleit. vonH. Steger. Miinchen, 1976.
- Steger H. Resiimee / Hrsg. P. Schroder, H. Steger // Dialogforschung. Jb. 1980 des Instituts fur deutsche Sprache. Diisseldorf, 1981.
- Stoltenburg B. Parenthesen im gesprochenen Deutsch: InLiSt Interaction and Linguistic Structures, No. 34, 2003. S. 1−39.
- Svartvik J., Quirk R. (1980): A corpus of english conversation. Lund.
- T.A. van Dijk. The Study of discourse // T.A. van Dijk. (ed.) Discourse as structure and process. Discourse Studies: A multidisciplinary introduction. V.I. London: New Delhi, 1997.
- Techtmeier B. (1984): Das Gesprach. Funktionen, Normen und Strukturen.
- Texte gesprochener deutscher Standardsprache I-IV. (1971) 4 Bde. Miinchen.
- Uhmann S. (1997): Selbstreparaturen in Alltagsdialogen: Ein Fall fur eine integrative Konversationstheorie. In: Schlobinski, Peter (ed.): Syntax der gesprochenen Deutsch. Opladen: Westdeutscher Verlag, 157−180.
- Weingarten E./Sack F./Schenkein J. (Hrsg.) (1976): Ethnomethodologie: Beitrage zu einer Soziologie des Alltagshandelns. Frankfurt a.M.
- Winkler C. (1969): Der Einschub. Kleine Studie iiber eine Form der Rede. In: Engel, Ulrich- Grebe, Paul &Rupp, Heinz (ed.): Festschrift fur Hugo Moser zum 19. Juni 1969. Diisseldorf: Schwann, 282−295.
- Zimmermann H. (1965): Zu einer Typologie des spontanen Gesprachs. Syntaktische Studien zur baseldeutschen Umgangssprache. Bern.
- Brockhaus Enzyklopadie (in 20 Banden) (1970): 17. Aufl., vollig neubearb. Bd. 9. Wiesbaden.
- Kleine Enzyklopadie Deutsche Sprache (1983): Hrsg. W. Fleischer, W. Hartung, J. Schildt, P.Suchsland. Leipzig, 1983.