Особенности романтической поэтики и женская лирика первой половины XIX века
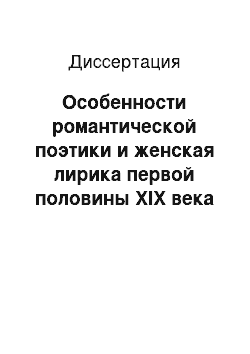
Кроме того, подобное целостное исследование художественного стиля какой-либо конкретной исторической эпохи с неизбежностью требует проведения основательного и подробного сравнительного стилистического анализа литературных произведений этой и хронологических близких к ней эпох в развитии европейской художественной культуры. Поскольку выводы любой общей, базовой теории, закладывающей основы… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Теоретические основы и методология исследования романтического стиля
- 1. 1. Исторические предпосылки возникновения и особенности романтического мировоззрения
- 1. 2. Вопрос о первенстве метафоры в романтическом стиле. Роль стандартной романтической метафоры
- 1. 3. Интонация в романтической литературе. Теория интонации поэтического текста
- 1. 4. Понятие ассоциативного ряда и его роль в формировании художественных средств
- 1. 5. Художественный романтический стиль и понятие художественности
- 1. 6. Связь мировоззрения и стиля при использовании романтиками метафоры и эпитета
- Глава 2. Экспрессивные интонационные художественные средства в романтической поэзии
- 2. 1. Две функции использования метафоры и сравнения. Метафора и сравнение как интонационное средство
- 2. 2. Характерные для романтического стиля экспрессивные интонационные художественные средства
- 2. 3. Звуковая организация поэтического текста и ее роль в формировании экспрессивной интонации
- Глава 3. Характерные особенности общего и индивидуального романтических стилей в их связи с отличительными чертами мировоззрения романтиков
- 3. 1. Общие особенности и причины своеобразия романтического стиля
- 3. 2. Тематика романтической литературы
- 3. 3. Стилистические особенности женской романтической лирики
Особенности романтической поэтики и женская лирика первой половины XIX века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Темой данной работы избраны особенности романтической поэтики и их конкретная реализация в женской лирике первой половины XIX века.
Нельзя, конечно, утверждать, что о романтическом стиле писали мало. Список всех, писавших о романтизме, занял бы несколько десятков страниц мелким, убористым шрифтом. Но, как это не кажется парадоксальным, можно смело утверждать, что о романтическом стиле писали недостаточно.
Большинство писавших о художественном стиле романтиков настойчиво подчеркивали настоятельную необходимость рассматривать его как своеобразное целостное единство. На важность изучения стиля как единства еще в начале XX века указывал Жирмунский. Именно «единство приемов поэтического произведения, -подчеркивал он, — мы обозначаем термином «стиль» [81,50]. «В основе современного понимания романтизма, — пишет современный исследователь в начале века XXI, -лежит именно целостность, снимающая какие-либо попытки его внутренней дифференциации» [224,5].
Но еще один парадокс, с которым неизбежно сталкивается всякий исследователь романтического стиля, и который поэтому требует не менее настоятельного разрешения, заключается в том, что, несмотря на подобную настойчивость в использовании терминов «целостность» и «единство», исчерпывающего исследования романтического стиля именно как единства, общности его художественных средств не существует и поныне.
И очень современным и своевременным выглядит замечание А. Ф. Лосева: «Нужно избегать выдвижения отдельных сторон романтизма без понимания их внутренней связи. У нас под романтизмом понимали или субъективизм, или вообще индивидуализм, или дуализм „двоемирия“, или мечтательность и утопизм, или фантастику, или уход в бесконечные дали, или живописность, или обязательную потусторонность, или вообще всякую жизненную неудовлетворенность, отрешенность, антиобщественность, демонизм, универсальный эстетизм, иррационализм, или реакционность, или революционность, или обязательную патетику, или идеализацию старины, или обязательную народность и т. д. и т. д. Все эти отдельные черты романтизма, взятые в отдельности, можно найти и во многих других направлениях в искусстве, и взятые в отдельности, они нисколько не характерны для романтической специфики» [124,143].
Из этого очень своевременного и важного замечания А. Ф. Лосева следует и один из важнейших для исследователей художественного стиля методологических выводов. — Романтический стиль не определен как целостное и отличающееся от других стилей явление без понимания причин внутреннего единства всех элементов, составляющих этот стиль.
Единство же элементов, какой-либо целостности с необходимостью подразумевает единую причину их существования в рамках объединяющего их целого. И если какой-либо художественный стиль можно рассматривать как подобное внутренне взаимосвязанное целостное единство, то уже сам этот факт явно и неоспоримо свидетельствует о существовании единого критерия отбора и своеобразного использования художественных средств и тем, характерных для данного художественного стиля.
А стиль романтический как подобное единство, несомненно, рассматривать можно. Поскольку, как справедливо указывал В. Вейдле, «понятие романтизма недаром распространяется на все искусства и покрывает все национальные различияверное определение его, рядом с которым все, предлагавшиеся до сих пор, окажутся односторонними и частичными, должно исходить из этой его всеобщности и сосредотачиваться не на отдельных особенностях романтического искусства» [45, 268], а на той целостности, причину формирования которой, в отличие от причин своеобразия художественных средств конкретных искусств, нужно искать за рамками и этих отдельных искусств и национальных различий.
Таким образом, можно заметить, что тот чрезвычайно важный для полноценного исследования романтического стиля единый критерий отбора и использования его художественных элементов, который и обуславливает целостное единство этого стиля, предопределен не особенностями художественного творчества как такового, а теми условиями, в которых, по словам В. Вейдле, романтическое «искусство творилось и которые как раз и знаменуют собой изменение самой основы художественного творчества» [45,269].
И именно необходимость учитывать конкретное исторические условия, в рамках которых происходило формирование романтического стиля, стала одной из основных причин неудачи исследования этого стиля как целостного единства.
Но это утвервдение ни в коем случае не может быть упреком тем исследователям, которые в своих работах уделяли то или иное внимание поэтике романтизма. Говоря словами русской пословицы, это не вина, это — беда их. В рамках существовавшей в России на протяжении многих десятилетий печально известной идеологической доктрины, когда любые исследования исторических условий человеческого существования были фундаментально и категорически ограничены требованиями идеологии, рассмотреть романтический стиль в его полноте и единстве было просто-напросто невозможно. Серьезные и честные исследователи, избежавшие влияния этой доктрины (что, конечно, было тоже очень не просто, и поэтому ни в чем нельзя упрекнуть и тех, кто не избежал влияния её), вынуждены были ограничиваться изучением отдельных элементов стиля, без установления их внутренней связи. Тем самым, делая очень важную и необходимую работу, но неизбежно и, опять же, вынуждено не достигая окончательной цели исследования.
В рамках того вульгарного социально-экономического подхода, при котором, по словам автора, придерживавшегося официальной точки зрения, «все особенности раннего романтизма <. > могут быть правильно объяснены только в том случае, если рассматривать романтическое мироощущение как реакцию на феодальный строй, возникшую в годы революционного подъема, в период еще не раскрывшихся противоречий капиталистических отношений» [78, 66], правильно объяснить все особенности и «раннего», и «позднего», и какого угодно другого романтического стиля было невозможно ни в каком случае. Поскольку вряд ли правомерно считать всю полноту человеческого сознания и мироощущения следствием только лишь существующей в определенной исторический период формы экономического производства и распределения. А человека, корни всех побудительных мотивов которого, пусть и опосредованно, скрываются только лишь в сфере экономической жизни, едва ли можно назвать человеком вполне полноценным.
Гораздо более объективной и близкой к истине представляется точка зрения современного исследователя, согласно которой «принципами членения духовно-исторического процесса человека <.> выступают не социально-экономические системы, а более или менее завершенные периоды, на протяжении которых отмечались устойчивые приемы ориентации человека в мире, становились возможными общепринятые способы мышления, восприятия и мироощущения» [115, 254].
Но и современные исследователи, в силу невозможности создания в предшествующий период истории полноценной теории романтизма, сталкиваются с проблемой отсутствия правомерной и объективной концепции генезиса романтического «способа мышления, восприятия и мироощущения». Ограниченные этой проблемой, пытаясь избежать влияния предшествующей идеологической доктрины, но, все же попадая под влияние инерции теоретического мышления, они вынужденно указывают в качестве причин формирования романтической культуры привычные и хорошо знакомые по теориям недавнего прошлого конкретные исторические события, но без выявления конкретной связи между ними и конкретными особенностями романтического мышления и стиля. Упоминаемые поэтому в качестве подобных причин исторические события общеизвестны и легко предсказуемы.
Своеобразие формирования романтизма, — пишут, как правило, современные исследователи, — было связано с чередой политических катаклизмов: Великой Французской революцией и наполеоновскими войнами, имевшими всеевропейское историко-культурное значение. Эти события стимулировали повсеместно развитие романтического движения" [224, 3]. Но без указания конкретных связей между французской революцией и особенностями романтического стиля, выбор подобных причин формирования романтической культуры выглядит достаточно неопределенным и даже несколько сомнительным. Что, впрочем, тоже, в силу названных выше естественных исторических причин, не может быть упреком авторам современных научных исследований.
Все сказанное выше о недостаточности исследования романтического стиля имеет прямое отношение к тому факту, что наименее изученной из всего литературного наследия русских романтиков оказалось женская лирика первой половины XIX века. Здесь, как в капле воды отражается весь мировой океан, отразились, нашли свое выражение все те проблемы изучения романтического стиля, с которыми неизбежно сталкивается любой исследователь литературного творчества романтиков.
О творчестве Каролины Павловой и Евдокии Ростопчиной писали достаточно много, чуть менее освещенным оказалось творчество Юлии Жадовской. Критики XIX века с большим интересом встретили необычное для того времени литературное явление — стихотворения, написанные женщинами. О Евдокии Ростопчиной отзывались В. Г. Белинский [24], И. Белов [26], С. Брайловский [41], А. В. Дружинин [79], Ф. А. Кони [110], Д. А. Мордовцев [132], Е. С. Некрасова [137], А. В. Никитенко [139], П. А. Плетнев [151], С. П. Сушков [184], Н. Г. Чернышевский [218], С. П. Шевырев [220], и другиео Каролине Павловой писали П. И. Бартенев [10], Д. Григорович [73], А. Ф. Кони [111], И. И. Панаев [146], С. А. Рачинский [159], М. Е. Салтыков-Щедрин [173], К. Храневич [212], а также Никитенко, Шевырев и другие литераторы девятнадцатого века.
Но критикам девятнадцатого столетия было не свойственно всерьез и основательно интересоваться вопросами теоретической поэтики. В результате, даже в конце этого столетия большинство ключевых вопросов художественной организации текста не было вполне и досконально разработано. Отзываясь о художественных достоинствах или недостатках того или иного литературного произведения, авторы критических рецензий использовали, как правило, самые общие, неконкретные и недостаточно определенные понятия. Так что ясно и исчерпывающе охарактеризовать как художественный стиль какого-либо конкретного автора, так и стиль соответствующей эпохи было в рамках подобного подхода, конечно, совершенно невозможно.
И очень характерны в этом смысле те положительные критические отзывы А. В. Никитенко и П. А. Плетнева о творчестве Евдокии Ростопчиной, которые появились в периодической печати сразу после выхода в свет ее первой книги.
Мы думаем, — писал Никитенко, — что таких благородных, гармонических, легких и живых стихов вообще не много в нашей современной литературе" [167,279]. «Она, — добавлял Плетнев, — образовала такой оригинальный, чудно разнообразный, но строго последовательный ряд поэтических произведений, что, всматриваясь в них, познаешь полную историю жизни» [167,279].
Используемые здесь эпитеты, без сомнения, убеждают в том, что авторы этих рецензий положительно относятся к поэтическому творчеству Евдокии Ростопчинойно вызывает большое сомнение, что такие понятия как «благородные», «легкие» и «живые» могут служить вполне убедительной и точной характеристикой, как самих художественных средств, так и их своеобразного использования в рамках индивидуального художественного стиля. Не способствуют, конечно, уяснению конкретных особенностей конкретного стиля и такие общие определения как «оригинальный» и «чудно разнообразный».
Искать же более определенные и точные оценки характерных особенностей какого-либо вполне определенного (в том числе, и для автора рецензии) литературного стиля в сочинениях других критиков девятнадцатого века заведомо бесполезно и бессмысленно.
Так В. Г. Белинский, например, как особенность лирического творчества Ростопчиной отмечал «поэтическую прелесть» ее «высокого» таланта и наличие в ряде случаев «глубокого чувства» [24, 455], С. Брайловский выделял «горькие размышления при взгляде на жизнь» [41, 65]. Б. Н. Чичерин писал о Каролине Павловой, что «она отлично владела стихом <.> и иногда ей удавалось метко и изящно выразить мысль в поэтической форме», а А. Ф. Кони указывал, что в ее «Разговоре в Трианоне» «блестящий стих соединился с глубиной мысли и яркостью образов» [111,122].
Подобная неопределенность и неотчетливость стилистических и эстетических характеристик в работах критиков девятнадцатого столетия может показаться удивительной лишь при первом, невнимательном взгляде на характерные черты русской критики этого времени.
Не эстетические, а общественные вопросы, прежде всего, волновали авторов критических обзоров и рецензий. Именно поэтому, желая сделать комплимент творчеству Евдокии Ростопчиной, А. В. Дружинин находил в ее стихах «сильный протест против многих сторон великосветской жизни» [167, 306], и именно поэтому же, отмечая недостатки ее стиля, Д. Михайлов, совсем напротив, упрекал ее стихотворения в отсутствии «следов борьбы <.> с мировоззрением окружающего общества» [131,111].
Качественная оценка художественного творчества, как правило, производилась не с точки зрения его художественных особенностей, а с точки зрения принадлежности автора к тому или иному идеологическому лагерю.
Так, идеологический противник Ростопчиной, И. И. Панаев увидел в ее лирике всего лишь «превыспреннюю» женщину, которой «на земле и скучно и душно», которая «ищет повсюду неслыханной любви и, не находя удовлетворения на земле, мечется, сама не знает, чего хочет, что говорит и все рвется туда (dahin)» [146, 127]. Основным же недостатком поэзии Павловой с точки зрения М. Е. Салтыкова-Щедрина стал «безнадежно ложный идеализм», приводящий к тому, что «все живое делалось мертвым, а все мертвое живым» [173,315].
В свете всего вышесказанного кажется не удивительным не только то, что критики девятнадцатого века не слишком злоупотребляли вопросами художественной организации разбираемых ими литературных произведений, но и то, что они, как правило, использовали эти вопросы лишь как удобный вспомогательный инструмент в своей жаркой и нелицеприятной, затянувшейся на несколько десятилетий, идеологической полемике.
Н. Г. Чернышевский, например, разбирая поэтическое творчество Евдокии Растопчиной, упрекал ее в том, что «общий колорит» ее стихотворений «сух, эгоистичен, экзальтирован и холоден» [218, 468]. Тем самым, помимо своего желания, более чем очевидно показывая истинную цель своего как бы объективного и непредвзятого исследования.
Ведь сухим и эгоистичным, конечно, можно при вполне определенном к ней отношении, назвать поведение самой графини Ростопчиной, особенно при общении с Николаем Гавриловичем Чернышевским, но никогда и ни при каком к ним отношении нельзя подобными терминами охарактеризовать художественный стиль ее поэтических произведений. Так как такой, например, термин как «эгоистичная метафора» слишком метафоричен даже для определения метафоры.
И не художественным анализом произведений Евдокии Ростопчиной, как бы не уверял в этом своих читателей сам Н. Г. Чернышевский, занимался он в своей популярной в определенное время статье, а всего лишь использовал очень своеобразно истолкованные им элементы художественной формы этих произведений, чтобы лишний раз уязвить чуждого и не вполне понятного ему автора из враждебного и опасного с его точки зрения идеологического лагеря.
Подобная «социологическая», интересующаяся почти исключительно вопросами общественными, а не художественными, литературная критика, конечно, заведомо была не в состоянии полноценно охарактеризовать какой-либо конкретный художественный стиль как взаимообусловленное целостное своеобразное художественное единство. Более или менее полноценно, в силу неизбежной узости своего взгляда на литературу, критики девятнадцатого века могли заниматься лишь вопросами тематики разбираемых ими произведений, достигая, надо признать, в данной области исследований порою немалых успехов. Вопросы же художественной организации текста были предоставлены ими для изучения своим ближайшим потомкам.
И их потомки в начале двадцатого века действительно заинтересовались художественными особенностями литературных произведений. Вновь, и вполне закономерно, возродился интерес и к женской лирике первой половины девятнадцатого века.
О творчестве Евдокии Ростопчиной в это время писали Е. А. Бобров [36], Ю. Веселовский [48], Д. Михайлов [131], С. Эрнст [227], В. Ходасевич [210] и другие литераторы начала XX векао поэзии Каролины Павловой отзывались Ю. И. Айхенвальд [3], Н. Ашукин [8], А. Белецкий [15], В. Я. Брюсов [42], Б. Грифцов [75], Л. Гроссман [77], Н. Кашин [104], В. Переверзев [149], В. Ходасевич [209], С. Эрнст [227] и многие другие литераторы и критики.
Но в первые два десятилетия двадцатого века, занимавшиеся анализом художественных особенностей разбираемых ими литературных произведений авторы критических статей и рецензий, подобно критикам предшествующего девятнадцатого века, были всерьез и основательно ограничены в своей исследовательской, аналитической деятельности недостаточной разработанностью основных, фундаментальных вопросов теоретической поэтики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что крайней неопределенностью и неотчетливостью своих стилистических и эстетических оценок их критические работы очень напоминают работы критиков девятнадцатого столетия.
Вот, например, при помощи, каких общих, явно неконкретных понятий пытался охарактеризовать художественный стиль Евдокии Ростопчиной Д. Михайлов в своей книге, увидевшей свет в 1905 году: «стихотворный язык ее легкий, свободный, подвижный, изящный и поэтичный» [131, 123]. Не более определенны, хотя и более красивы, те «термины», которые использовал С. Эрнст при анализе поэтического творчества Каролины Павловой в статье, напечатанной в «Русском библиофиле» в 1916 году: «Неожиданны и истончены ее образы, в их прелести есть хрупкость сердца исстрадавшегося и сожженного», «в волшебно-выдуманной композиции этих мечтаний какой-то отдых, укромный приют между двух бурь» [227,12].
Интенсивная разработка вопросов художественной организации текста началась в следующее десятилетие двадцатого века. Но, помимо тех, неизбежных в условиях новизны поставленной проблемы и возникшей борьбы против сложившейся в XIX веке социологической школы критики, некоторых преувеличений и односторонних литературоведческих подходов, о которых речь пойдет чуть позже, и сам по себе этот, в целом очень плодотворный и важный, период развития российского литературоведения оказался, к сожалению, в силу не зависящих от литературоведов историко-политических обстоятельств, слишком кратким для того чтобы дать возможность сложиться исчерпывающей и полной концепции литературного художественного стиля.
До того момента, когда в конце двадцатых — начале тридцатых годов XX века под давлением сформировавшейся к этому времени в России жесткой и неумолимой идеологической машины серьезные исследователи художественной организации поэтического текста были вынуждены покаяться «в совершенных ими ошибках» и вступить «на путь исправления», более или менее основательно изученными оказались лишь отдельные, частные вопросы теоретической поэтики и отдельные особенности творчества самых заметных и выдающихся русских прозаиков и поэтов.
И женская лирика первой половины XIX века не стала исключением из этого общего, крайне печального, правила. За весь период действительно плодотворного развития в России основ теории поэтического творчества можно насчитать лишь несколько случайных и кратких упоминаний о тех или иных частных аспектах литературного творчества Каролины Павловой и Евдокии Ростопчиной, приводимых, как правило, лишь в качестве примера, поясняющего отдельные более общие факты в рамках теории художественной организации поэтического текста.
Дальнейшее же развитие этой теории, без которой, очевидно, нельзя вполне полноценно охарактеризовать художественные особенности какого-либо литературного стиля, стало возможным лишь через несколько десятилетий жесткого идеологического безвременья, в конце пятидесятых годов XX столетия, в тот период российской истории, когда вследствие происходивших в стране частичных либеральных преобразований, немного ослабел идеологический надзор за отдельными частными сторонами литературной и художественно-аналитической деятельности.
Много важного и полезного было сделано в литературоведении в эти и следующие за ними годы. Но во все периоды существования советского государства официальная идеологическая доктрина не делала никаких уступок при изучении тех общих особенностей исторического существования человека, без понимания которых, как это было показано выше, невозможно полноценное исследование художественного стиля романтиков как своеобразного целостного единства.
Критики и литературоведы, писавшие в эти годы о литературном творчестве романтиков, вынужденно ограничивались рассмотрением лишь отдельных особенностей их своеобразного литературно-художественного стиля, наибольшее внимание, уделяя тематике разбираемых романтических произведений.
Именно поэтому, вероятно, основной базой литературоведческого исследования, в рамках которого происходило во второй половине XX века изучение женской лирики первой половины девятнадцатого столетия, стало предисловие к сборникам поэтических текстов конкретных авторов, которое, в силу специфических задач, перед ним стоящих, позволяло вполне оправданно ограничивать круг разбираемых вопросов сферой особенностей биографии и мировоззрения отдельного представленного в книге литератора и тематикой его произведений, в которой эти особенности нашли свое выражение.
Очень много важного и необходимого для понимания особенностей творчества рассматриваемых ими поэтов сделали авторы этих предисловий, но вполне оправдано они не ставили себе задачи исчерпывающего изучения какого-либо литературного стиля как своеобразного целостного единства.
Именно таковы, в общем, конечно, очень интересные и соответствующие своему назначению, предисловия к поэтическим сборникам Евдокии Ростопчиной Б. Н. Романова [162] и В. А. Афанасьева [7], предисловия к сборникам Каролины Павловой Е. Н. Лебедева [118] и С. Б. Рассадина [157], и предисловие к сборнику Юлии Жадовской П. Лосева [125].
Немного отступает от сложившихся в светское время канонов предисловия вступительная статья П. П. Громова к собранию стихотворений Каролины Павловой [76]. Но и она не претендует на изучение всей полноты и целостности литературнохудожественного стиля конкретного автора и соответствующей ему эпохи развития культуры. Из всего многообразия элементов целостного литературного стилистического единства автор статьи рассматривает лишь отдельные стилистические особенности, характерные для творчества изучаемого им поэта: композиционные предпочтения, манеру рифмовки, риторичность стиля, проблемы циклизации стихотворений, и, конечно, наибольшее внимание уделяет именно тематике разбираемых произведений и ее связям с идейной борьбой того периода российской истории, когда эти произведения создавались.
Другие, посвященные творчеству К. Павловой и Е. Растопчиной, литературоведческие работы, увидевшие свет во второй половине двадцатого века, заведомо затрагивали лишь отдельные, частные вопросы, связанные с поэтическим творчеством рассматриваемых авторов.
Так основным содержанием работ А. Ф. Абрамовича [1], A. JI. Зорина [91], В. Киселева [107], А. В. Корнеева [112], М. Ш. Файнштейна [199] и В. Фридкина [206] стали вопросы истории литературы и биографии, а О. Г. Золоторева [90] и Н. Г. Чертковер [219] посвятили свои работы проблемам жанрового своеобразия и создания циклов стихотворений Каролины Павловой.
Анализу частных аспектов поэтического творчества изучаемых авторов посвящены и написанные в 90-е годы двадцатого века диссертации Н. А. Табаковой о поэзии К. Павловой [185] и В. С. Расторгуевой о лирике Е. Ростопчиной [158]. На существенно большую полноту исследования художественных особенностей индивидуального литературного стиля Е. П. Ростопчиной претендует лишь опубликованная в 1994 году диссертация Л. Н. Щеблыкиной [225].
Но и в этой работе, несмотря на несомненный интерес замечаний автора относительно отдельных художественных средств, используемых Е. П. Ростопчиной в своем поэтическом творчестве, сам художественный стиль изучаемого поэта, в условиях отсутствия общей концепции романтического стиля, не был и не мог быть рассмотрен как целостное единство составляющих его художественных элементов. Кроме того, (и как наглядный пример еще одной проблемы изучения поэтического стиля романтиков — очень кстати) данная исследовательская работа, к сожалению, содержит ряд возникших не по вине автора, но существенных и показательных недостатков в характеристике отдельных художественных средств разбираемого в ней индивидуального литературного стиля, которые как можно заметить (и о чем речь пойдет немного позже), связаны, прежде всего, с недостаточной разработанностью соответствующих вопросов теоретической поэтики.
Так, например, автор упомянутой диссертации предлагает использовать в качестве одной из характеристик своеобразных особенностей поэтического стиля Евдокии Ростопчиной понятие «узорчатой интонационной линии», которое, конечно, очень красиво как образ, но не очень понятно как понятие. Поскольку достаточно хотя бы просто попытаться представить себе такое событие, как высказывание «с узорчатой интонацией», чтобы стало совершенно очевидным явное несоответствие этого красочного термина самому явлению интонации и в сфере разговорного общения, и в области литературного творчества.
Но это замечание не может быть упреком автору в целом очень интересной и вполне состоятельной диссертации. Так как не по вине отдельных исследователей поэтического творчества романтиков, а в силу указанных выше естественных исторических обстоятельств недостаточно изученными оказались и женская лирика первой половины девятнадцатого века и литературно-художественный стиль эпохи романтизма.
Но именно женская лирика этого периода российской истории может служить самым ярким и наглядным примером всех характерных особенностей литературного стиля русских романтиков первой половины XIX столетия.
Это связано с тобой основополагающей качественной особенностью романтического стиля различных форм культуры в Европе и России этого времени, на которую указывали почти все исследователи европейского и российского романтического искусства. «Самое большое открытие романтизма, — неизменно писали они, — открытие высокого субъективного мира человеческих чувств» [100, 3]. И они, конечно, были правы.
Как будет показано в дальнейшем, эмоции и чувства, действительно, играют решающую роль в процессе формирования художественного стиля эпохи романтизма. Ибо романтик, по словам В. А. Жуковского, смотрит на мир «сквозь призму сердца» [178,333].
По свидетельству же современной практической психологии именно «женщины более экстремально оценивают как подъем эмоционального возбуждения, так и его спад» [95, 142]. То есть и жизнь, и творчество женщин в наибольшей степени зависят от проявляемых ими при оценке окружающего мира и человеческого бытия сильных и решительных эмоций и чувств. Что находит подтверждение не только в выводах современной экспериментальной психологии, но и в ежедневном практическом опыте каждого человека.
И романтическое искусство, формирующееся под влиянием чувственного восприятия окружающего мира, неизбежно должно было найти наиболее яркое и определенное воплощение именно в женском поэтическом творчестве первой половины девятнадцатого века.
Но отмеченная особенность женского поэтического творчества имеет и еще одно, можно сказать — оборотное, но неизбежное следствие своего проявления в рамках конкретного литературного стиля.
Ведь постольку, поскольку женская лирика первой половины девятнадцатого века наиболее полно и отчетливо воплощает именно общие, присущие в той или иной мере всем авторам данного художественного направления, отличительные особенности литературного стиля эпохи романтизма, то, очевидно, что изучение частного, конкретного стиля каждого отдельно взятого автора, эту лирику создававшего, особенно настоятельно требует предварительного тщательного исследования общего романтического стиля соответствующей эпохи. Так как только в сравнении с общими характерными чертами художественного стиля данного исторического периода можно вполне убедительно выделить своеобразные отличительные элементы конкретного индивидуального литературного стиля, а также индивидуальную манеру использования общих для поэтов романтиков поэтических художественных средств.
У лирики есть свой парадокс, — писала по этому поводу JI. Я. Гинзбург. -Самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, устремлена к общему", тому, что «вырабатывают большие движения культуры» [69, 10]. И именно поэтому, как добавлял Ю. М. Лотман, «овладение представлением о художественной норме эпохи раскрывает для нас индивидуальное в позиции писателя» [126,122].
И именно поэтому же отсутствие полноценной разработанной концепции общего литературно-художественного стиля романтиков, неизбежное, как было показано выше, в условиях существовавшего в стране в годы советской власти жесткого идеологического надзора, стало одной из важнейших причин недостаточной изученности женской лирики первой половины девятнадцатого века.
Но жесткий диктат идеологии, от которого существенно зависели все сферы гуманитарного знания в этот сложный и противоречивый период российской истории, создавал и еще одну неизбежную и труднопреодолимую проблему, неизменно возникавшую перед любым серьезным и честным исследователем художественного стиля русских романтиков, пытавшимся рассматривать его как целостное единство составляющих этот стиль художественных элементов. Этой неизбежной и почти непреодолимой в данных условиях проблемой был чрезвычайно важный и первостепенный при подобном рассмотрении литературного стиля вопрос о соотношении и взаимной связи художественной формы и тематики изучаемых поэтических произведений.
Этот и сам по себе достаточно сложный вопрос теоретической поэтики совершенно неотвратимо становился подобной почти не разрешимой проблемой в рамках существовавшего в России в рассматриваемый исторический период одностороннего идеологического подхода ко всем областям и формам человеческой деятельности, при котором основной задачей художественной литературы, как и других видов искусства, должна была стать, конечно, задача именно идеологическая. Художественные средства при этом должны были с необходимостью рассматриваться как средства выражения «идейно-тематического содержания» изучаемых литературных произведений. И в результате, тематика господствовала над формой, художественные средства играли вспомогательную роль по отношению к ней, и именно роль средств по отношению к цели.
Но средства и цель, для достижения которой они используются, по определению, не могут иметь общей причины своего существования в рамках более широкой составленной ими цельности. Поскольку по отношению, например, к художественному стилю подобная единая причина существования в рамках более широкой целостной общности с необходимостью подразумевает, в частности, именно единую цель, с которой выбираются и используются художественные средства и тематика конкретных литературных произведений.
И поэтому в период господства той идеологической теории, которая требовала рассматривать художественные средства как средства выражения «идейнотематического содержания», т. е. ставила их в положение подчинения и зависимости от тематики, представляющей цель их выбора и использования, рассмотрение какого-либо художественного стиля как целостного единства составляющих его художественных элементов, обусловленного, в том числе, единством цели их использования, было заведомо невозможно. Необходимого для этого единства между всей совокупностью элементов формы и тематикой разбираемых литературных произведений найти, конечно, ни в коем случае не удавалось.
Единственным полноправным представителем стиля становилась тематика. И именно ей уделяли преимущественное внимание при изучении стилистических особенностей анализируемых произведений литературы.
Попытку преодоления этой важной проблемы изучения художественного стиля сделали в двадцатые годы двадцатого века представители так называемой «формальной школы» литературоведения. Но в условиях борьбы с традицией «социологической» критики девятнадцатого века, для которой, как было показано выше, художественные средства были тоже преимущественно лишь средствами выражения высказанных автором в своем литературном сочинении общественных, прежде всего волнующих самих критиков «идей», теоретики «формальной школы» обратились к другой крайности в рассмотрении стилистического единства изучаемых ими художественных произведений, пытаясь понимать тематику как один из составных элементов общей художественной формы литературного произведения.
Тем самым они невольно стали рассматривать тематику именно как одно из средств создания этой общей, целокупной формы произведений литературы, разрушив, таким образом, как было только что показано, самое существенное условие стилистического единства тематики и трактуемой ими целокупной, т. е. составляющей произведение в целом, художественной формы и сделав невозможным изучение какого-либо литературного стиля как закономерно обусловленного, органичного единства всей совокупности составляющих его художественных элементов.
Тему, — как справедливо указывал М. М. Бахтин, — нельзя ставить рядом и рассматривать в одной плоскости с фонемой, с поэтическим синтаксисом и пр., как это делают формалисты. Так можно рассматривать лишь значения слов и предложений, т. е. семантику как одну из сторон словесного материала, участвующую в построении темы, но так нельзя рассматривать самую тему, понятую как тему целого высказывания" [130, 148]. То есть тему вообще нельзя считать составной частью формы. Поскольку она не воплощена в каких-либо отдельно взятых элементах художественной формы литературного произведения, а создается всей совокупностью художественных элементов этой целостно понимаемой формы.
И именно это дает надежду на изучение литературного стиля эпохи романтизма как целостного и своеобразного, закономерно обусловленного единства.
Понимание же такого единства, как можно заметить из только что сказанного, возможно лишь при рассмотрении и тематики и художественных средств поэтических произведений в рамках общего для них, более высокого по уровню художественного задания, исключающего использование их при объединении в составе более высокой, обусловленной заданием, цельности в качестве средств достижения и формирования друг друга.
А поскольку речь в данном случае идет об изучении художественного (и именно художественного) стиля определенной исторической эпохи, то таким общим для тематики и художественных средств заданием, допускающим возможность существования единого критерия отбора и использования их в рамках конкретного литературного стиля, может быть лишь задание эстетическое. И любой литературный стиль, для понимания его как своеобразной закономерно обусловленной художественной цельности, необходимо рассматривать с точки зрения именно эстетического единства.
В поэтической речи, — писал В. М. Жирмунский, — содержание, как тема, подчинено общему художественному заданию, служит <.> наравне с другими <приемами> общей задаче — созданию художественного впечатления" [84,434].
Таким образом, чтобы понять какой-либо стиль как целостное взаимосвязанное единство, необходимо изучать составляющие его элементы с точки зрения их эстетического значения.
Именно поэтому, как добавлял Жирмунский, «объяснить художественное значение поэтических приемов, их <.> характерную эстетическую функцию составляет задачу теоретической поэтики» [81, 40] и, как можно продолжить, задачу любого стилистического исследования произведений художественной литературы.
И о том, что «поэтика есть наука, изучающая поэзию как искусство» [81, 25], а не как, например, средство идейного воздействия, в начале двадцатого века писали многие. Современные исследователи тоже возвращаются к изучению поэзии с точки зрения ее эстетических задач. «Природа <художественного> задания, — пишет Н. Д. Тамарченко, — связана с сущностью эстетического переживания» [186, 13] и «теоретическая поэтика должна основываться на философской эстетике» [186,19].
Но при подобном исследовании литературного стиля в свете эстетических задач составляющих его художественных элементов крайне неудобным и приводящим к недоразумениям становится использующийся по отношению к ним, доставшийся современным литературоведам в наследство от исследователей прошлого, термин «выразительные средства». Поскольку при таком подходе к изучению литературных произведений особенно явным и очевидным делается тот факт, что выражение чувств или идей не может быть окончательной целью поэзии как одного из видов искусства.
Действие искусства гораздо сложнее и многообразнее, — писал Л. С. Выготский,.
— и с каким бы определением мы не подошли к искусству, мы всегда увидим, что оно заключает в себе нечто, что отличается от простой передачи чувства" [61, 392]. «Мы способны заражаться скорбью или радостью ближнего, — добавлял X. Ортега-и-Гасет,.
— однако эта способность заражаться — вовсе не духовного порядка, это механический отклик наподобие того, как царапанье ножом по стеклу механически вызывает в нас неприятное судорожное ощущение. <.> Вместо того чтобы наслаждаться художественным произведением, субъект наслаждается самим собой: произведение искусства было только возбудителем, тем алкоголем, который вызвал чувство удовольствия" [142,245].
И действительно, как будет показано в дальнейшем, задача выразительности является лишь вспомогательной задачей при формировании того эстетического впечатления, которое и выступает в качестве основной цели любого художественного произведенияв той, конечно, мере, в которой его можно назвать вполне и истинно художественным в самом очевидном и точном значении этого слова. Факт выражения играет роль хотя и важного, но промежуточного звена в процессе создания эстетической цельности, как на уровне части поэтического произведения, так и на уровне произведения в целом.
Поэтому далее в данной работе будет использоваться более соответствующее задачам и методам предпринятого исследования понятие «художественные средства», с учетом той важной вспомогательной роли, которую играет в процессе их формирования факт выражения.
Но есть и еще одна существенная практическая проблема, которая неизменно возникает на пути любого добросовестного исследователя литературного, поэтического, стиля, желающего изучать его как своеобразное целостное единство, а значит — с точки зрения эстетических задач составляющих этот стиль художественных элементов.
Поэзия, — пишет Ю. М. Лотман, — относится к тем сферам искусства, сущность которых не до конца ясна науке. Приступая к ее изучению, приходиться, заранее примирится с мыслью, что многие, порой наиболее существенные проблемы все еще находятся за пределами возможностей современной науки" [126, 18]. Еще более определенного и решительного высказывается М. Л. Гаспаров. «Может ли анализ поэтического текста сказать нам, хорошие перед нами стихи или плохие, или которые лучше и которые хуже? — задает он себе вопрос и уверенно отвечает: «Нет, не может» [65,19].
И это положение современного литературоведения с очевидностью требует введения в арсенал литературоведческой науки, как новых средств, так и объектов базового научного исследования, расширяющих возможности и кругозор практического и теоретического анализа конкретных произведений российской словесности. И попытка подобных нововведений с необходимостью должна быть сделана и в данной исследовательской работе, посвященной малоизученным вопросам эстетического значения художественных элементов произведений романтической литературы.
Одним из таких новых объектов исследования, представленных в данной работе, станет далее явление ассоциативного ряда. Другим, неизбежным в условиях данного анализа, объектом теоретического рассмотрения будет экспрессивная интонация поэтического текста.
Это тем более необходимо так как, несмотря на то, что «лингвисты неоднократно говорили о необходимости описания <.> законов русской интонации, законы эти до сих пор описаны не в полной мере», — как констатируют сами лингвисты [214, 3]. И с ними в этом вопросе вполне согласны литературоведы: «Синтаксис стиха — грамматическое выражение интонации. К сожалению, эта основа стиха остается в целом еще почти совершенно не изученной» [178,353].
Но именно эмоции и чувства, основным средством выражения которых в устной и письменной речи выступает, конечно, интонация играют важнейшую роль в процессе формирования романтического стиля. И именно интонация, таким образом, становится основой ключевых художественных средств литературного стиля эпохи романтизма и должна быть в первую очередь внимательно и досконально изучена для полноценного и грамотного исследования этого стиля в свете эстетических задач составляющих его художественных элементов.
Подобное изучение романтического стиля с точки зрения эстетического значения представляющих его художественных средств является, конечно, необходимым условием понимания его как своеобразного целостного единства. Ноусловием не достаточным.
Поскольку, как уже было сказано ранее, другим важнейшим необходимым условием существования какого-либо художественного стиля как внутренне взаимосвязанной, закономерно обусловленной эстетической цельности неизбежно должен быть тот единый критерий отбора и своеобразного использования составляющих этот стиль характерных художественных элементов, который предопределен конкретными историческими условиями, в которых «искусство творилось и которые как раз и знаменуют собой изменение самой основы творчества» [45,269].
И то, что эти характерные условия, предопределяющие какое-либо конкретное стилистическое единство, необходимо искать за рамками самих произведений художественного творчества, отмечалось еще исследователями начала двадцатого века.
Если мы отвлечемся от приемов, — писал М. М. Бахтин, — отвлечемся от мотивировок ввода материала, то у нас все же останется впечатление внутреннее единого мира <.>. Это единство создается не внешними приемами, как их понимает Шкловский, а, наоборот, внешние приемы явились как следствие этого единства и необходимости вместить это единство в плоскость произведения" [130,152].
Любой автор, как впрочем, и любой человек, стихов не сочиняющий, выделяет и выбирает из окружающей реальности в первую очередь, конечно, именно то, что он, прежде всего, способен увидеть и оценить в этом окружающем его мире в силу сформировавшейся у него в определенное время характерной и своеобразной системы мировидения, и в такой форме, которая неизбежно соответствует сложившейся у данного автора форме характеризующего его мировосприятия и мироощущения.
Это представляется настолько самоочевидным, что нет ничего удивительного в том, что большинство исследователей, писавших о каком-либо литературно-художественном стиле отдельного автора или целой эпохи в развитии европейской художественной культуры, неизменно связывали характерные особенности, присущие изучаемому ими стилю, с характерными особенностями своеобразного мировоззрения этого автора или этой исторической эпохи.
Эволюция стиля, — указывал В. М. Жирмунский, — как единства художественно выразительных средств или приемов тесно связана с изменением <.> всего мироощущения эпохи" [81, 103]. Почти дословно повторяла это высказывание формулировка О. Вальцельля [44, 15]. «Искусство и чистая наука, — объяснял эту связь X. Ортега-и-Гассет, — (именно потому, что они — наиболее свободные виды деятельности, менее прямолинейно подчиненные социальным условиям каждой эпохи) таковы, что по ним в первую очередь можно судить о переменах в коллективном типе восприятия. Когда меняется главная жизненная установка, человек тут же начинает выражать свое новое настроение и в художественном творчестве» [142, 254]. Таким образом, делал вывод Ф. П. Федоров, и романтическая культура «представляет собой органически-целостную эпоху, объединенную единым типом мышления и видения мира, единой системой ценностей и единым языком» [201, 19].
И понять какой-либо художественный стиль конкретной исторической эпохи как органичное целостное единство составляющих его художественных элементов невозможно без понимания тех характерных особенностей мировоззрения данного исторического периода, которые и предопределяют существование своеобразного критерия отбора и использования этих формирующих стиль художественных элементов.
Причем, мировоззрение не только формирует конкретный художественный стиль отдельного автора или какой-либо исторической эпохи, оно непосредственно представлено в самом этом стиле, выражено в характерной для него системе отбора и использования составляющих его художественных средств. Оно предстаёт и как часть эстетической цельности любого художественного стиля.
Поэтому стилистическое исследование русской романтической литературы первой половины девятнадцатого века, как и всякое другое вполне достоверное стилистическое исследование, настоятельно требует того предварительного полноценного изучения общественного мировоззрения соответствующей исторической эпохи, которое, конечно, не могло быть проведено в условиях существовавшего в России на протяжении значительного периода времени жесткого идеологического надзора за всеми сферами гуманитарного знания.
Но подобное полноценное исследование общественного мировоззрение эпохи романтизма с необходимостью предусматривает, во-первых, обращение к предшествующему периоду развития европейской художественной и интеллектуальной культуры и культуры России, в частности, с целью выяснения причин формирования тех характерных особенностей рассматриваемого мировоззрения, которые играют роль основ этой системы мироощущения и мировидения, и, во-вторых, использование данных других, смежных с литературоведением, гуманитарных наук, таких, например, как история, психология, социология, эстетика.
Кроме того, подобное целостное исследование художественного стиля какой-либо конкретной исторической эпохи с неизбежностью требует проведения основательного и подробного сравнительного стилистического анализа литературных произведений этой и хронологических близких к ней эпох в развитии европейской художественной культуры. Поскольку выводы любой общей, базовой теории, закладывающей основы понимания своеобразных особенностей какого-нибудь частного литературного стиля отдельного исторического периода, должны с необходимостью быть подтверждены и конкретизированы в ходе именно конкретного практического исследования произведений художественной литературы рассматриваемого периода истории. Но сам по себе отдельно взятый стилистический факт не может, конечно, свидетельствовать о своем собственном своеобразии. Ведь то своеобразие элементов стиля, которое претворяет их в отличительные особенности этого литературно-художественного явления, может быть выявлено лишь путем сравнения их со сходными элементами другого, и по времени существования и по отличительным особенностям, литературного стиля какой-либо тоже конкретной эпохи развития художественной культуры Европы и России. Поэтому никакое полноценное стилистическое исследование произведений художественной литературы не может ограничивать своего анализа сферой изучения литературных текстов только лишь одного отдельно взятого автора или стилистического направления в истории развития русской поэтической традиции.
Итак, поскольку основная цель исследования, представленного в данной работе, — это изучение характерных особенностей романтического стиля русской поэзии первой половины девятнадцатого века и их конкретной реализации в женской лирике этого периода истории России, то все вышесказанное с необходимостью требует поставить и разрешить следующие ключевые задачи, разрабатываемые в данном стилистическом исследовании:
1. Опираясь, в том числе, на данные смежных с литературоведением гуманитарных наук, изучить характерные особенности романтического мировоззрения первой половины девятнадцатого столетия, позволяющие выявить основной критерий отбора и своеобразного использования художественных средств, свойственный литературному стилю эпохи романтизма. Что, в свою очередь, предусматривает предварительное исследование мировоззрения предшествующей эпохи Просвещения, позволяющее найти причины и тем самым подтвердить особенные черты мировоззрения романтиков.
2. Учитывая найденный в ходе изучения особенностей мировоззрения основной критерий отбора и использования характерных для романтизма художественных средств, а также, применяя для подтверждения и конкретизации сделанных теоретических выводов метод сравнительного стилистического анализа, выявить непосредственную связь между особенностями рассматриваемого мировоззрения и конкретными художественными элементами изучаемого романтического стиля.
3. Установить и охарактеризовать эстетическое значение свойственных романтическому стилю художественных средств. Для чего провести дополнительное исследование некоторых важных для данной работы вопросов теоретической поэтики.
4. Изучить условия конкретной реализации общих особенностей стиля данной исторической эпохи в рамках частного стиля отдельного автора, использовавшего характерные стилистические приемы и методы этого времени. Что позволит установить некоторые причины формирования индивидуального авторского стиля.
Указанные задачи дополнительно выявляют и актуальность исследования, проводимого в данной работе, которая обусловлена как недостаточной изученностью заявленной темы, так и неразработанностью ряда теоретических вопросов, необходимых для раскрытия этой темы.
Научная новизна представленной работы связана со стремлением исторически обосновать и наиболее полно систематизировать характерные особенности романтического стиля первой половины XIX века, с использованием метода сравнительного стилистического анализа и изучением конкретных элементов романтического стиля в свете эстетических задач художественного творчества, а также с дополнительной разработкой некоторых необходимых для достижения цели данного исследования вопросов теоретической поэтики.
Поэтому методика исследования опирается на принципы сравнительного исторического и текстологического анализа. Используются данные и выводы целого ряда гуманитарных наук: истории, психологии, социологии, лингвистики и др.
Теоретическая значимость работы заключается в разработке концепции романтического стиля как целостного единства составляющих его художественных средств, выявлении особенностей конкретной интерпретации этого стиля в русской женской лирике первой половины XIX века, теоретической проработке вопросов, связанных с проблемами ассоциативного ряда поэтического высказывания, интонации литературного текста и звуковой организации поэтического произведения.
Практическая ценность работы определяется возможностью использования результатов данного исследования при дальнейшей разработке вопросов типологии стилей, эстетической значимости отдельных художественных средств и конкретных литературных произведений, роли интонации в художественном тексте и ряда других вопросов теоретической поэтики. Выводы данной работы могут, применятся при разработке вузовских общих и специальных курсов по литературоведению, истории литературы, творчеству В. А. Жуковского, К. Павловой, Е. Ростопчиной, Ю. Жадовской.
Апробация диссертации осуществлялась в ходе обсуждения ее плана и глав на кафедре русской классической литературы и славистики Литературного института им. А. М. Горького, изложения ее основных положений на международных конференциях, состоявшихся в МАТИ — РГТУ и Московском институте экономики, менеджмента и права, а так же в ходе обсуждения содержания диссертации на кафедре культурологи и истории МАТИ — РГТУ.
Основные положения диссертационной работы отражены в следующих публикациях автора представленной диссертации:
1. Проблемы изучения генезиса романтического стиля русской литературы первой половины XIX века // XXXI Гагаринские чтения. Международная молодежная научная конференция. Том 7. — М., 2005. С. 80.
2. К методологии исследования романтического стиля // Вопросы гуманитарных наук. — 2005. — № 4. — С. 119 — 123.
3. Интонационные художественные средства романтической поэзии // Вопросы филологических наук. — 2006. — № 2. — С. 12−18.
4. Мировоззрение романтиков и тематика романтической литературы // Вопросы филологических наук. — 2006. — № 3. — С. 33 — 36.
5. Особенности романтического стиля художественной литературы: Материалы к лекциям. — М.: МАТИ, 2006. — 48 с.
6. «Ключевые» слова в литературе романтиков // Русская речь. — 2007. — № 4. — С.
6−8.
Структура работы: диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и библиографии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Подводя итоги проведенного в данной работе аналитического исследования особенностей романтического стиля русской поэзии первой половины XIX века, а также их конкретной реализации в женской лирике рассматриваемого исторического периода, нужно, прежде всего, отметить ту выявленную и продемонстрированную на множестве конкретных примеров фундаментальную взаимосвязь между характерными чертами художественного стиля русских романтиков этого времени и доминантным основанием романтического мировоззрения девятнадцатого столетия, которая и обуславливает как само целостное единство представленного таким образом стиля, так и возможность его изучения именно как единства составляющих его художественных средств.
Подобный подход к предмету проведенного выше исследования позволил вполне достоверно и доказательно обосновать принадлежность тех или иных стилистических элементов к конкретному художественному литературному стилю, отличив его характерные особенности от характерных особенностей художественных стилей других, объединенных иным мировоззрением, исторических периодов.
Так, в частности, как было показано в данной работе, обилие стандартных, общих для сочинений всех романтиков XIX века, банальных метафор и сравнений в романтической литературе этого времени связано именно со своеобразием мировоззрения периода европейского и русского романтизма. Поскольку подобные, утратившие (по терминологии Л. Я. Гинзбург) свои метафорические функции, метафоры в художественной системе романтизма не являются, фактически, переносным выражением, а приобретают значение понятия, однозначно определяющего обозначенное ими явление, и служат здесь объективации чувств и эмоций, использующихся в рамках романтического мировоззрения в качестве критерия миропознания, и потому требующих достаточной определенности своего выражения. Их определенность и общеобязательность достигается при помощи сопоставлений с всегда определенными и отчетливыми явлениями окружающей реальности.
Причем и в не утративших своих метафорических функций метафорах романтической поэзии заметно отчетливое стремление придать выраженным в них чувствам и душевным состояниям предметные, телесные качества и свойства. И поэтому само стремление к объективации, то есть переводу во внешний естественно объективный, телесный мир, необходимых романтикам для построения «совершенной» картины мира, чувств и эмоций, можно признать характерной особенностью романтического стиля литературы.
Факты, детали, явления изображаемого в художественных произведениях природного, предметного, а потому вполне определенного, общеобязательного для человеческого восприятия, внешнего мира, и вообще, (что тоже ярко характеризует литературный стиль романтизма) берутся романтиками во всей своей отчетливости и предметной конкретности. Поэтому еще одной отличительной чертой романтического стиля, связанной с потребностями мировоззрения этого исторического периода, является использование неопределенных эпитетов (таких, например, как «неведомый», «смутный», «неизъяснимый», «неясный», «тайный», «неотчетливый») и выражающих неопределенность обозначенного ими явления слов (типа: «что-то», «как бы», «какое-то», «казалось», «как будто», «мнится»), прежде всего, во-первых, по отношению к человеческим чувствам, переживаниям, состояниям и способностям внутреннего мира вообще, а, во-вторых, по отношению к потусторонним, мистическим существам и стихиям, тоже олицетворявшем глубинные основания человеческих эмоций.
Непосредственная связь с характерными основами романтического мировоззрения XIX столетия придает значение одной из отличительных черт литературного стиля эпохи романтизма и использовавшимся романтиками в своих произведениях метафорическим по своему происхождению эпитетам, входившим в состав таких, например, отмеченных В. М. Жирмунским, словосочетаний как «мягкое мерцание звёзд», «чуткая тишина», «мягкая полутень», «спокойное сияние», и подобным же пейзажным зарисовкам в целом. Поскольку их использование в данных произведениях литературы служило здесь не затемнённости вещественного значения этих словосочетаний и художественных описаний, а той же цели объективации обозначенных ими чувств и эмоциональных впечатлений.
Стремление к объективации в совокупности со стремлением к воссозданию в художественной литературе идеального романтического мира, при котором, конечно, использовались и эмоциональные оценки явлений окружающей человека реальности, приводили так же к появлению в поэзии романтиков и своеобразных предметно-эмоциональных эпитетов. То есть эпитетов, по-видимости уточняющих лишь предметное качество какого-либо явления, но на самом деле наделенных и вполне понятным эмоциональным значением.
Другой характерной для романтического стиля формой использования эпитета в поэтическом тексте, непосредственно связанной с доминантным основанием мировоззрения романтиков, стали оценочно-преувеличивающие эпитеты. Ведь, поскольку, как было показано в диссертации, избранное романтиками в качестве критерия миропознания, простое человеческое чувство, в силу своей естественной психологической природы, всегда преувеличивает степень блага, которое можно достичь, следуя его повелению, достоинства предмета стремлений, который оно призывает обрести, либо, наоборот, — степень зла, угрозы, катастрофичности последствий того явления, которое чувство побуждает избежать, то эмоциональные «краски» романтиков всегда слишком красочны, оценки преувеличенно сильны.
И именно поэтому, что тоже с очевидностью продиктовано особенностями самой основы мировоззрения романтиков, изображению в литературных произведениях идеального, чувственно предполагаемого романтического мира, помимо оценочно-преувеличивающих эпитетов служит, во-первых, образно-семантическое преувеличение, при котором воссоздаваемое поэтическим образом конкретное явление внутреннего или внешнего бытия характеризуется в поэтическом тексте при помощи всего лишь одной эмоционально значимой черты своего содержания или внешнего облика, причем преподнесенной в максимальной степени своего проявления, а, во-вторых, — та предельная степень насыщенности изображения в метафоре или сравнении какого-либо качества или свойства явлений внешнего и внутреннего мира, которую, следуя терминологии В. В. Виноградова [52, 284 — 289], можно назвать гиперболизмом метафор, сравнений и эмоциональных изъявлений.
Следующая характерная особенность романтического стиля связана уже именно с субъективностью доминантного основания мировоззрения романтиков. Ведь любому мировоззрению, чтобы быть вполне устойчивым и полноценным, необходима объективная, общеобязательная, убедительная для всех картина мира. И романтики волей-неволей искали некое сверхсубъективное, а значит — сверхчеловеческое, сверхъестественное основание для формирующего их картину мира, ставшего для них критерием миропозиания, обыкновенного, рядового субъективного человеческого чувства.
Поэтому оправдывающий общезначимость и объективность чувственного восприятия бытия естественный мистицизм романтиков первой половины XIX века использовал ортодоксальные христианские понятия и символы, встречающиеся в романтической литературе этого периода, не только не традиционно, не привычно с точки зрения исконного христианского вероучения, но и с вполне определенной необходимой именно романтикам целью, — для обозначения идеальности, возвышенности, предельного совершенства чувств, качеств души, эмоциональных состояний и творческих способностей.
Так же и появляющиеся в произведениях романтической литературы сверхъестественные мистические существа и стихии обретали значение отличительной особенности романтического стиля как такового не сами по себе, не одним лишь своим появлением в поэзии XIX века, а только в связи с особенностями мировоззрения этого времени, то есть исключительно в роли литературной иллюстрации, свидетельства, показательного примера, подтверждающего существование объективной мистической основы эмоциональных движений и свойств человеческой души.
Также именно особенностями мировоззрения эпохи европейского и русского романтизма предопределено то, что ведущую роль в художественной системе романтиков, как показано в представленной диссертации, играла не метафора, а интонация. И особенно характерным для художественного стиля романтиков, чье мировоззрение и идеальный предполагаемый мир, изображаемый ими в литературе, основаны на чувственном критерии миропознания, было использование в качестве основных художественных средств их лирической поэзии художественных средств, формирующихся на основе экспрессивной интонации, подробный анализ и классификация которых представлены во второй главе данной работы.
Но еще более заметной и явной, как показано в третьей главе приведенного исследования, была связь между особенностями романтического мировоззрения и стилем русских романтиков первой половины девятнадцатого столетия в тематике, в «выражаемом», их лирических произведений.
Таким образом, можно с полной уверенностью и обоснованностью утверждать, что отличительные особенности романтического стиля первой половины XIX века были самым непосредственным образом связаны со своеобразными чертами существовавшего в данный исторический период общественного мировоззрения и единство этого стиля как совокупности составляющих его художественных средств обусловлено единым доминантным основанием данного мировоззрения, то есть использованием при создании романтической картины мира именно чувства в качестве исключительного критерия миропознания.
Эти своеобразные стилистические особенности в той или иной пропорции встречались в литературных произведениях самых различных авторов эпохи русского романтизма, формируя тем самым общий художественный литературный стиль этой эпохи. Но этот общий стиль мог немного по-разному интерпретироваться в поэтическом творчестве отдельных литераторов этого исторического периода, создавая тем самым индивидуальные стили различных поэтов.
И очень хорошим примером соотношения индивидуального и общего в рамках частного литературного стиля конкретных авторов эпохи романтического искусства может быть женская лирика первой половины девятнадцатого века.
Ведь, как показывает проведенный анализ лирических произведений Каролины Павловой, Евдокии Ростопчиной и Юлии Жадовской, общий романтический стиль этого времени потенциально содержал в себе две крайних возможных тенденции своей интерпретации. Первая из них связана с реализацией, прежде всего и по преимуществу, изобразительных художественных средств при воспроизведении в поэтическом тексте передаваемых читателю эмоций и эмоциональных отношений, вторая обусловлена стремлением непосредственно выразить, то есть сообщить и описать, испытываемое чувство или чувственное представление, не прибегая при этом к использованию визуальных, «зримых» читателю образов.
Изобразительная стилистическая тенденция нашла себе достаточно яркое воплощение в стихотворениях Павловой и Жадовской в первый период их поэтического творчества, а выразительная тенденция вполне отчетливо реализовалась в лирических текстах Евдокии Ростопчиной.
Причем и сама изобразительная тенденция, по-своему интерпретирующая общий романтический стиль русской литературы XIX столетия, приобрела в женской лирике два вида своей интерпретации. Первый, характеризующий стихотворения.
Каролины Павловой, был связан с использованием для «изображения» чувств и эмоциональных отношений, прежде всего, объективирующих их метафор и сравнений, второй, преобладающий в лирике Юлии Жадовской, отличался использованием с той же целью широких по своему охвату пейзажных зарисовок и эмоционально значимых явлений природного бытия. И индивидуальный стиль был своеобразной крайней интерпретацией стиля общего.
Выразительная стилистическая тенденция также представила в женской лирике две крайних возможных формы своего проявления. Обе они были, прежде всего, связаны с тематикой, с «выражаемым», лирических стихотворений. И когда Евдокия Ростопчина, например, стремилась выражать именно чувства и эмоциональные отношения, стиль ее поэтических произведений был просто банален, общедоступен, то есть ничем не отличался от общих мест общего романтического стиля (ибо выразительность вообще очень легко превращается в банальность), но когда она в некоторых своих стихотворениях перешла к выражению идей и суждений он (то есть стиль ее произведений) стал к тому же еще риторичным и дидактичным. И одна крайность выразительной стилистической тенденции сменила другую ее крайность.
Таким образом, на примере женской лирики первой половины девятнадцатого века можно было наглядно убедиться в том, что достоверное и полное исследование индивидуального художественного стиля любого самостоятельного автора каждой конкретной исторической эпохи должно начинаться с уточнения характерных отличительных особенностей общего художественного стиля (или стилей) литературы и искусства этого времени. Поскольку только при этом условии возможно определение соотношения индивидуального и общего в рассматриваемом индивидуальном стиле.
Проведенное в данной работе исследование общего романтического стиля русской литературы девятнадцатого столетия показало также насущную необходимость использования именно эстетического, художественного, подхода к изучаемым в ходе подобного стилистического исследования произведениям литературного творчества. Поскольку только такой, именно эстетический, подход к объектам литературоведческого исследования может позволить, во-первых, отделить именно художественные стилистические элементы изучаемых произведений литературы от элементов нехудожественных, очертив, таким образом, границы исследуемого художественного стиля, а, во вторых, понять особенности своеобразного использования отдельных художественных средств в рамках различных литературных стилей.
И разработанные и реализованные в данном исследовании методы и средства подобного эстетического анализа позволяют найти кратчайший путь к разрешению этой задачи.
Список литературы
- Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей: В 2 т. Т. 1. М.: Терра-Книжный клуб- Республика, 1998.
- Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей: В 2 т. Т. 2. М.: Терра-Книжныйклуб- Республика, 1998.
- К. Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. III. Пис. 1860 г.
- Аристотель. Поэтика. М., 1957.
- Афанасьев В. «Да, женская душа далжна в тени светиться.» // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Ашукин Н. К. Павлова // Путь, 1914, № 1, с. 19, с. 29 37.
- Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.
- Бартенев П. И. К. К. Павлова // Рус. Архив, 1894, № 1, с. 120 123.
- Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. -СПб.: Азбука, 2000.
- Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. М.: «Алконост», 1994.
- Бахтин М. М. Ученый сальеризм (О формальном (морфологическом) методе). // Звезда, 1925, № 3 (9).
- Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000.
- Белецкий А. Новое издание сочинений К. Павловой // Известия АН, 1917, т. XXII, кн.2, с. 200 220.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч., в 13-ти т. М., 1953 — 1959, Т. VII.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч., в 13-ти т. М., 1953 — 1959, Т. X.
- Белинский В. Г. Руководство к познанию новой истории. // Полн. собр. соч., в 13-ти т. М., 1953 — 1959, Т. VIII.
- Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая // Собр. соч.:В 9 т.-М., 1981, Т. 6.
- Белинский В. Г. Стихотворения графини Е. П. Ростопчиной // Собр. соч: в 9 тт. М.: Худ. лит-ра, 1979, Т. 4.
- Белинский В. Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840 // Соч. М., 1871. Ч.
- Белов И. По поводу сочинений графини Ростопчиной // Ист. вестник, 1885, № 5, с. 495 496.
- Бенеш О. Искусство северного Возрождения. Его связи с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973.
- Берг К. В. Графиня Ростопчина в Москве // Ист. вестник, 1893, № 2.
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. М.: Наука, 1990.
- Бернштейн С. И. Интонация // Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. -М.: «Советская энциклопедия», 1972. Т.10.
- Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. С. Петербург, 1991.
- Берн Эрик. Что люди пытаются делать // Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия. Мн.: Харвест, М.: ACT, 2001. (Библиотека практической психологии).
- Библиографические записки, 1859, № 8.
- Блок А. Стихотворения и поэмы. Мн.: Мает, лгг., 1989.
- Блок В. Б. Сопереживание и сотворчество (диалектика и взаимообусловленность) // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. — Мн.: Харвест, 2003.
- Бобров Е. А. Графиня Ростопчина // Рус. филос. вест., 1908, № 1, отд. 1, с. 286 290.
- Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. Казань, 1914.
- Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. М., 1996.
- Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
- Борев Ю. Б. Эстетика. В 2-х т. Т. 1 5-е изд., допол. — Смоленск: Русич, 1997.
- Брюсов В. Я. К. Павлова // Ежемесячные сочинения, 1903, № № 11 12.
- Вальцель О. Проблема формы в поэзии. Пб., 1923.
- Вейдле В. Умирание искусства // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в совр. об-ве. М.: Политиздат, 1991.
- Вельтман Л. Ф. — Е. П. Крупенниковой. 4. XII. 1849. Москва // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
- Вилюнас В. К. Основные проблемы психологической теории эмоций // Психология эмоций: Тексты. М., 1984.
- Вилюнас В. К. Предисловие к книге Я. Рейковского «Экспериментальная психология эмоций». М., 1979.
- Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. М.: Изд-воМГУ, 1986.
- Виноградов В. В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М.: Наука, 1990.
- Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. М.: Высш. школа, 1981.
- Виткоп-Менардо Г. Э.Т. А. Гофман сам свидетельствующий о себе и своей жизни. Челябинск, 1998.
- Вишневский К. Д. Нетождественные строфы в русской поэзии XVIII XIX вв. Классификация и функции // Онтология стиха: Сборник статей памяти Владислава Евгеньевича Холшевникова / Под ред. Е. В. Хворостьяновой. — СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2000.
- Волошннов В. Н. (М. М. Бахтин). Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. М.: «Лабиринт», 1993.
- Восстание декабристов. М.-Л., 1925. Т.1.
- Востоков А. X. Опыт о русском стихосложении. Изд. 2. СПб., 1817.
- Выготский Л. С. Собрание трудов. Анализ эстетической реакции: Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира. Психология искусства. М.: Лабиринт, 2001.
- Вяземский П. А. — А. И. Тургеневу. 13. VI. 1841, Царское Село // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.
- Галенко С. П. Идея трансцендентализма в западноевропейской философии // Историко-философский ежегодник-92. М., 1993.
- Гаспаров М. Л. Избранные труды, том II. О стихах. М.: «Языки русской культуры», 1997.
- Гаспаров М. Л. Тропы в стихе: попытка измерения // Онтология стиха: Сборник статей памяти Владислава Евгеньевича Холшевникова / Под ред. Е. В. Хворостьяновой. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2000.
- Гегель. Соч., т. XII. М., 1938.
- Герцен А. И. Поли. собр. соч. в 30 т, т. III. М., 1954.
- Гинзбург Л. Я. О лирике. М.: Интрада, 1997.
- Гинзбург Л. Я. П. А. Вяземский // Вяземский П. А. Стихотворения / Вступ. ст. Л. Я. Гинзбург- Сост., подгот. текста и примеч. К. А. Кумпан. Л.: Сов. писатель, 1986.
- Гиппиус 3. Н. Живые лица. Стихи. Дневники. Книга 1. Тбилиси, «Мерани», 1991.
- Гольбах П. Система природы. М., 1940.
- Грифцов Б. К. Павлова // Русская мысль, М.-Пг, 1915, № XI, p. XIX, с. 1116.
- Громов П. П. Каролина Павлова // Павлова К. К. Полное собрание стихотворений. М. — Л.: Сов. пис., 1964.
- Гроссман JI. Вторник у К.Павловой. Изд. 2-е, М., 1922.
- Дружинин А. В. Стихотворения графини Е. П. Ростопчиной // Собр. соч., т. VII. Пб., 1865, с. 153 — 160.
- Жадовская Ю. В. Избранные стихотворения. Ярославль, Кн. Изд., 1958.
- Жирмунский В. М. Поэтика русской поэзии. СПб.: Азбука-классика, 2001.
- Жирмунский В. Теория стиха. Л.: Сов. пис., 1975.
- Жуковский В. А. Баллады и стихотворения / Сост., вступ. статья и коммент. В. Коровина. М.: Худож. лит., 1990.
- Жуковский В. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, Т. IX. СПб, 1902.
- Жуковский В. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, Т. X. СПб., 1902.
- Замятин Е. И. Психология творчества // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. Мн.: Харвест, 2003.
- Зиндер Л. Р. Общая фонетика. Л., 1960.
- Золотарева О. Г. К вопросу о «несобранных лирических циклах» 40 60-х гг. («Утинский цикл» К. К. Павловой) // Проблемы метода и жанра. — Томск, 1983, вып. 9, с. 226 — 239.
- Зорин А. Л. Русские поэтессы XIX в. (о Е. Ростопчиной и К. Павловой) // Библиотекарь. М., 1982, № 3, с. 51 — 53.
- Иванов Вяч. Вс. Искусство психологического исследования. // Л. С. Выготский. Собрание трудов. Анализ эстетической реакции: Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира. Психология искусства. М.: Лабиринт, 2001.
- Иванов Вяч. Собр. соч. / Под ред. Д. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1987.1. Т. 4.
- Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2000.
- Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2002. (Серия «Мастера психологии»).
- Илюшин А. А. Русское стихосложение: Учеб. пособие для филол. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1988.
- История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1967. Т. 3.
- Казанович Е. П. Комментарии в кн.: К. Павлова. Полн. собр. стих. Л., 1939.
- Кант И. Собр. соч.: В 6 т. М&bdquo- 1965. Т. 5.
- Карамзина С. Н. 29.XII. 1836 / 10.1. 1837, СПб. // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Карамзин Н. М. Избр. статьи и письма. М., 1982.
- Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.- Л., 1966.
- Кашин Н. Еще о сочинениях К. Павловой // Книга и революция, 1921, 3 4, с. 8 — 9.
- Квятковскнй А. П. Поэтический словарь. М.: «Сов. энциклопедия», 1966.
- Кемпински А. Психические состояния. М., 2000.
- Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 4. Курс русской истории. Ч. 4. М.: Мысль, 1989.
- Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 5. Курс русской истории. Ч. 5. М.: Мысль, 1989.
- И-н-о-к-ъ (Кони Ф. А.) Графиня Е. П. Ростопчина и ее стихотворения // Меркурий мод, 1860, № 1, с. 12 -16.
- Кони А. Ф. К. Павлова // Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми тт. М.: Юр. Лит., 1968. Т. 6, с. 121−126.
- Корнеев А. В. «Ты помнишь ли поэт?» (К. Павлова и А. Мицкевич) // Рус. словесность, 1995, № 2.
- ИЗ. Коровин В. И. «Его стихов пленительная сладость.» // Жуковский В. А. Баллады и стихотворения / Сост., вступ. статья и коммент. В. Коровина. М.: Худож. лиг., 1990.
- Короленко Ц. П., Фролова Г. В. Спасительная способность — вообразить // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. -Мн.: Харвест, 2003.
- Кривцун О. А. Эстетика: Учебник. М.: Аспект Пресс, 1998.
- Лебедев Е. Н. Урок достоинства, величия и славы // Ломоносов М. В. Сочинения / Сост., предисл. и примеч. Е. Н. Лебедева. М.: Современник, 1987. (Классическая б-ка «Современника»).
- Лебедев Е. Н. Познанья роковая чаша (Лирика Каролины Павловой) // Павлова К. К. Стихотворения / Сост., вступ. ст. и примеч. Е. Н. Лебедева- М.: Сов. Россия, 1985.
- Ломоносов Михайло. Избранная проза. Изд. 2-е, доп. М.: Советская Россия, 1986.
- Ломоносов М. В. Сочинения / Сост., предисл. и примеч. Е. Н. Лебедева. -М.: Современник, 1987. (Классическая б-ка «Современника»).
- Лосев А. Ф. Гармония // Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. М., «Советская энциклопедия», 1972. Т. 6.
- Лосев П. Ю. Ю. В. Жадовская // Жадовская Ю. В. Избранные стихотворения. Ярославль, Кн. Изд., 1958.
- Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. С.-Петербург: «Искусство — СПБ», 1996.
- Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в совр. об-ве. -М.: Политиздат, 1991.
- Марлинский А. О романе Н. Полевого «Клятва при гробе Господнем» // Марлинский А. Поли. собр. соч. СПб., 1840. Ч. 11.
- Матяш С. А. Структура и функция переносов (enjambement) в поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» // Онтология стиха: Сборник статей памяти Владислава Евгеньевича Холшевникова / Под ред. Е. В. Хворостьяновой. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2000.
- Михайлов Д. Графиня Е. П. Ростопчина // Очерки русской поэзии XIX в. -Тифлис, 1905, с. 93 -228.
- Мордовцев Д. А. Русские исторические женщины. СПб, 1874.
- Москвитянин. 1841. Ч. V. № 9
- Мысль, вооруженная рифмами. Поэтическая антология по истории русского стиха / Составитель, автор статей и примечаний В. Е. Холшевников. Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1984.
- Мюнстерберг Г. Психология и учитель. М.: Совершенство, 1997.
- Нейштадт В. Неизвестные стихи Е. П. Ростопчиной (1811 1858) // Тридцать дней, 1938, № 2, с. 94 — 96.
- Некрасова Е. С. Графиня Е. П. Ростопчина. 1811−1858 // Вестник Европы, 1885, № 3, с. 42−81.
- Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. 9. М., 1950.
- Никитенко А. В. Стихотворения графини Е. П. Ростопчиной // Сын отечества, 1841, кн. 2, № 18, с. 95 104.
- Носенко Э. Л. Изменение характеристик речи при эмоциональной напряженности // Вопросы психологии, 1978, № 6.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. Под ред. Н. Ю. Шведовой. Изд. 19-е. М.: «Русский язык», 1987.
- Ортега-и-Гасет X. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в совр. об-ве. -М.: Политиздат, 1991.
- Павлова К. Воспоминания об А. Иванове. Изд. 1915 г. Т.2.
- Павлова К. Ответ И. И. Панаеву // К. Павлова. Собр. соч., изд. 1915 г. Т.2.
- Павлова К. К. Полное собрание стихотворений. М. — Л.: Сов. пис., 1964.
- Панаев И. И. Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики // Современник, 1852, № 11.
- Переверзев В. Салонная поэтесса // Современный мир, Спб., 1915, № 12, отд. II., с. 185 188.
- Перлз Фредерик. Опыты психологии самопознания // Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия. Мн.: Харвест, М.: ACT, 2001.
- Плетнев П. А. О стихотворениях графини Е. П. Ростопчиной // Современник, 1841, т. XVIII, № 2, с. 89 93.
- Плетнев П. А. Рецензия на книгу: Стихотворения графини Е. Ростопчиной. СПб., 1841. — Современник, 1841 // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Поэты 40 50-х гг. «Библиотека поэта». — Л.: Сов. пис. 1972.
- Ранк Отто. Эстетика и психология художественного творчества // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. Мн.: Харвест, 2003.
- Рапгоф Б. Е. К.Павлова. Материалы для изучения жизни и творчества. -Пг.: Трирема, 1910.
- Рассадин С. Б. Неизвестный соловей // Павлова К. К. Стихотворения. М.: Текст, 2001.
- Расторгуева В. С. Поэзия Е. П. Ростопчиной. Диссертация на соискание ученой степени канд. филолог, наук. Л., 1990.
- Рачинский С. А. Стихотворения К. Павловой и воспоминания о ней // Татевский сборник С. А. Рачинского. Спб., 1899, с. 106 -113.
- Розенталь Д. Э. Русский язык. Справочник-практикум: Управление в русском языке. Практическая стилистика / Д. Э. Розенталь. М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.
- Розет И. М. Теоретические концепции фантазии // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. Мн.: Харвест, 2003.
- Романов Б. Н. Евдокия Ростопчина // Ростопчина Е. П. Стихотворения. Проза. Письма. М.: Сов. Россия. 1986.
- Ростопчина Е. П. — Бартеневу Ю. Н. 2.VII. 1853. Вороново // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Ростопчина Е. П. — Погодину М. П. 1853. Москва // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Ростопчина Е. П. Проза. Стихотворения. Письма. М.: Сов. Россия, 1986.
- Ростопчина Е. П. Счастливая женщина // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. -М.: Моск. рабочий, 1987.
- Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Ротенберг В. С. Психофизиологические аспекты изучения творчества // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. Мн.: Харвест, 2003.
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946 (СПб.: Питер, 1999).
- Русская речь. Пг., 1923, вып. 1
- Рылеев К. Ф. Сочинения. Л., 1987.
- Садовский Б. К. Павлова // Садовский Б. Ледоход, статьи и заметки. Пг., 1916.173. (Салтыков-Щедрин М. Е.) Стихотворения К. Павловой // Современник, 1863, т. XCVI, № 6, отд. II, с.311 316.
- Салямон Л. О физиологии эмоционально-эстетических процессов // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. Мн.: Харвест, 2003.
- Семенко И. М. В. А. Жуковский // Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского в двух томах, т. 1: Сборник / Сост. А. А. Гугнин. М.: Радуга, 1985.
- Симонов П. В. Теория отражения и психофизиология эмоций. М., 1970.
- Симонов П. В. Эмоциональный мозг. М., 1981.
- Смирнова А. О. — Е. П. Ростопчиной. 3. IV. 1839. СПб. // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Современник, 1863. Т.96, № 6, отдел «Новые книги».
- Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1955. Т. 3.
- Станкевич Н. В. Переписка. 1830 1840. — М., 1914.
- Сумароков А. П. О стопосложении. Ответ на критику // Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. Т. X. М., 1787.
- Сушков С. П. Возражение на статью Е. С. Некрасовой о графине Е. П. Ростопчиной // Вестник Европы, 1888, т. Ш, № 5, с. 388 437.
- Табакова Н. А. Творчество Каролины Павловой. Диссертация на соискание ученой степени канд. филолог, наук. М., 1999.
- Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: Хрестоматия-практикум: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2004.
- Таранов П. С. 120 философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли: Универсальный аналитический справочник по истории философии: В 2 т. -Симферополь: «Реноме», 2002. Т. 2.
- Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958.
- Толстой А. К. Собр. соч. в четырех томах, т. 4. М., 1964.
- Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М.: Аспект Пресс, 2000.
- Туровский Н. Ф. Из дневника поездки по России в 1841 году // Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания / Сост. В. Афанасьев. М.: Моск. рабочий, 1987.
- Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924.
- Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000.
- Ушинский К. Д. Собр. соч. В 11 томах. Т. 10. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950.
- Федоров Ф. П. Романтизм и бидермайер // Russian Literature. Amsterdam, 1995.V. 38.
- Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. -Рига, 1988.
- Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост // Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия. Мн.: Харвест, М.: ACT, 2001.
- Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. Карл Юнг и аналитическая психология. М.: РОУ, 1991, вып. 1
- Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 1999.
- Фридкин В. Альбомы Каролины Павловой // Наука и жизнь, М., 1987, № 12, с. 140- 148.
- Хёйзинга И. Осень средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1995.
- Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Пер. с нидерл. В. В. Ошиса. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
- Ходасевич В. Л. Одна из забытых // Альманах «Новая жизнь», М., 1916, № 3.
- Холшевников В. Е. Стиховедение и поэзия. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991.
- Храневич К. Мицкевич и К. Яниш // Исторический вестник, 1897, № 3, с. 1080- 1086.
- Христиансен Б. Философия искусства. Спб., 1911.
- Черемисина-Ениколопова Н. В. Законы и правила русской интонации: Учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 1999.
- Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полн. собр. соч., т. 7. М., 1949.
- Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1949.
- Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1949.
- Чернышевский Н. Г. Стихотворения графини Ростопчиной // Полн. собр. соч. М.: Госполитиздат, 1947, т. III.
- Шевырев С. П. Стихотворения графини Е. Ростопчиной // Москвитянин, 1841, т. IV, № 7, с. 171 -182.
- Шеллинг Ф. В. Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах // Соч.: В 2 т. М., 1989.Т. 2.
- Шенгели Георгий. Техника стиха: 2-е изд. М., 1960.
- Шопенгауэр А. О четверояком корне. Мир как воля и представление. Т. I. Критика кантовской философии: Пер. с нем. / Ин-т философии. М.: Наука, 1993. (Памятники философской мысли).
- Щеблыкнна Л. И. Лирика Е. П. Ростопчиной (Проблемы поэтики). Диссертация на соискание ученой степени канд. филолог, наук. М., 1994.
- Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л.: Советский писатель, 1969.
- Эрнст С. Каролина Павлова и графиня Евдокия Ростопчина (1807 1893, 1811 — 1858)//Русский библиофил, 1916,№ 6, с. 7 — 35.
- Эткинд Е. Разговор о стихах. М., 1970.
- Юнг К. Г. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в совр. об-ве. М.: Политиздат, 1991.
- Якобсон Р. Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.