Художественный мир Карла Крауса
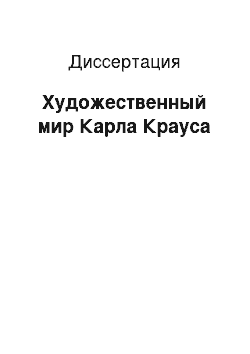
Категория «художественный мир» («поэтический мир», «внутренний мир художественного произведения», «художественный космос») широко употребляется в современном литературоведении. По мнению Р. Якобсона, термин «художественный/поэтический мир» понимается как воплощенный в текстах «индивидуальный миф» конкретного автора, представляющий собой «. объединяющий инвариант, неразрывно и глубинно связанный… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Художественный мир К. Крауса в контексте немецкоязычной литературы 1900-х — 1920-х годов
- 1. 1. Жизненный и творческий путь Карла Крауса
- 1. 2. «Учение о языке» Карла Крауса в контексте немецкоязычной литературы и культуры 1900-х- 1920-х годов
- 1. 3. Монтаж цитат — конструктивный принцип художественного мира К. Крауса
- Выводы
- Глава 2. Художественный мир драмы «Последние дни человечества». Проблема жанра
- 2. 1. «Последние дни человечества»: история создания и проблема жанра
- 2. 2. Роль Р. Вагнера в культурной жизни Вены рубежа XIX — XX веков
- 2. 3. Драма К. Крауса как «универсальное произведение искусства»
- 2. 4. Техника цитирования в драме «Последние дни человечества»
- Выводы
Художественный мир Карла Крауса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Издатель журнала «Факел», создатель афоризмов, стихотворений и драм, Карл Краус (1874−1936) называл себя «лишь одним из эпигонов, живущих в старом доме языка» (Ich bin nur einer von den Epigonen, J die in dem aten Haus der Sprache wohneri) [Kraus 20- 31]. И, пожалуй, его главной задачей было поддерживать порядок в этом «старом доме»: следить, чтобы запятые стояли на своих местах, дательный падеж не вытеснял родительный, а слово воплощало мысль. К. Краус был убежден, что нарушение языкового строя влечет за собой катастрофы общечеловеческого, если не вселенского, масштаба. У него были основания так считать. За несколько лет до начала первой мировой войны он начал борьбу против журналистов, их «пустых фраз», «фельетонизма» современности в целом. Издатель «Факела» пророчил грядущий конец света, вызванный «черной магией прессы». Наступивший в 1914 году «конец света» К. Краус воплотил в антивоенной драме «Последние дни человечества». В ней причины катастрофы восходят, среди прочего, к прессе, манипулирующей массовым сознанием. Война закончилась — издателя «Факела» стали называть лжепророком и предсказывали ему забвение потомков. Можно сказать, что так оно и вышло — с 1936 по 1952 год имя К. Крауса многими было забыто и лишь служило неким тайным кодом для его поклонников.
Через два года после смерти Крауса, в 1938 году его верный последователь Леопольд Лиглер (Leopold Liegler) подготовил книгу «Карл Краус и его потомки» {Karl Kraus und seine Nachwelt), однако грянул «аншлюс». Книга осталась ненапечатанной.
Когда гитлеровские войска вошли в Вену, они уничтожили большую часть наследия венского литератора. После окончания второй мировой войны, в 1946 году было основано «Общество Карла Крауса» (Karl-Kraus-Gesellschaft), которое возглавил Л. Лиглер. Главная цель, ради которой и создавалось общество, была публикация сочинений К. Крауса. Однако этого не удалось сделать из-за возникших споров о наследовании авторских прав.
В 1952 — ставшим переломном — году Вернер Крафт (Werner Kraft) выпустил том избранных произведений К. Крауса в серии «Исчезнувшие и забытые» {Verschollene und Vergessene), сопроводив его основательным введением. В этом же году издательство Кёзел (.Kosel) выпустило подготовленную Генрихом Фишером (Heinrich Fischer) «Третью вальпургиеву ночь» (.Dritte Walpurgisnacht), не публиковавшуюся при жизни автора. Выход этой книги вызвал широкий общественный резонанс, что позволило Г. Фишеру выпустить собрание сочинений издателя «Факела». В 1954 году Венская городская библиотека получила в дар от Е. Канн (Helene Капп) «архив К. Крауса», который ей удалось вывезти в Швейцарию и спасти от уничтожения в «присоединенной» Вене.
Эти события обусловили так называемый «ренессанс Крауса» («Kraus-Renaissance»), масштаб которого поражал как друзей венского издателя, так и его врагов [Fischer, J.M.- 71]. Первые публикации принадлежали друзьям или добрым знакомым издателя «Факела», что и определило их тональность.
В. Крафт, статья которого была напечатана в «Факеле», считал «Последние дни человечества» истоком «всей послевоенной немецкой драматургии 1920;1930 годов» [Kraft 1952; 9]. Несмотря на то, что сочинения Крауса строились на «преходящем материале», но рождены они были «живым духом». Из этого следует, что грядущие поколения узнают, кем был Краус. Они смогут проложить путь через «мертвый материал» к «живому духу» и познакомиться с подлинным мыслителем [ibid.- 15].
Приятель К. Крауса 3. Радецкий ставил его в один ряд с «гениальными сатириками» всех времен: Аристофаном, Петронием, Ювеналом, Рабле, Сервантесом, Свифтом и Гоголем [Radecki- 11]. Важным фактом для данной публикации было происхождение Крауса: его иудейские корни определили отношение к слову, к языку. Даже в борьбе с прессой Радецкий видит метафору библейской битвы Давида и Голиафа. Подобно Давиду, бросавшему камни в гиганта Голиафа, Краус пытается победить, разоблачая журналистские фразы [ibid.- 13]. Уже в этой книге выдвигается мысль о ведущей роли языка в художественном мире К. Крауса. Заметки Радецкого стоят особняком в обширной специальной литературе, посвященной издателю «Факела». Другие работы, в которых рассматривается отношение автора «Последних дней человечества» к еврейской общине, учитывается и его антисемитизм [Kohn, Н.- Murauer].
Опубликованное в 1968 году эссе Ф. Раддаца «Слепой наблюдатель. Размышления о Карле Краусе» {Der blinde Seher. Uberlegungen zu Karl Kraus) положило начало новому периоду: исследователи творчества Крауса стали более критичными, стремились к объективному изображению его личности.
Жизнь и творческий путь К. Крауса до сих пор привлекает к себе внимание исследователей. Последняя биография издателя «Факела» вышла в 2004 году [Rothe]. Основополагающими работами этого направления можно назвать исследования П. Шика [Schick], Г. Вайгеля [Weigel], Й. М. Фишера [Fischer, J.M.]. За исключением биографии Ф. Роте все работы построены по хронологическому принципу. Если биографии П. Шика и И. М. Фишера академичны и написаны в культурно-историческом ключе, то в работе Г. Вайгеля в некоторых главах встречаются попытки объяснить поступки Крауса средствами психоанализа [Weigel- 11].
Следует отметить, что психоанализ является привлекательным и продуктивным методом исследования творчества К. Крауса. В 1977 году вышла книга М. Шнайдера «Страх и рай Брюзги. О К. Краусе». Автор находит в творческой задаче венского сатирика не только «мазохистские черты», но и «страхи и чувство вины» [Schneider- 113]. В «Последних днях человечества», по мнению Шнайдера, сатирический эффект и документальная достоверность рождается из изображения общества времен первой мировой войны, которое направляет «показную агрессию» вовне, чтобы только выставить на обозрение пронизанную садомазохистскими порядками жизнь [ibid.- 112]. В художественном мире К. Крауса преломляются психологические комплексы автора.
Несколько иной ракурс психоанализа представлен в известной работе Н. Вагнер «Дух и пол. Карл Краус и эротика венского модерна» (1987). Наследие издателя «Факела» дает богатый материал для подобного исследования. Н. Вагнер сначала вписывает К. Крауса в контекст эпохи венского модерна, прослеживая становление позиций юного литератора в «сексуальном вопросе» в соответствии с духом времени. Затем она рассматривает участие издателя «Факела» в «сексуальных скандалах», прокатившихся по Германии и Австро-Венгрии. К. Краус активно выступал за защиту частной жизни от вторжения журналистов. И наконец, исследовательница переходит к эротическому восприятию Краусом слова и языка. Следуя логике Н. Вагнер, творческий процесс является сублимацией. Переводя реальные события и предметы в вымышленные, Краус обретает, наконец, умиротворение. Только в фантазии воплощаются изначально чувственные устремления. Для того, чтобы любить, венскому сатирику необходимо «очистить объект любви от шлаков реальности». Это возможно сделать только посредством языка. Только пишущий-любящий Краус может быть счастлив [Wagner- 213].
Исследование М. Бильке «Современники «Факела» «развенчивает многие мифы, сложившиеся вокруг личности и творчества К. Крауса среди исследователей. Рассматривая разные сферы деятельности издателя «Факела», автор книги приходит к выводу, что адекватная рецепция творчества Крауса невозможна, единственным достижением читателя может быть рассмотрение отдельного аспекта огромного наследия «Факела». Именно в этом видит М. Бильке противоречивость многих исследований: каждый исследователь задает свои вопросы, находит в сочинениях Крауса ответы на них и обосновывает новую концепцию в отношении творчества венского сатирика [Bilke- 259].
К самым популярным предметам исследования относятся следующие: сатира в творчестве Крауса [BohnStephanStieg 2002], «учение о языке» и языковые особенности произведений Крауса [FasslerJohnstonLangQuackThalkenWagenknecht], «Последние дни человечества» [HawigPrzybecki;
RolletRuskeTimms], «театр поэзии» [Fischer J.M. 1973; Knepler], лирика [Disch von Pfyn],.
Последние годы ознаменовались усиленным интересом исследователей к проблеме «К. Краус и средства масс-медиа». Например, Б. Мюллер в своей работе «Карл Краус. Мимезис и критика медиума» рассматривает кинематографические приемы в творчестве издателя «Факела», особенно в «Последних днях человечества», как возможность показать страшный сон наяву [Miiller- 493]. Кинематографическая техника дает возможность Краусу не просто поделиться своими переживаниями, но сохранить ясное сознание в момент демонстрации ночного кошмара. Новые техники — фотография, фонограф, кинематограф, — в массовом порядке репродуцирующие действительность, вытесняют литературу. Краус, несмотря на критику современных медийных средств, использует их в собственном творчестве [Miiller- 467].
Германистка П. Альда продолжает разрабатывать эту проблему в работе «Отношение Карла Крауса к публицистике» (2002). Она приходит к выводу, что отношение издателя «Факела» к средствам массовой информации не было однозначно критичным и негативным, как это принято считать. Пластинки и фонографы Краус воспринимал в высшей степени позитивно, радио и кинематограф он сначала отверг, но впоследствии включил их в собственноев том числе сатирическое — творчество [Alda- 172−173]. Новые технические средства позволяли издателю «Факела» точнее протоколировать время, в которое он жил.
Однако исследования творчества К. Крауса не ограничиваются немецкоязычным пространством. Большое значение имеют работы представителей английской [CarrTimms] и американской школ [ZohnJanik]. Творчеством К. Крауса занимаются во Франции, Италии, Чехии, Польше, даже в Японии. Драма «Последние дни человечества» переведена на разные языки мира: чешский (1933), словацкий (1987), итальянский («Последняя ночь» -1956, вся драма — 1980), японский (1971), английский (1925, 1974, 1984), венгерский (1977), французский (1986), голландский (1988), испанский (1991). Проблема рецепции произведений К. Крауса за рубежом рассматривается, например, в работах Г. Шварцингера [Schwarzinger], К. Сонино [Sonino].
В России известны лишь афоризмы К. Крауса в переводе А. В. Белобратова. В отечественном литературоведении издатель «Факела» изучен мало. Русская публика начала XX века знала Г. фон Гофмансталя, Ф. Верфеля, Э. Ласкер-Шюлер, П. Альтенберга, А. Эренштейна, сочинения которых печатались на страницах «Факела». Но имя Крауса не было известно. Представляется любопытным, что в России была известна пьеса Ф. Верфеля «Человек из зеркала», написанная им в ходе полемики с Краусом и сатирически изображающая бывшего кумира. Однако прототип пьесы, которую высоко ценил Е. Замятин, в России так и остался неизвестным [Коренева- 327].
В «Литературной энциклопедии» под редакцией А. В. Луначарского в статье, посвященной немецкой литературе, также отсутствуют какие-либо сведения о К. Краусе и журнале «Факел». Но в девятитомной «Краткой литературной энциклопедии» (1962) появляется, наконец, статья об австрийской литературе, а также первое упоминание об авторе «Последних дней человечества»: «Особняком среди поэтов „венской школы“ стоит К. Краус (1974;1936), издатель журнала „Die Fackel“ („Факел“), выступавший против милитаризма и войны, автор монументальной антивоенной драмы „Последние дни человечества“ (1919)» [Шлапоберская- 69]. Здесь не вполне точно указан год издания драмы К. Крауса. В 1919 году вышла первоначальная, журнальная версия антивоенной драмы, которая была впоследствии переработана и издана уже как книга в 1922 году.
В 1975 году A.M. Науменко защитил диссертацию «Творческий метод Карла Крауса-драматурга». В центр внимания исследователя попали не только «Последние дни человечества», но и другие драматические произведения К. Крауса [Науменко 1975]. В данной работе творческий метод венского драматурга рассматривается сквозь призму традиции (Шекспир, Гете, Нестрой).
Известный германист Д. В. Затонский в книге «Австрийская литература в XX столетии» ставит К. Крауса в один ряд с Музилем, Ротом, Брохом, Кафкой, Верфелем, Хорватом и называет их представителями большой литературы, «великим межвоенным поколением» [Затонский 1985; 63]. Исследователь отмечает, каким великим потрясением оказалась мировая война для Крауса. Австрия виделась ему «опытной станцией конца света». И так он ее изобразил в «Последних днях человечесва». «Рухнули декорации «веселого Апокалипсиса», — пишет Д. В. Затонский, — «и на развалинах явился Апокалипсис темный, мрачный, сходный с тем, что привиделся Иоанну Богослову» [ibid.- 66]. Исследователь осознает, как много сделал К. Краус в сфере языка, и относит его к предшественникам Э. фон Хорвата, который «одним из первых убедительно показал связь между социальными процессами и языком их носителей» [ibid.- 77].
Наконец, в статье Ю. И. Архипова «Рильке. Краус. Тракль», которая вошла в восьмой том «Истории всемирной литературы» (1994), образ известного сатирика предстает в некоторой завершенности. Здесь отмечены основные жанры, в которых работал Краус. Особое внимание уделяется отношение его к языку: «Краус сражался за чистоту и живое развитие классического наследия языка» [Архипов- 353], «кризис эпохи для Крауса — это прежде всего кризис языка» [ibid.- 354]. «Последние дни человечества» для автора • статьи — это прежде всего социально-критическое произведение, обвиняющее войну и социальную несправедливость [ibid.- 354].
Немаловажным для исследования творчества К. Крауса является вышедшая в 2004 году книга «Маски времени», состоящая из литературно-критических и теоретико-литературных публикаций В. Беньямина. Статья «Карл Краус» в переводе Г. Снежинской представляет глубокое исследование противоречивой и столь значимой для своего времени фигуры издателя «Факела» [Беньямин- 313−358].
Эти основные труды, посвященные жизни и творчеству К. Крауса, легли в основу диссертации, наряду с работами В. М. Жирмунского, А. В. Михайлова,.
Н.С. Павловой, В. А. Пронина, А. В. Белобратова, А. И. Жеребина. Т. А. Федяевой и других исследователей.
Методологическую основу исследования составляют труды М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, А. Ф. Лосева о художественном мире литературного произведения.
С методологической основой связан и круг методов, использованных в диссертации. В качестве опоры было избрано сочетание традиционных биографического и культурно-исторического методов с системным подходом, разработанным учеными Нижегородского государственного лингвистического университета и Одесского государственного университета. Анализ конкретного материала ведет от макроуровня (К. Краус в контексте эпохи, в соотнесенности с внетекстовой реальностью) к рассмотрению жанра и анализу языка на микроуровне (цитата, «чужое слово»).
Художественный мир Карла Крауса представляет собой систему, порожденную взаимодействием основных элементов: Автор <-*• Произведение <-> Читатель (слушатель). Эта система соотнесена с внелитературной реальностью и литературной традицией. Для понимания творчества К. Крауса принципиально важен акцент на обратные связи. Издаваемый им в течение 36 лет журнал «Факел» построен на принципе отклика на события действительности. Письма читателей Краус использует как механизм «обратных связей». Отсюда вытекает взаимопроникновение публицистического и художественного начал, характерное для журнальных статей и художественных текстов К. Крауса.
Художественное мышление венского литератора соединяет документ с вымыслом, фикцией. Это отмечают многие исследователи [TimmsWagner]. Документальность текстов Крауса построена на принципе цитирования. Цитата, словесная или визуальная, входит в структуру текста. Документ при этом сопрягается с художественным вымыслом, а произведение приобретает документальные черты. С этой точки зрения художественный мир К. Крауса-публициста и драматурга 1900;х — 1920;х годов анализируется впервые.
Категория «художественный мир» («поэтический мир», «внутренний мир художественного произведения», «художественный космос») широко употребляется в современном литературоведении. По мнению Р. Якобсона, термин «художественный/поэтический мир» понимается как воплощенный в текстах «индивидуальный миф» конкретного автора, представляющий собой «. объединяющий инвариант, неразрывно и глубинно связанный с постоянной многообразной вариативностью». Биография автора преобразовывается в «индивидуальную мифологию», которая, реализуя принцип «обратной связи», становится частью биографии [Якобсон- 267]. Д. С. Лихачев в статье «Внутренний мир художественного произведения» (1968) понимает под миром художественного произведения «результат и верного отображения и активного преобразования действительности» [Лихачев- 76]. Это преобразование действительности осуществляется за счет «собственных взаимосвязанных закономерностей, собственных измерений и собственного смысла» внутреннего мира художественного произведения, что позволяет говорить о художественном мире как о системе [ibid.- 76]. Согласно концепции Ю. М. Лотмана, «произведение искусства представляет собой конечную модель бесконечного мира». М. Л. Гаспаров рассматривает художественный мир текста как «.систему всех образов и мотивов, присутствующих в данном тексте» [Гаспаров- 275]. Ф. П. Федоров, развивая идеи А. Я. Гуревича, отмечает наличие в «картине мира» (художественном мире) некой «трансцендентной сетки», т. е. доминантных категорий, «демонстрирующих наиболее общие, фундаментальные понятия» [Федоров- 241−242].
Опирась на положения книги А. Ф. Лосева «Проблема художественного стиля» [Лосев 1994], В. Г. Зусман предпринимает попытку отойти от метафорического употребления этого термина и понимает его следующим образом: «художественный мир — это не только принцип, но и воплощенностъ, конструирование и конструкт одновременно.» [Зусман 1997; 35]. Художественный мир возникает в «момент порождения поэтического высказывания» [Зинченко, Зусман, Кирнозе- 183], когда автор называет мир, подобно Адаму, дает имена существам и предметам, этот мир населяющим.
Основополагающим конструктивным принципом художественного мира К. Крауса является «учение о языке». Согласно К. Краусу, каждое слово — это момент блаженного зачатия мира. Только в слове из хаоса рождается мир. Для создания художественного мира К. Краус использовал не только свое, но и «чужое слово». Чтобы преобразовать реальность, издатель «Факела» стремился прежде всего воссоздать ее в своих произведениях максимально точно, фотографично. Такое противоречие, характерное для художественного мира Крауса, определило параметры, с учетом которых в данной работе рассматривается творчество К. Крауса 1900;х — 1920;х годов:
1. время — пространство;
2. сочетание документальности (публицистичности) и художественности (достигается путем цитирования документов времени, вписанных в художественный замысел автора);
3. этическое начало (здесь в центре внимания «учение о языке» (Sprachlehre) К. Крауса).
Драма «Последние дни человечества» открывается авторским предисловием, которое начинается со слов: «Постановка драмы, которая по земным меркам растянулась бы на десять вечеров, предназначена для марсианского театра» {Die Aujftihrng des Dramas, dessert Umfang nach irdischem Zeitmafi etwa zehn Abende umfassen wtirde, ist einem Marstheater zugedacht.) [Kraus LTM- 9]. Уже в первом предложении заметно пространственно-временное разделение на «здесь и сейчас» и «где-нибудь и когда-нибудь»: «земное измерение времени» (nach dem irdischen Zeitmafi) и «марсианский театр» (ein Marstheater), существующий в ином временном измерении- «марсианский театр», лежащий в ином пространстве и «театралы этого мира» (Theaterganger dieser Welt). Далее автор продолжает выстраивать пространственно-временную парадигму драмы: локальные события таковыми не являются, приобретая общечеловеческий и, более того, космический масштаб, ведь «даже события на Зирк-Экке управляются с космического пункта» (Auch Vorgange an der Sirk-Ecke sind von einem kosmischen Punkt regiert.). О таком понимании свидетельствует и название драмы. Однако в этом месте кроется и большое противоречие. Состоящая на две трети из цитат, трагедия «Последние дни человечества» носит по-видимому документальный характер. Сам автор настаивает на аутентичности изображенных событий: «Самые невероятные деяния, указанные здесь, свершились в действительностия изобразил лишь то, что они делали. Самые невероятные разговоры, что здесь ведутся, произносились дословносамые яркие выдумки лишь цитаты» {Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehenich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gesprache, die hier geftihrt werden, sind wortlich gesprochen wordendie grellsten Erfindungen ind Zitate.). Это позволяет некоторым исследователям рассматривать «Последние дни человечества» как документальную драму, одну из первых и, вероятно, лучшую из когда-либо написанных [Timms- 510]. Однако именно документальность драмы, достигнутая за счет цитирования современной немецкоязычной прессы, правительственных манифестов, сообщений информационных агентств, военных рапортов и опубликованных в прессе литературных сочинений, не позволила драме К. Крауса приобрести общечеловеческое, международное звучание. Невозможность постичь всю глубину драмы, а порой и понять ее содержание без контекста внелитературной реальности того времени, равно как и без контекста немецкого языка, послужила препятствием тому, чтобы драма была «действительно прочитана» где-то и когда-то, кроме немецкого, даже австрийского языкового пространства послевоенного времени. Именно по этой причине, не «Последние дни человечества», но «На западном фронте без перемен» Э. М. Ремарка стали «самым значительным» произведением о первой мировой войне [Fischer, J.M.- 30].
В тексте драмы почти отсутствуют указания времени изображаемых событий, что не мешает, однако, восстановить хронологию художественного времени. Это удается за счет называния исторических событий, а также указания места действия, точного, как например, Вена. Рингштрасе. Зирк-ЭккеВ ВатиканеПратерШоттенрингРыночная площадь в Гродно {Wien. Ringstrafienkorso. Sirk-EckeIm VatikanumDer WurstelpraterSchottenring, Marktplatz in Grodno) — и приблизительного, например, Южный фронтГде-то на адриатическом побережье. В ангаре подразделения водной авиацииКупе первого классаБараки в Сибири (Sudwestfront, Irgendwo an der Adria. Im Hangar einer WasserfliegerabteilungSeparatcoupe erster KlasseBaracke in Sibirien).
Однако наряду с историческими событиями, действительно имевшими место в реальности, в текст драмы вплетены события (равно как и персонажи) вымышленные. Самым ярким примером служит, безусловно, эпилог «Последняя ночь» (Die Letzte Nacht). Он представляет собой апокалипсис человечества — «Поле боя. Воронки. Клубы дыма. Беззвездная ночь. Горизонтогненная стена. Умирающие. Появляются мужчины и женщины в противогазах». Генералы в автомобиле стремятся спастись. Появляются военные корреспонденты с фотоустановкой и делают снимки умирающих людей. Фельдфебель, угрожая пистолетом, подгоняет группу солдат. Слепой. Раненый. Гусар с мертвой головой. Под звуки марша появляется Новотный фон Эйхензиг. За ним доктор-инженер Абендрот из Берлина, автор многих военных изобретений. Темнеет. Появляются гиены с человеческими лицами, которые садятся возле трупов и что-то нашептывают им. И наконец, является Господин гиен, он же антихрист, представленный в образе издателя «Нойе Фрайе Прессе» Морица Бенедикта. С его появлением горизонт заслоняют клубы дыма. Из-за облаков, висящих черно-желтыми и цветными обрывками, выходит скарлатинно-желтая луна. На поле хаотично смешались все виды войск. Появляются три бронированных автомобиля. Люди и звери разбегаются. Смешение голосов. И в этой неразберихе звучит приговор Голосов сверху, которые называют его «контрударом». На небе появляются огненные звезды, кресты и мечи. Затем три кометы. — «Три огненных всадника на огненных конях!», как называют их Голоса сверху. Голоса снизу не осознают опасности и не боятся, как заклинания повторяя газетные клише. На небе появляется большой кровавый крест. Но и он не может образумить людей. Затем начинается кровавый дождь. Легкомысленное человечество объясняет его появление своей победой над Голосами сверху: по их мнению, это кровь небесных врагов, убитых пушками, льется на землю. За кровавым дождем следует дождь из пепла, камней, искр. Но ничто не может остановить воюющее человечество. Наконец, наступает полная тьма. И тут раздается голос кинооператора, которому темнота не позволяет вести съемку нового фильма под названием «Страшный суд». Слова оператора становятся последней каплей, переполнившей чашу терпения Голосов сверху, и, перефразируя слова императора Франца Иосифа из манифеста «К моим народам» «Я все серьезно взвесил», они принимают решение уничтожить человечество. На землю падают метеоры, ее охватывают языки пламени, раздается дальний гром, постепенно все успокаивается. Голоса сверху резюмируют: «Штурм удался. Безумна ночь была. Разрушено подобье Бога». И наступает великое молчание, которое нарушает голос Бога, произнося слова Вильгельма II, которые он произнес в начале войны: «Я этого не хотел».
В эпилоге наиболее ярко находит свое выражение основной принцип построения художественного мира драмы — соединение документальности и художественности.
Новизна работы состоит и в сближении концепции «универсального произведения искусства» Р. Вагнера и жанровой формы драмы «Последние дни человечества».
В диссертации художественный мир Крауса рассматривается, прежде всего, в аспекте жанра и языка. Язык произведений Крауса нацелен на фиксацию «обратных связей», на работу с «чужим словом». Цитирование в творчестве К. Крауса — не просто литературный прием, но конструктивный принцип художественного мира. Цитируя официальные источники Австро-Венгерской империи, вскрывая случаи плагиата, разоблачая продажных журналистов, чиновников и коррумпированных политиков, воссоздавая их собственную интонацию и виртуозно работая с «чужим словом», К. Краус дает характеристику современной эпохи. Это эпоха торжествующей «массы», «толпы». Вместе с Р. Музилем он разоблачает «фельетонный характер» современной ему действительности.
В историю европейской и мировой литературы К. Краус входит и как создатель антивоенной драмы «Последние дни человечества», во многом определившей пути развития театра XX—XXI вв.еков. Опираясь на К. Крауса, выдающиеся австрийские прозаики Э. Канетти и Г. Брох разрабатывают оригинальную концепцию «массы», «массового безумия». Современные режиссеры не оставляют попытки поставить эту универсальную драму, свидетельствуя о несомненной злободневности творчества К. Крауса. Все это определяет актуальность исследования.
Объектом анализа в диссертации являются произведения К. Крауса 1900;х — 1920;х годов: драма «Последние дни человечества» (1915;1922), публицистические тексты («Факел»), афоризмы и стихи.
Целью диссертации является исследование художественного мира К. Крауса. При этом центральными становятся проблемы жанра, стиля и языка. Для достижения этой цели оказывается необходимым решить следующие задачи: вписать творчество К. Крауса в литературно-культурный контекст эпохираскрыть соотношение между художественным миром Крауса и внелитературной реальностьюрассмотреть основные конструктивные принципы, порождающие художественный мир К. Краусаохарактеризовать «учение о языке» (Sprachlehre) К. Краусаохарактеризовать способы использования «чужого слова» и определить жанровую природу драмы «Последние дни человечества». На защиту выносятся следующие положения: v 1. Художественный мир К. Крауса — публициста и драматурга сложная система в немецкоязычном контексте 1900;х — 1920;х годов.
2. Взаимопроникновение художественного и публицистического начал — основа художественного мышления К. Крауса.
3. Конструктивные принципы порождения художественного мира Крауса — «учение о языке» и монтаж цитат, словесных и визуальных (фотография).
4. «Универсальное произведение искусства» (Gesamtkunstwerk) Р. Вагнера — жанровая модель драмы «Последние дни человечества».
5. Художественное мышление сближает К. Крауса с Р. Вагнером.
Практическая ценность диссертации определяется возможностью использовать ее результаты при подготовке лекций, спецкурсов и спецсеминаров по истории немецкоязычных литератур первой трети XX века, истории журналистики и в курсе теории межкультурной коммуникации.
Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены на международных научно-практических конференциях в Нижегородском государственном лигвистическом университете (Нижний Новгород, 2003, 2007), в Мордовском государственном педагогическом институте (Саранск, 2003), на XV и XVII Пуришевских чтениях (Москва, 2003, 2005), на второй международной конференции Российского союза германистов (Москва, 2004) и на заседаниях кафедры зарубежной литературы и межкультурной коммуникации Нижегородского государственного лингвистического университета. Результаты исследования представлены в 8 публикациях.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, приложения и списка литературы. Во Введении дается общая характеристика работы, обосновывается выбор темы, объекта исследования, определяются цель, задачи J и методы исследования, указываются научная новизна, актуальность работы,.
Выводы.
Жанровая память «универсального произведения искусства» сталкивается с индивидуальной мифологией К. Крауса, формируя основу художественного мира «Последних дней человечества». Синтез реальности и искусства, к которому стремился Р. Вагнер, нашел в творчестве венского автора оригинальное воплощение. Будущее, для которого Вагнер разработал идею универсального художественного произведения, оказалось непредсказуемым, иным. Место героев Вагнера заняла «толпа», «масса». Один из главных принципов создания художественного мира Крауса — монтаж цитат, словесных и визуальных.
Вагнер характеризует героев, опираясь на поэтику лейтмотивов. На первый взгляд серии цитат у Крауса напоминают вагнеровские лейтмотивы. Однако в отличие от лейтмотивов, характеризующих те или иные персонажи или музыкальные темы, цитаты Крауса перемещаются в речи многих персонажей, сообщая им новый смысл. В ряде случаев лейтмотивы Вагнера не столько порождают, созидают музыкальные темы и образы, сколько «разъедают» их. Эту факультативную функцию лейтмотивов Вагнера Краус использует в серии цитат. К. Краус цитирует документы истории, сохраняя их словесную форму, трансформируя при этом их смысл. Интонируя «чужое слово», запуская серии цитат, автор превращает нейтральные выражения («ich habe es nicht gewollt», «es bilden sich Gruppen», «ich habe alles reiflich erwogen») в сложные и глубокие символы. Тиражируя фразы с личным местоимением «я» («ich habe es nicht gewollt», «ich habe alles reiflich erwogen») драматург обезличивает их. Императоры предстают частью массы, толпы, входят в «обезличенное «мы», дополняя образ коллективного антигероя «универсальной драмы» «Последние дни человечества».
Заключение
.
На протяжении 36 лет Карл Краус издавал журнал «Факел», на страницах которого он протоколировал свое время. Однако эти «протоколы» свидетельствуют и о становлении художественного мира венского сатирика. Прочтение журнальных публикаций, афоризмов, стихотворений, драмы, тех «многообразных вариантов», о которых писал Р. Якобсон, позволяет приблизиться к «неразрывно и глубинно связанному» с ними «объединяющему инварианту» — художественному миру К. Крауса.
Все публикации «Факела» были откликом на злободневное событие, будь то дело Дрейфуса, скандалы в высшем свете, крушение поезда или театральная премьера. Для создания собственных сочинений К. Краусу были необходимы документальные свидетельства — газетные хроники, манифесты, официальные сообщения. Пронизанные «духом» Крауса, эти документы обретали эпохальное значение, открывали незамеченные ранее никем глубинные смыслы. Таким образом создавался художественный мир К. Крауса.
Важной особенностью художественного мира К. Крауса является приоритетная роль языка. Любое, даже самое незначительное, событие могло стать темой сочинения венского сатирика, но только одно-единственное слово могло стать выражением этого события. Написав текст за несколько часов, Краус мог неделями корректировать его, изменять, подбирая наиболее точные слова и формулировки. Для венского сатирика был важен стиль, который бы максимально соответствовал содержанию. В течение многих лет издатель «Факела» разрабатывал собственное «учение о языке», в котором соединилась любовь к языку и ненависть к пустой фразе. Это кажущееся противоречие обусловило выбор основного принципа построения произведения и, соответственно, порождения художественного мира. Таким принципом стало цитирование. Краус мастерски работает с «чужим словом»: используя монтаж цитат, он разоблачает ложь, вскрывает порок, достигает яркого сатирического эффекта. При этом его участие заключается лишь в выборе цитат, расположении их по отношению друг к другу. Иногда он добавляет заголовок, комментарий или графически выделяет отдельные слова. Таким образом ему удается почти остаться «за кадром» и добиться эффекта симультанности. Сополагая серии «чужих слов», Краус выражает собственную точку зрения. Техника цитирования не только служит созданию художественного мира Крауса, но и позволяет ему реализовывать собственную концепцию языка.
Принцип цитирования лежит и в основе антивоенной драмы «Последние дни человечества». Однако это уже не просто цитирование «чужих слов», но монтаж единиц разных видов искусств. Краус включает в текст пьесы визуальные цитаты, приводит нотные знаки, строит ряд сцен по законам языка кино. «Последние дни человечества» — «универсальное произведение искусства», возникшее в контексте немецкоязычной культуры первой трети ХХ-го столетия.
Жанровой моделью драмы «Последние дни человечества» является «универсальное произведение искусства», которое разработал и частично воплотил в музыкальных драмах Р. Вагнер. По мнению немецкого композитора, необходимый в будущем синтез всех видов искусства нашел в творчестве венского автора оригинальное воплощение. Однако, нельзя не отметить существенные различия в художественном мышлении Р. Вагнера и К. Крауса. На смену героям Вагнера пришла «толпа», «масса». Яркая индивидуальность сменилась обезличенностью, типизированностью.
Представляется естественным, что в «Последних днях человечества» жанровая память «универсального произведения искусства» сталкивается с «индивидуальной мифологией» К. Крауса. Это «столкновение» формирует художественный мир «Последних дней человечества».
Соединение документального и художественного начал в драме, как и на страницах «Факела», реализуется за счет многочисленных цитат. Краус вводит новый прием, используя в тексте драмы серии цитат.
Серии цитат у Крауса отчасти напоминают вагнеровские лейтмотивы. В ряде случаев лейтмотивы Вагнера не порождают музыкальные темы и образы, а разъедают" их. Подобная функция наблюдается в сериях цитат. Однако в отличие от лейтмотивов Вагнера цитаты Крауса лишены связи с конкретным героем или темой. Они перемещаются в речи многих персонажей. Серийность цитирования служит обезличиванию персонажей. Почти все действующие лица сливаются в «массу», создавая образ коллективного антигероя. «Чужое слово», интонированное автором «Последних дней человечества», становится символом времени.
Драма «Последние дни человечества» — «универсальное произведение искусства» эпохи распада европейских ценностей. Художественный мир пьесы возникает из противоречия между синтезом и распадом. Краус разрешает его при помощи монтажа документальных и художественных элементов, словесных, визуальных и нотных цитат. Язык пьесы, насыщенный клише, сериями цитат, диалектными вкраплениями, свидельствующими о порче языка, иллюстрирует идею распада, Апокалипсиса, «конца истории».
Список литературы
- Kraus, К.: Sittlichkeit und Kriminalitat // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. — Fr. a. M.: Suhrkamp, 1987. — 382 S.
- Kraus, K.: Die chinesische Mauer // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1987. — 337 S.
- Kraus, K.: Literatur und Luge // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1987. — 377 S.
- Kraus, K.: Untergang der Welt durch schwarze Magie // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1989. — 380 S.
- Kraus, K.: Weltgericht I // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1988. — 240 S.
- Kraus, K.: Weltgericht II // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1988. — 366 S.
- Kraus, K.: Die Sprache // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1987. — 480 S.
- Kraus, K.: Aphorismen // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1986. — 531 S.
- Kraus, K.: Gedichte // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1989. — 768 S.
- Kraus, K.: Die letzten Tage der Menschheit // Schriften. In 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1986. — 847 S.
- Kraus, K.: Dramen // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. -Fr. a. M.: Suhrkamp, 1989. 411 S.
- Kraus, K.: Dritte Walpurgisnacht // Schriften in 12 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1989. — 390 S.
- Kraus, K.: Theater der Dichtung. // Schriften in 8 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1992. — 574 S.
- Kraus, K.: Brot und Luge // Schriften in 8 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1991.- 393 S.
- Kraus, К.: Die Stunde des Gerichts // Schriften in 8 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1992. — 420 S.
- Kraus, K.: Huben und driiben // Schriften in 8 Banden. Hrsg. von Christian Wagenknecht. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1993. — 423 S.
- Die Fackel. Fotomechanischer Nachdruck. 12 Bande. Fr. a. M.: Zweitausendeins, 1977.
- Kraus, K.: Die letzten Tage der Menschheit. Fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Wien 1918/19. Fr. a. M.: Zweitausendeins, 1977. — 568 S.
- Kraus, K.: Widerschein der Fackel. Glossen. Hrsg. von Heinrich Fischer. -Munchen: Kosel, 1956. 433 S. — ISBN 3−466−10 084−4.
- Kraus, K.: Uber die Sprache. Glossen, Aphorismen und Gedichte. Auswahl und Nachwort v. Heinrich Fischer. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1987. — 88 S.
- Karl-Kraus-Lesebuch. Hrsg. v. Hans Wollschlager. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1987. -409 S.
- Kraus, K.: Unsterblicher Witz. Hrsg. von Heinrich Fischer. Munchen: Kosel, 1961.-341 S.23 .Kraus, K.: Beim Wort genommen. Hrsg. von Heinrich Fischer. Munchen: Kosel, 1955.-462 S.
- Kraus, K.: Das sprichwortliche Wiener Leben. Aphorismen, Satiren & Visionen. -Wien: Metro-Verl., 2007. 123 S. — ISBN 978−3-902 517−61−6.
- Kraus, K.: Ich bin der Vogel, der sein Nest beschmutzt. Aphorismen, Spriiche und Widerspruche. Wiesbaden: Marix Verlag, 2007. — 475 S.
- Karl Kraus und Mechtilde Lichnowsky. Briefe und Dokumente. 1916−1958. Hrsg. von Friedrich Pfaffflin und Eva Dambacher in Zusammenarbeit mit Volker Kahmen. Marbach: Deutsche Schillergesellschaft, 2000. — 255 S.
- В. Произведения других авторов:
- Brod, M.: Streitbares Leben. Munchen: Kindler, 1960.
- Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921−1931. Fr. a. M.: Fischer Verl., 1982.
- Friedell, E.: Meine Doppelseele. Wien-Munchen, 1985.
- Kafka, F.: Briefe 1902−1924. / Kafka, F.: Gesammelte Werke. Hrsg. von Max Brod. Taschenbuchausgabe in 8 Banden. Fr. a. M., 1975.
- Kuh, A.: Der Affe Zarathustras (Karl Kraus) // Kuh, A.: Lufitlinien. Feuilletons, Essays und Publizistik. Hrsg. von Ruth Greuner. Wien: Locker Verl., 1981. -153−204 S.
- Mahler-Werfel, A.: Mein Leben. 35. Auflage. Fr. a. M.: Fischer Verl., 2000. -375 S. — ISBN 3−596−20 545-X.
- Musil, R.: Briefe 1901−1942. Hrsg. von Adolf Frisg. Reinbeck, 1981.
- Peter Altenberg: Rezept die Welt zu sehen: kritische Essays, Briefe an K. Kraus, Dokumente zur Rezeption, Titelregister der Biicher / Andrew Barker und Leo A. Lensing. Hrsg.: Wendelin Schmidt-Dengler. Wien, 1995.
- Weininger, O.: Uber die letzten Dinge. Munchen, 1980.
- Wittgenstein, L.: Briefe. Hrsg. von B.F. McGuinness und G.H. von Wright. -Fr.a.M.: Suhrkamp, 1980. 59−83 S. — ISBN 3−518−7 535−7.
- Брехт Б. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Искусство, 1976. — 527 с.
- Бюхнер Г. Пьесы, проза, письма. М.: Искусство, 1972. — 384 с.
- Гете И.В. Фауст // Гете И. В. Страдания юного Вертера: Роман- Фауст: Трагедия- Стихотворения: Пер. с нем. М.: НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство ACT», 2003. — С. 117−584.
- Кафка Ф. Афоризмы- Письмо к отцу- Письма: Пер. с нем. / Сост. Д.В. Затонского- Коммент. А. В. Карельского и др. Харьков- М., 2000.
- Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. Пер. с нем. Д. В. Затонского. // Цвейг С. Статьи, эссе. «Вчерашний мир. Воспоминания европейца». Пер. с нем./ Предисл. Д.В. Затонского- вступит, статья К. А. Федина. М.: Радуга, 1987. — 478 с.
- С. Специальные работы о Карле Краусе:
- Alda, P.: Karl Kraus' Verhaltnis zur Publizistik. Bonn: ALDA! Der Verlag, 2002.-208 S.
- Anhang: Zeugnisse Otto Stoessls iiber Karl Kraus / Karl Kraus. Otto Stoessl. Briefwechsel 1905−1925. Hrsg. von Gilbert J. Carr. Wien: Franz Deuticke Verlag, 1996.-S. 268−285.
- Avery, G.C.: Editorische Notiz // Feinde in Scharen. Ein wahres Vergniigen dazusein. Karl Kraus Herwath Walden. Briefwechsel 1909−1912. Hrsg. von George C. Avery. — Gottingen: Wallstein Verlag, 2002. — S. 418−419.
- Avery, G.C.: Nachwort // Feinde in Scharen. Ein wahres Vergniigen dazusein. Karl Kraus Herwath Walden. Briefwechsel 1909−1912. Hrsg. von George C. Avery. — Gottingen: Wallstein Verlag, 2002. — S. 615−632.
- Bilke, M.: Karl Kraus. Bonn: Kollen Druck + Verl., 1986. — 18 S.
- Bilke, M.: Zeitgenossen der «Fackel». Wien, 1981. — 327 S.
- Bin Gordon, E.: Der Fackel-Reiter. Ein Wort iiber Karl Kraus. Berlin: Morgenland-Verlag, 1932. — 16 S.
- Bohn, V.: Satire und Kritik. Uber Karl Kraus. Fr. a. M.: Athenaion, 1974. — S. 57−74.
- Borries, M.: Ein Angriff auf H. Heine. Kritische Betrachtungen zu Karl Kraus. -Stuttgart u.a.: Verl. W. Kohlhauner, 1971. 108 S.
- Carr, G.J.: Einleitung: Karl Kraus und Otto Stoessl / Karl Kraus. Otto Stoessl. Briefwechsel 1905−1925. Hrsg. von Gilbert J. Carr. Wien: Franz Deuticke Verlag, 1996. — S. 11−32.
- Die Belagerung der Urteilsmauer. Karl Kraus im Zerrspiegel seiner Feinde. Hrsg. von F. Schuh, J. Vogel. Edition S. Verlag der Osterreichischen Staatsdruckerei, 1986.-215 S.
- Disch von Pfyn, A.: Das gestaltete Wort. Die Idee der Dichtung im Werk von Karl Kraus.-Zurich, 1969.
- Engelmann, P.: Dem Andenken an Karl Kraus. Tel-Aviv, 1949. — 34 S.
- FassIer, P.: Studien zur «Sprachlehre» von Karl Kraus. Zurich, 1972.
- Fedjajewa, Т.: К. Kraus und M. Bachtin: ein Dialog, der nicht stattgefunden hat // Interkulturelle Erforschung der osterreichischen Literatur. Sammelband. -St.Ingbert, 2000. S. 267−276.
- Fischer, H.: Nachwort // Kraus, K.: Mit vorzuglicher Hochachtung. Briefe des Verlags der Fackel. Miinchen, 1962.
- Fischer, J.M.: Karl Kraus. Stuttgart, 1974. — 82 S.
- Goltschnigg, D.: Die Fackel ins wunde Herz. Kraus uber Heine. Eine «Erledigung»? Texte, Analyse, Kommentar. Wien: Passagen Verl., 2000. — 485 S. — ISBN 3−85 165−400−5.
- Haas, F.: Weltfreunde und Norgler. Von der Not des Expressionismus in Osterreich / Literaturgeschichte: Osterreich: Prolegomena und Fallstudien / Hrsg. von Wendelin Schmidt-Dengler u.a. Berlin, 1995.
- Haas, W.: Die literarische Welt. // Die Belagerung der Urteilsmauer. Karl Kraus im Zerrspiegel seiner Feinde. Hrsg. von F. Schuh, J. Vogel. Wien, 1986.
- Hawig, P.: Dokumentarstuck-Operette-Welttheater. «Die letzten Tage der Menschheit» von Karl Kraus in der literarischen Tradition. Essen: Verlag Die blaue Eule, 1984. — 147 S. — ISBN 3−924 368−18-X.
- Heller, E.: Enterbter Geist. Essays uber modernes Dichten und Denken. -Wiesbaden, 1954.-242 S.
- Jaromir: Letzten Endes. Eine Studie iiber Karl Kraus. Wien, 1934.
- Jenaczek, F.: Zeittafel zur «Fackel». Themen Ziele — Probleme. — Grafelfing bei Munchen: Edmund Gaus Verl., 1965. — 192 S.
- Karl Kraus Asthetik und Kritik: Beitrage des Kraus-Symposiums Poznan. Hrsg. von Stefan H. Kaszynski- Sigurd Paul Scheichl. — Munchen, 1989.
- Karl Kraus. Die letzten Tage der Menschheit. Materialien und Kommentare.
- B. 5,2. Hrsg. von Kurt Krolop in Zusammenarbeit mit einem Lektorenkollektiv unter Leitung von Dietrich Simon. Berlin, 1978. — 391 S.
- Karl Kraus. Dokumente und Selbstzeugnisse. Zurich: Pegasus Verl., 193?. -32 S.
- Karl Kraus. Diener der Sprache. Meister des Ethos. Hrsg. von Joseph Strelka. -Tubingen: Francke Verl., 1990. 356 S.
- Karl Kraus. The Vienna coffeehouse wits, 1890 1938. Translated, edited, and with introduction by Harold B. Segel. — West Lafayette, Indiana: 19??.
- Karl Kraus in neuer Sicht. Londoner Kraus-Symposium. Hrsg. von Sigurd Paul Scheichl und Edward Timms. Munchen, 1986. — 254 S.
- Karl Kraus und Die Fackel. Aufsatze zur Rezeptionsgeschichte. Hrsg. von Gilbert J. Carr und Edward Timms. Munchen, 2001. — 246 S.
- Knepler, G.: Karl Kraus liest Offenbach. Erinnerungen, Kommentare, Dokumentationen. Wien, 1984. — 256 S.
- Kohn, H.: K. Kraus. A. Schnitzler. O. Weininger. Aus dem jiidischen Wien der Jahrhundertwende. Thiibingen, 1962. — 72 S.
- Kohn, K.: Karl Kraus. Stuttgart, 1966.
- Kraft, W.: Verschollene und Vergessene. Karl Kraus. Eine Einfuhrung in sein Werk und eine Auswahl von Werner Kraft. Wiesbaden, 1952.
- Kraft, W.: Karl Kraus. Beitrage zum Verstandnis seines Werkes. Salzburg, 1956.
- Kraft, W.: Das Ja des Neinsagers. Karl Kraus und seine geistige Welt. -Munchen, 1974.-248 S.
- Krebs, H.: Der Friedensgedanke in den Werken von Karl Kraus. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Wien, 1952. — 152 S.
- Lang, U.: Mordshetz und Pahol, Austriazismen als Stilmittel bei Karl Kraus: eine Analyse ausgewahlter polemischer Schriften mit einem Worterbuch. Innsbruck: Inst, fur Germanistik, 1992. — 178 S. — ISBN 3−901 064−08−7.
- Lensing, L.: Karl Kraus im englischen Sprachraum // Karl Kraus. Katalog einer Ausstellungdes Bundesministeriums fur Auswertige Angelegenheiten, zusammengestellt v. Heinz Lunzer in Zusammenarbeit mit S.P. Scheichl. Wien, 1986.
- Liegler, L.: In memoriam Karl Kraus. Wien: Verl. der Buchhandlung Richard Lanyi, 1936.-16 S.
- Moenius, G.: Karl Kraus. Der Zeitkampfer sub specie aeterni. Wien: Verl. der Buchhandlung Richard Lanyi, 1937. — 16 S.
- Murauer, M.: Karl Kraus und das Judentum. Von den friihen Stellungnahmen in der «Fackel» bis zur Darstellung des «Judischen» in den «Letzten Tagen der Menschheit». // http://www.aurora-magazin.at/wissenschaft/ murauerkraus. htm
- Muller, В.: Karl Kraus: Mimesis und Kritik des Mediums. Stuttgart, 1995. — 516 S.
- Nenning, G.: Karl Kraus. Er war ein Journalist. // Nenning, G.: Kostbarkeiten osterreichischer Literatur. 111 Portrats in Rot-Weifl-Rot. Hrsg. von Peter Csulak. Wien: Carl Ueberreuter, 2003. — S. 155−157.
- Pfabigan, A.: Geistesgegenwart. Essays zu Joseph Roth, Karl Kraus, Adolf Loos, Jura Soyfer. Wien, 1989/90.
- Pfabigan, A.: Karl Kraus und der Sozialismus. Eine politische Biographie. -Wien: Europaverlag, 1976. 364 S. — ISBN 3−203−50 593−2.
- Quack, J.: Bemerkungen zum Sprachverstandnis von Karl Kraus. Bonn, 1976.
- Radecki, S.: Karl Kraus und die Sprache // Radecki, S.: Wie ich glaube. Koln und Olten, 1953.
- Rieckmann, J.: Aufbruch in die Moderne: Die Anfange des Jungen Wien: Osterreichische Literatur und Kritik im Fin de Siecle. Konigstein: Athenaum, 1985.
- Rode, S.: Alban Berg und Karl Kraus. Fr. a. M., Bern, 1988.
- Rollet E.: «Die letzten Tage der Menschheit"// Karl Kraus. Dokumente und Selbstzeugnisse. Zurich, 193?.
- Rothe, F.: Karl Kraus. Eine Biographie. Munchen, 2003.
- R6ssler, H.: Karl Kraus und Nestroy. Kritik und Verarbeitung. Stuttgart: Akademischer Verl. Hans-Dieter Heinz, 1981. — 208 S. — ISBN 3−88 099−094−8.
- Ruske, N.: Szenische Realitat und historische Wirklichkeit. Eine Untersuchung zu Karl Kraus: «Letzte Tage» Fr. a. M., 1981.
- Schaukal, R.: Karl Kraus. Versuch eines Bildnisses. wien-Leipzig: Reinhold-Verl., 1933.-86 S.
- Scheu, R.: Karl Kraus. Wien, 1909.
- Schick, P.: Karl Kraus. Reinbeck, 1989.
- Schneider, M.: Die Angst und das Paradies des Norglers. Versuch iiber Karl Kraus.-Fr. a. M., 1977.
- Sonino, C.: Zur Karl-Kraus-Rezeption in Italien // Karl Kraus. Katalog einer Ausstellungdes Bundesministeriums fur Auswertige Angelegenheiten, zusammengestellt v. Heinz Lunzer in Zusammenarbeit mit S.P. Scheichl. Wien, 1986.
- Stephan, J.: Satire und Sprache. Zu dem Werk von Karl Kraus. Munchen, 1964.
- Stieg G. Der Brenner und Die Fackel. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte von Karl Kraus. Salzburg, 1976. — 380 S.
- Stieg, G. Die totale Satire. Von Johann Nestroy iiber Karl Kraus zu Th. Bernhard. // Osterreich (1945−2000). Das Land der Satire. Hrsg. von Jeanne Benay und Gerald Stieg. Bern, 2002.
- Straub, S.: Der Polemiker Karl Kraus. Drei Fallstudien. Marburg: Tectum Verl., 2004. — 249 S. — ISBN 3−8288−8678−7.
- Thalken, Michael: «Ein bewegliches Heer von Metaphern.»: sprachkritisches Sprechen bei F. Nietzsche, G. Gerber, F. Mauthner und K. Kraus. Fr. a. M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1999. — 393 S.
- Theurer, M.: Die Darstellung des Journalisten in Dramen von H. Bahr, A. Schnitzler und Karl Kraus. Ein Beitrag zum literarischen Journalismus. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Wien, 1983. — 386 S.
- Timms, E.: Karl Kraus. Satiriker der Apokalypse. Aus dem Englischen von M. Looser und M. Strand. Wien, 1995.
- Tucholsky, K.: Karl Kraus liest. / Die Fackel. № 531 — 543. — S. 24−25.
- Ungar, R.: Letzten Endes. Eine Studie uber Karl Kraus. Wien, um 1934.
- Wagenknecht, Ch.: Das Wortspiel bei Karl Kraus. 2. Auflage. Gottingen, 1975.- 175 S.
- Wagner, N.: Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. Fr. a. M., 1981. — 289 S.
- Weigel, H.: Karl Kraus oder Die Macht der Ohnmacht. Versuch eines Motivenberichts zur Erhellung eines vielfachen Lebenswerks. Wien-Miinchen, 1986.-341 S.
- Wollschlager, H.: Die Instanz K.K. oder Unternehmungen gegen die Ewigkeit des Wiederkehrenden Gleichen // Karl-Kraus-Lesebuch. Hrsg. v. Hans Wollschlager. -Fr.a.M., 1987.
- Zohn, H.: Karl Kraus / Harry Zohn. Aus d. Amerikan. von Ilse Gosmann. Fr. a. M.: Anton Hain Verl., 1990. — 187 S. — ISBN 3−445−8 556−0.
- Федяева Т.А. Людвиг Витгенштейн и Карл Краус // Вопросы философии. 1998.-№ 5.-С. 106−112.
- Ackerl, I.: Wiener Moderne 1890−1910. Hrsg. von Bundespressedienst. Wien, 1999.-43 S.
- Beyer, R.: Untersuchungen zum Zitatgebrauch in der deutschen Lyrik nach 1945. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der philosophischen Fakultat der Georg-August-Universitat zu Gottingen, 1975. 354 S.
- Brenner, P. J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Vom «Ackermann» zu Gunter Grass. 2., aktualisierte Auflage. Tubingen: Max Niemezer Verlag, 2004. — 397 S.
- Broch H.: Hofmannsthal und seine Zeit. Eine Studie.// Broch H. Kommentierte Werkausgabe. Hrsg. von Paul M. Liitzeler. Band 9/1. Schriften zur Literatur 1. Kritik. Fr. a. M.: Suhrkamp Verl., 1986. — S. 111−285. — ISBN 3−518−2 499-X.
- Brook-Shepherd, G.: Osterreich. Eine tausendjahrige Geschichte. Aus dem Englischen von Edith Hafllacher. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 1998. — S.169−234. — ISBN 3−552−4 876−6.
- Die Wiener Jahrhundertwende. Einflusse. Umwelt. Wirkungen. Hrsg. von Jiirgen Nautz und Richard Vahrenkamp. Wien- Koln- Graz: Bohlau Vlg., 1993. — 728 S.
- Gegen den Traum vom Geist. Ferdinand Ebner. Beitrage zum Symposium Gablitz 1981. Hrsg. von W. Methlagl, P. Kampits, Ch. Konig, F.J. Brandfellner. -Salzburg, 1985.
- Kablitz A.: Jenseits der Decadence: Thomas Manns Tristan II Fin de siecle. Hrsg. von Rainer Warning und Winfried Wehle. Munchen: Wilhelm Fink Vlg., 2002.
- Lipinski, K.: Das literarische Kaffeehaus als Schauplatz modernistischer und antimodernistischer Spielereien. / Lipinski, K.: Auf der Suche nach Kakanien: literarische Streifzuge durch eine versunkene Welt. St. Ingbert, 2000.
- Loos, A.: Die Potemkin’sche Stadt // Loss, A.: Die Potemkin’sche Stadt. Verschollene Schriften 1897- 1933. Hrsg. von Adolf Opel. Wien, 1983.
- Lorenz, D.: Wiener Moderne. Stuttgart- Weimar, 1995. — 220 S.
- Martensson, В.: Wittgenstein und das Unsagbare / Osterreichische Beitrage iiber Sprache und Literatur. Hrsg. von Christiane Pankow. Universitat Umea (Schweden), 1992.
- Michael, Fr.- Daiber, H.: Geschichte des deutschen Theaters. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1990.-202 S.
- Nolting, W.: Der totale Jargon. Die dramatischen Beispiele Odon von Horvaths. Hrsg. von Helmut Arntzen. Munchen, 1976.
- Pankow, Ch.: Objektsprache, Metasprache und konkrete Poesie. Zwei Gedichte von Ernst Jandl / Osterreichische Beitrage iiber Sprache und Literatur. Hrsg. von Christiane Pankow. Universitat Umea (Schweden), 1992.
- Schiferer, В.: Das Wiener Kaffeehaus und die Kunst // Jahrbuch der Osterreich-Bibliothek in St. Petersburg. Bd. 4/II. 1999/2000. — S. 603−612.
- Schlogel, K.: Der Damon der Gewalt // Der Spiegel. Nr. 9. 2002. S. 102−116.
- Schmidt-Dengler, W.: Das Gebet in die Sprache nehmen. Zum Sakularisationssyndrom in der osterreichischen Literatur der siebziger Jahre /
- Osterreichische Beitrage iiber Sprache und Literatur. Hrsg. von Christiane Pankow. Universitat Umea (Schweden), 1992.
- Steutzger, I.: «Zu einem Spachspiel gehort eine ganze Kultur.» Wittgenstein in der Prosa von Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard. Freiburg im Breisgau, 2001.
- Todtenhaupt, M.: Unterwegs in der Sprache mit Heidegger und Handke / Osterreichische Beitrage iiber Sprache und Literatur. Hrsg. von Christiane Pankow. Universitat Umea (Schweden), 1992.
- Vogelsang, H.: Osterreichische Dramatik des 20. Jahrhunderts. Spiel mit Welten, Wesen, Worten. Wien, 1981.
- Weiss, W.: Ausblick auf eine Geschichte osterreichischer Literatur / Literaturgeschichte: Osterreich: Prolegomena und Fallstudien / Hrsg. von Wendelin Schmidt-Dengler u.a. Berlin, 1995.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
- Брехт Б. О театре. Сборник статей. Пер. с нем. М.: Изд-во иностр. литры, 1960.-363 с.
- Вагнер Р. Произведение искусства будущего // Вагнер Р. Избранные работы. Вст.ст. А. Ф. Лосев. М., 1978.
- Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера три мира. Пер. с нем. Д. Б. Александрова, А. В. Михайлова, С.В. Рожновского- Предисл.И. Ф. Бэлзы -М., 1986.
- Гаспаров М.Л. Художественный мир М. Кузмина: тезаурус формальный и тезаурус функциональный // М. Л. Гаспаров. Избранные статьи. М., 1975.
- Жеребин А.И. Вертикальная линия. Философская проза Австрии в русской перспективе. СПб., 2004.
- Жеребин А.И. Философская проза Австрии в русской перспективе (эпоха модернизма). Автореферат дисс.. доктора филол. наук / А. И. Жеребин, -СПб, 2006.
- Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX—XX вв. Очерки. / Отв. ред. М. Ю. Давыдова. М.: Изд-во РГГУ, 2001.-436 с.
- Затонский Д.В. Художественные ориентиры XX века / Д. В. Затонский. -М.: Сов. писатель, 1988. 413 с. — ISBN 5−265−1 020−3.
- Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма. Изд. 2-е, исправ. -М.: Высшая школа, 1972. 135 с.
- Зусман В.Г. Художественный . мир Франца Кафки. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. / В. Г. Зусман. -Н.Новгород, 1997.-440 с.
- История Франции. В трех томах. Т.2. М., 1973.
- Кнеплер Г. О принципах формообразования у Вагнера // Рихард Вагнер: Сборник статей / Ред.-сост. Л.Полякова. М., 1987.
- Ковтунова И.И. Функции цитат в произведениях И.А. Гончарова // Текст. Интертекст. Культура. Сборник докл.междунар.науч.конф. М., 2001.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман (1967) // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1995. № 1.
- Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с франц. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. — 656 с.
- Лосев А.Ф. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера. // Лосев А. Ф. Филососфия. Мифология. Культура. М., 1991.
- Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение / Сост. А.А. Тахо-Годи. М., 1995.
- Лотман Ю.М. Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3-х тт. Т. З. Таллинн, 1993.
- Лукницкий П.Н. Из дневников // Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма / Сост. М. М. Кралин. Л., 1990.
- Мамардашвили М.К. Вена на заре XX века. // Как я понимаю философию. -М., 1992.
- Михайлов А.В. Из источника великой культуры. Золотое сечение. Der goldene Schnitt: Австрийская поэзия XIX—XX вв.еков в русских переводах / Предисл. А. В. Михайлова. М., 1988.
- Москвин В.П. Цитирование, апликация, парафраз: к разграничению понятий // Филологические науки. 2002. № 1.
- Науменко A.M. Творческий метод Карла Крауса-драматурга. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1975.
- Науменко A.M. Жанровая специфика австрийской драмы 1918−1938 годов. Автореферат диссертации. доктора филологических наук. М., 1989.-49 с.
- Орджоникидзе Г. Диалектика формы в музыкальной драме // Рихард Вагнер: Сборник статей / Ред.-сост. Л.Полякова. М., 1987.
- Павлова Н.С. Предисловие. // Экспрессионизм / Сост. Н. С. Павлова. М., 1986.
- Павлова Н.С. Масса, власть и писатель Канетти. // Э. Канетти Человек нашего столетия // Сост. Н. С. Павлова. М., 1990.
- Пронин В.А. Поэзия Генриха Гейне. Генезис и рецепция. Автореферат дисс. канд.филол.наук / В. А. Пронин. -М., 1994.
- Слободкин Г. С. Венская народная комедия XIX века. М.: Искусство, 1985.-223 с.
- Сыч А.И. О некоторых социально-психологических последствиях первой мировой войны//Вопросы истории. № 11−12.-2001.-С. 109−113.
- Туполев Б.М. Происхождение первой мировой войны // Новая и новейшая история. № 5. — 2002. — С. 27−46.
- Туполев Б.М. Происхождение первой мировой войны. Образование военно-политических блоков. Предвоенные международные кризисы. // Новая и новейшая история.- 2002. № 5. — С. 35−53.
- Федоров Ф.П. Романтизм и бидермайер // Russian Literature. XXXVIII. -North Holland. — 1995. — P. 241−242.
- Федоров Ф.П. Система точек зрения в художественном мире позднего Гофмана // В мире Гофмана: Сб. статей / Калинингр. ун-т, Гофман-центр. Гл. ред. В. И. Грешных. Калининград. Вып. 1. 1994. — С. 88−109.216.
- Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн: Историко-культурный очерк / Пер. с нем. В. А. Ерохина. СПб., 2001.
- Шорске К.Э. Вена на рубеже веков. Политика и культура. / Австрийская библиотека. М.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2001. — 520 с.
- Шульц С.А. Драма как объект исторической поэтики и герменевтики // Филологические науки. 2004. — № 2.
- Якобсон Р. Избранные работы. / Сост. и общая редакция В. А. Звегинцева. -М., 1985.140