Негативная эстетика комического: ОБЭРИУ
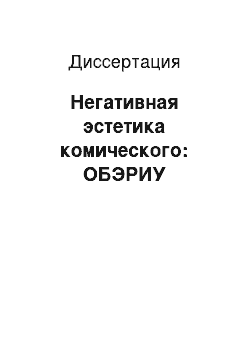
В связи с этим в работе подчеркивается зависимость развития форм комического от изменения статуса безобразного в культуре. Идея безобразного как интегральной эстетической категории не нова, как и утверждения Аристотеля, Шлегеля и Н. Чернышевского о том, что безобразное лежит в основе комического. Мы развиваем эти мысли в теорию зависимости форм комического описания (от сатиры до черного юмора… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1.
- Негативная эстетика комического
- 1. 1. Роль смеха в архаической, античной и средневековой культуре
- 1. 2. Репрезентации безобразного и их актуализация в комическом
- Глава 2.
- Безобразное как объект эстетико-философской рефлексии у обэриутов
- 2. 1. Эстетика безобразного обэриутов
- 2. 2. Поэтика безобразного в прозе Д. Хармса
- Глава 3.
- Актуальные проблемы изучения негативной эстетики комического
- 3. 1. Аксиосфера комического
- 3. 2. Особенности комического катарсиса
Негативная эстетика комического: ОБЭРИУ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
исследования.
Современная культура характеризуется резким возрастанием комических жанров во всех видах искусства. Комическое присутствует в форме литературных описаний действительности и ее явлений, кинематографических, живописных, архитектурных изображений и театральных представлений. Кроме того, следует отметить возрастание комизма культуры в целом, что демонстрируют СМИ на примере каждодневных радиои телепрограмм, рекламных роликов и баннеров. В сетях всемирной паутины комическому уделяется особое место, появляются новые типы комических объектов: мемы, демотиваторы.
С одной стороны, развитие комического в культуре оказывает положительное влияние как на личность, так и на общество в целом. Смех обладает терапевтическим значением: избавление от депрессивных состояний и «подавленных» эмоций, происходит биологическое омоложение, смех продлевает жизнь. «Смешное» является востребованным продуктом массового потребления, потому что людям нравится обнаруживать, испытывать радость и удовольствие от «смешного».
Культурная роль смеха заключается в формировании условий для перехода из «старого» в «новое», а также в освобождении от запретов, нарушении табу. Кроме того, комическое в различных формах — скрытый способ передачи духовной информации. Времена сталинских репрессий с точки зрения комической истории можно назвать «эпохой анекдота», с помощью которого люди продолжали общаться, делиться пережитым, давая оценку происходящему в стране.
С другой стороны, «освобождение» культуры не всегда имеет положительные последствия, как для нее самой, так и для личности. «Пошлый», «грубый», «вульгарный», «глупый» смех вряд ли может по-настоящему сформировать общество свободы: он будит инстинкты в человеке, обращая его в первобытное состояние. Циничный смех вредит, делая личность бесчувственной к страданию окружающих. Комическое мировосприятие и мироотношение, сформированные культурой, могут быть опасными для ее дальнейшего развития и функционирования. Такой смех способствует десоциализации и деградации личности, атомизации общества.
Смех может являться как орудием освобождения, так и орудием заточения. В любом случае, человечеству необходимо научиться им пользоваться. Поэтому возвращение к разговору о природе смешного/комического представляется своевременным.
Комическое, с точки зрения эстетической теории, является категорией динамической. Развитие комического происходит на протяжении всей истории развития человеческого общества: от времени первобытных племен до современного общества «противоречий», космополитизма и сепаратизма, капитализма и социализма, индустриализации и экологизации. Историческое развитие комического привело к образованию следующих форм подачи смешного: гротеск, пародия, юмор, ирония, сарказм, сатира, черный юмор, абсурдный смех и др. Поэтому многовековая история развития теории комического, начавшаяся с «Поэтики» Аристотеля, еще не завершена. В эстетике комического появились новые вопросы, требующие исследовательского внимания.
Степень разработанности проблемы.
Проблема комического широко представлена в исследовательской литературе и включает в себя целый спектр вопросов.
Первым пунктом может быть представлен вопрос о разграничении понятий смешного и комического. Комическое — эстетическая категория, объединяющая все феномены культуры, требующие смеховой разрядки. Комическое и смешное различаются по способу реализации: комическое тяготеет к «интеллектуально-смысловому» сдвигу1- смешное отражает лишь аспект эмоционального подъема (радости, ощущения счастья) и не обладает эвристической функцией. М. Каган впервые указал на соотношения стадий развития онтои филогенеза, т. е. индивидуальным развитием и развитием культуры. Если смех детский является витальным и означает довольство, радость, то смех взрослого вызывается более сложными, прежде всего разумными, а не физиологическими причинами. Процесс перехода от смешного (радостного, ликующего) к комическому (смеху, обусловленному пониманием) происходит с развитием сознания человека.
Обращаясь к ранним смеховым эпохам, исследователи3 подчеркивают магическое значение смеха. Древние ритуалы еще не знают комизма как такового, хотя и используют современные приемы комического. Средневековая культура, сохранившая во многом еще архаические представления о смехе-жизнедателе (В. Пропп), переходит на уровень комического. Карнавальные, шутовские миры, а также мир юродивого конструировались как «сниженные» копии мира повседневного, вследствие чего вызывали смех живой, интеллектуальный, являющийся реакцией на искажение действительности. М. Бахтин, Л. Пинский, А. Гуревич, Т. Мальчукова, В. Даркевич, В. Колязин, а также Д. Лихачев, Б. Успенский, А. Панченко, Н. Понырко дают яркое представление о средневековой смеховой культуре как попытке создания «неподобного подобия» повседневного, обыденного мира4.
1 См.: Бычков В. В. Эстетика. М., 2008. 573 с.
2 См.: Каган М. С. Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении. СПб., 2006.
3 См.: Фрейденберг О. М Миф и литература древности. М., 1998; Она же. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997; Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). М., 1999.
4 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья (1965) // Собрание сочинений: в 7 т. Т.4(2). М., 2010. С. 7−517- Гуревич, А. Я. Смех в народной культуре Средневековья // Вопросы литературы. 1966. № 6. С. 207−213- Даркевич В. П. Народная культура Средневековья: пародия в литературе и искусстве IXXVI вв. М., 2004; Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. М., 2002; Лихачев Д. С., Панченко A.M., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984; Мальчукова Т. Г. Комическое в античной литературе и европейская традиция. Петрозаводск., 1989; Пинский JI.E. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотг. М., 1989; Он же. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.
Следующий вопрос, интересующий исследователей, — разнообразие приемов комического (форм комического), наиболее популярными из которых являются гротеск, пародия (архаика), ирония (романтизм), сатира (классицизм), юмор (в т.ч. черный), абсурд. Этим вопросам посвящены труды Т. Любимовой, В. Пивоева, Ю. Борева, А. Зверева и проч1. В. Пивоев определяет иронию как «мнимую похвалу того, что заслуживает уничтожения», а гротеск — как «форму сатиры, характеризующуюся чрезмерным искажением негативных элементов действительности, доводящим до абсурда противоречие изображаемого явления и обыденного здравого смысла"3. Т. Любимова считает гротеск «моментальным снимком незаконченного превращения"4. Впрочем, спор о комических формах не является предпочтительным объектом нашего исследования.
Гораздо более важным представляется предпринять попытку создания всеобщей теории комического, которая бы выявила универсальный принцип построения форм комического. Этот вопрос, казалось бы, серьезно разрабатывался с античности (Аристотель «Поэтика»). И на современном этапе мы обладаем огромной суммой знаний о теории комического. Условно все теории комического Ю. Борев делит на две подгруппы.
Теория превосходства обнаруживает превосходство субъекта над объектом, вследствие отрицательного свойства последнего или деградации его. В этом случае смех субъекта объясняется стремлением возвыситься над негативной стороной жизни, поднять самого себя над рассматриваемым явлением. Об этом пишут Т. Гоббс, К. Уберхорст, А. Бэн, А. Стерна. К этой же категории мы бы отнесли теорию остроумия З. Фрейда (хотя Ю. Борев относит ее ко второй группе), а также размышления А. Бретона о черном юморе.
1 См.: Борев Ю. Комическое или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. М., 1970; Бретон А. Антология черного юмора. М., 1999; Зверев A.M. Дональд Бартельм: абсурдизм по-американски. М., 1979; Любимова Т. Б. Комическое, его виды и жанры. М. 1990; Пивоев В. М. Ирония как феномен культуры. Петрозаводск, 2000.
2 Пивоев В. Указ. соч. С. 37.
3 Там же. С. 39.
4 Любимова Т. Б. Указ. соч. С. 29.
Теория противоречия (или несоответствия) предполагает, что причина смеха заключена в рецептивной «двойственности» предмета. В эту группу Ю. Борев объединет идеи контраста (Ж. Поль, И. Кант, Г. Спенсер, Т. Липпс, Г. Хоффдинг) — противоречия идеалу (А. Шопенгауэр, Г. Гегель, Ф. Фишер, Н. Чернышевский) — отклонения от нормы (К. Гросса, Э. Обуэ, С. Мильтона Нахама, Б. Дземидок) — теории пересекающихся мотивов (А. Бергсон, З. Фрейд, А. Луначарский) — противопоставления безобразного прекрасному (Аристотель), ничтожного — возвышенному (И. Кант), нелепого — рассудительному (Жан Поль, Шопенгауэр), бесконечной предопределенности — бесконечному произволу (Шеллинг), образа — идее (Фишер), автоматического — живому (Бергсон), неценного — притязающему на ценность (Фолькельт), необходимогосвободному (Act, Шютце), ничтожного — великому (Липпс), ложного, мнимогозначительному, прочному и истинному (Гегель), внутренней пустотывнешности, притязающей на значительность (Н. Чернышевский), нижесреднего — вышесреднему (Н. Гартман)"1.
Теории превосходства и теория противоречия отражают два типа подхода к проблеме — с точки зрения субъекта и с точки зрения объекта, об этом пишет Т. Б. Любимова: «К теориям первого типа, т. е. тем, которые исходят из указания на обычные и необходимые характеристики смешного, того, над чем смеются, относятся теории контраста, несоответствия, противоречия, несообразности низменного (когда низкий предмет или лицо претендует быть возвышенным) — безобразного, но безвредногонеприличного, но втайне привлекающего интерес: теории ошибки, оплошности и т. п.
Напротив, теории второго типа тяготеют к тому, чтобы указать, какое чувство испытывает человек при встрече с комическим, или, точнее, какое чувство или состояние скрывается за реакцией смеха на ту или иную ситуацию. Здесь мы встретим мысль, что в основе лежит чувство превосходствасюда относятся теории неожиданности («обманутого ожидания»), новизны, защитной реакции, комического как «возвышенного наизнанку» (Жан Поль), рассеивания иллюзий,.
1 Борев Ю. Указ. соч. С. 43. избытка психической энергии, встречи души с «ничто» (И.Кант), когда нам дается откровение небытия"1.
С субъективной теорией комического так или иначе соотносятся современные исследования, но, вдобавок, все они усиливают гносеологический аспект. Т. Б. Любимова, развивая учение А. Шопенгауэра, утверждает, что в основе комического — «несообразность гносеологического толка»: «Мир есть прежде всего несоответствие. Главное несоответствие состоит в том, что наши представления, в которых только для нас мир и может существовать, вовсе не сообразны изначальной „воле к жизни“, которая и есть мир сам по себе. Эта изначальная несообразность осознается нами как страдание, что составляет глубинный комизм нашего существования» — Т. Г. Мальчукова пишет, что «удовольствие от комического состоит в познании нового». М. Т. Рюмина утверждает, что в комическом происходит «разрушение видимости"4. По мнению А.Г. и Д. Г. Черемухиных «всплески юмора и остроумия являются творческими инсайтами, родственными научным озарениям"5. Для В. М. Пивоева «мотивационная основа юмора составляют потребности познания и экономии сил. Остроумный ход, ищущий мысли, не только приближается к истине, но и ведет к решению логической задачи неожиданно коротким путем. В юморе всегда торжествует превосходство нового знания над несовершенством, громоздкостью и нелепостью устаревших норм» [94, с. 36]. В дополнение к сказанному, следуют замечания Г. Л. Тульчинского о том, что классическая комическая ситуация, строится на противоположности «недостатка понимания» у объекта смеха и «избытка понимания» у субъекта. Только в таком случае смех возможен, когда налицо превосходство познающего субъекта6. A.A. Сычев утверждает вслед за Г. Л. Тульчинским «эвристичность смеха»: «в нем.
1 Любимова Т. Б. Указ. соч. С. 6.
2 Там же. С. 4−5.
3 Мальчукова Т. Г. Указ. соч. С. 67.
4 См.: Рюмина М. Т. Эстетика смеха: смех как виртуальная реальность. М., 2011.
5 Черемухин А. Г., Черемухин Д. Г. Конструирование юмора: монография. М., 2004. С. 5.
6 Но бывает и обратная ситуация, когда умный становится посмешищем дурака. Это происходит, например, в пьесе A.C. Грибоедова «Горе от ума». Ни о каком «инсайте», естественно, здесь речи идти не может. происходит скачкообразное приращение знаний, открывающее ясную картину связей и взаимоотношений всех элементов, составляющих объект. Внезапность и неожиданность смеха, подчеркиваемая в большинстве комического, является следствием этой эвристичности"1.
Комическое, по мнению вышеперечисленных исследователей, представляет гносеологическую ценность, демонстрируя механизм разрушения ложного знания о предмете. Такой путь можно охарактеризовать термином «трансгрессивный переход» В. Н. Никитина, в процессе которого «субъектом нового опыта экзистенциального на время стирается некая заданность форм чувствования, думания и действия"2.
В карнавале, имеющим общие мистериальные корни с дионисиями и сатурналиями, данный аспект является одним из важнейших. Несомненно, что субъект комического вводится в особое аффективное состояние, сродни опьянению (в дионисиях опьянение происходило в буквальном смысле), с целью обретения нового видения, по некоторым трактовкам божественного видения. В связи с этим, можно привести слова Л. В. Карасева, характеризующего смех как «отказ от мира». Смех — шаг и полет в пропасть неизвестного: «Короткий выдох, предшествующий смеху — это отказ от мира, выталкивание из себя того объема, который должен быть заменен чем-то другим, родившимся внутри меня, а не пришедшим извне. Этот выдох — иллюзия шаганезавершившегося, не нащупавшего привычной опоры. С этой секунды — я во власти смеха"3. Короткий шаг-выдох, характерный для комического, есть особая точка освобождения, за которой следует новое видение мира, не являющееся окончательным: «Начав смеяться, я незаметно для себя изменил точку зрения на мир. Моя позиция делается принципиально двойственнойя не могу зафиксировать себя ни на одном из полюсов, казавшихся мне прежде.
1 Сычев A.A. Природа смеха, или Философия комического. Саранск, 2003. С. 111.
2 Никитин В. Н. Онтология телесности: смысл, парадоксы, абсурд. М., 2006. С. 60.
3 Карасев JI.B. Философия смеха. М., 1996. С. 170. незыблемыми. И эта моя беспомощность увеличивает ту силу, которая играет мною, переворачивая мой прежний мир вверх ногами"1.
Экзистенциальное положение субъекта, балансирующего между двух противоположных точек видения, не может быть определено однозначно в комическом. Двойственность ментального поведения субъекта определяет особый характер комического пространства, сродни игровому.
М.М. Бахтин писал о том, что игра — жизнь, изъятая из жизни. Игровая реальность отличается от действительной тем, что существует в условном пространстве и времени — в этом заключается «изъятие из жизни». С другой стороны, игра — та же жизнь, в которой происходит «быстрая смена судьбы» героев-игроков. В смеховой реальности мы также обнаруживаем быструю смену действия: «игру со смыслом» (Т.Б. Любимова), «игру случайностями» (H.A. Дмитриев), «игру с пониманием» (С.С. Гусев, Т.Г. Тульчинский).
По мнению Т. А. Апинян «шут — персонификация игры». Он берет на себя роль дурака: «Интеллектуал одевает маску. Страдание „разорванного“ сознания превращается в гримасу, улыбка проявляет отчаяние и пустоту, игра становится о образом жизни и эталоном творчества». Шут совмещает противоположные роли дурака и мудреца, пакостника и борца за правду, отверженного и приветствуемого смехом, униженного и властвующего, смешащего и страдающего.
Субъект комического примеряет шутовской колпак, согласившись на участие в игровом действии. Он тот, кто одновременно стоит на позиции шута и на официальной позиции мира.
Т.Б. Любимова замечает, что «отдых и шутки необходимы в жизни», «шутка иногда бывает отдыхом от серьезного», «без смешного нельзя понять.
1 Там же. С. 170.
2 Апинян Т. А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие. СПб., 2003. С. 192.
3 Там же. С. 198. серьезное". Еще Аристотель одобрительно цитировал афоризм Анахарсиса «нужно шутить, чтобы быть серьезным"1.
В этом пункте мы подходим к важнейшему размышлению нашей работы: верной ли является позиция М. М. Бахтина об амбивалентности смеховой игры, призванной обратить разрушение в повторное рождение? В. М. Пивоев писал: «Смех обладает и созидательным, и разрушительным потенциалом, отрицающим все косное и отжившее, и в то же время он содержит жизнеутверждающее начало, стимулирующее развитие живого и положительного, он является органическим воплощением жизненного порыва, воплощает духовную энергию творческого движения в будущее». В то же время звучат реплики об односторонне отрицательном пафосе комического, разрушающего устоявшиеся нормы и представления и создающего мир «антикультуры"3.
Изучение проблемы амбивалентности М. Бахтина развивается в теорию негативной эстетики комического. Рассматривается проявление негационного механизма в отношении явлений, получивших оценку «безобразного» в области этики, эстетических интуиций и гносеологических поисков. Этически безобразным является зло, гносеологически — ложь, эстетически — безобразное (в модификациях уродливое, страшное, ужасное, жуткое и проч). Таким образом, интерес представляет комическая реакция на негативные явления человеческой культуры в вышеуказанных аспектах.
Объект исследования — негация в структуре комического.
Предмет исследования — опыт эстетической рефлексии обэриутов как ценностной реакции на реальность.
1 Любимова Т. Б. Указ. соч. С. 74.
2 Пивоев В. М. Указ. соч. С. 80.
3 Данные мысли звучат не только со стороны оппонентов М. М. Бахтина, «идеализировавшего» карнавальный смех, но и обращены в адрес современной комической культуры. В частности, были высказаны на Всероссийской конференции по проблемам гелологии, проходившей в мае 2012 года. Идея смеха как смерти метафорически обозначена в произведении Вебера М. Смех Циклопа. М., 2011.
Цель исследования состоит во включении комической негации в категориальный ряд, актуальный для понимания эстетики обэриутов в частности и для интересов современной эстетики в целом.
Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:
— произвести философско-эстетический анализ условий возникновения комических форм;
— выделить негативный аспект комической теории как самостоятельного эстетического явленияопределить феноменологию безобразного как мировоззренческую постоянную обэриутов;
— описать алгоритм и сценарий преодоления безобразного в художественном творчестве членов группы.
Материалом исследования является проза ОБЭРИУ, а так же данные литературоведческих источников относительно истории и поэтики данной литературно-философской группы. Этнографические материалы, описывающие смеховые ритуалы архаического и средневекового прошлого. Философские трактаты и размышления по вопросам человеческой экзистенции и сопровождающим ее эмоциональным состояниям. А так же эстетические труды, описывающие функционирование комического в искусстве.
Методологические и теоретические основы исследования.
Необходимость изучения комического как способа преодоления негативных аспектов бытия определило выбор системного анализа в качестве базового методологического основания исследования. Обращение к обширному кругу неоднородных источников обусловило необходимость применения семиотического и герменевтического подходов к интерпретации смысла рассматриваемых феноменов. Применение компаративного подхода позволило выявить, как общекультурные, так и специфические черты комического в рассмотренные историко-культурные периоды.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
— рассмотрен концепт негации на историческом материале различных культурных эпох, а также характеризующие их механизмы «эстетического снятия» негативных аспектов бытия;
— уточнен категориальный статус комического и его роль в построении аксиосферы культуры;
— выявлены особенности репрезентации категории негативного в мировоззрении обэриутов на материале их творчества;
— традиционная модель катарсиса в эстетике обэриутов дополнена концептом «трагикомического преодоления» как важного компонента эстетической реакции.
Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении категории комического путем акцентирования негативной эстетической составляющей ее — категории безобразного. Полученные результаты могут способствовать более полному осмыслению категории комического в эстетической мысли. Сформулированные выводы могут послужить дальнейшему исследованию комического с точки зрения реализации в ней негативного поля эстетического. Достигнутые теоретические результаты могут стать основой для продолжения исследовательской деятельности, развернутой в сторону целостного аналитического описания аксиологического дискурса прекрасного и безобразного, разворачивающегося в комическом.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов в педагогической практике в высших учебных заведениях в курсах аксиологии, эстетики и истории культуры. Полученные результаты могут иметь значение в практике создания комических образов в различных видах творческой деятельности в условиях формирования нового облика «смеховой культуры» современности. Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской работе в различных областях гуманитарного знания.
Положения, выносимые на защиту:
1. Историческое рассмотрение комического дает представление о его негативном эстетическом статусе. Комическая ситуация характеризуется не только пограничьем, но и выходом за пределы обыденного существования и чувственности в сферу бытия наоборот, сверх-бытия. Этому способствуют приемы снижения (пародия), изображение жизни в формах безобразного (гротеск).
2. Пародия и гротеск — приемы, которые породили основные формы комического: иронию, сатиру, сарказм, абсурд, черный юмор. Традиционно комическое (Античность, Средневековье, вся европейская культура) строится на пародийном начале, когда сравниваются план бытия, приближенного к идеальному и план искаженного бытия. Нетрадиционная смеховая культура, развившаяся в явлении комического абсурда, черного юмора — итог развития приема гротеска. В данных формах комического идеальное бытие описывается в форме безобразного явления. Гротескное единство и противоположность идеального и безобразного приводит к комической разрядке. Черный юмор и абсурд (обэриутская «бессмыслица») являются апофатическими формами комического в культуре.
3. В комическом происходит поиск равновесия между ценностно-противоположными эстетическими категориями прекрасного и безобразного.
4. Негативная эстетика — комплексная философская дисциплина, объектом которой становятся: во-первых, бытие, получившее негативную эстетическую оценку (безобразное) — во-вторых, эстетическое переживание безобразногострах, отвращение (и подобные им), смех. Негативная эстетика комического акцентирует внимание на процессе самораскрытия безобразного бытия в комическом, а так же преодоления негативных эстетических переживаний безобразного путем комической разрядки (катарсис).
5. Безобразное в эстетико-философской науке определяется не только феноменологически, как уродливое явление, но и онтологически — как особый чувственный опыт «встречи» с «Ничто» или «Другим». Безобразное представляет угрозу упорядоченному существованию, а также индивидуальной экзистенции, потому получает характеристику страшного.
6. Безобразное у обэриутов выражается в идее субстанции «самой по себе», «стихийной», «неконцентрированной», в которой отсутствует всякое «различение». В то же время это бытие истинное, прорвавшееся сквозь пространственно-временную (кантианскую) «сетку» представлений. Потому безобразное (пугающее, непонятное) у обэриутов амбивалентно является и прекрасным (истинным). Понимание этого позволяет говорить о гротескном характере комического Д. Хармса.
7. Комическое у обэриутов направлено на раскрытие идеи трансцендентного существования. Комические случаи демонстрируют случаи смерти, которые являются переходами в трансцендентный мир, обозначаемый нигитологическими символами «исчезновения», «ноля», «круга/шара». Это действие ассоциируется с моментом чуда, являясь амбивалентно прекрасным.
8. Комический катарсис обэриутов трактуется как следствие столкновения с «мрачно чудесным»: абсурдная логика эмпирического бытия прерывается «чудом смерти», раскрывающим мир трансцендентного, абсолютной индивидуальности и свободы. В «мрачно чудесном», «прекрасно безобразном», «радостно трагическом» обэриуты искали выход из абсурдного мира повседневного (обыденного) существования. Можно говорить о негативной эстетике трансцендентной экзистенции обэриутов.
Степень достоверности и апробация результатов.
Степень достоверности результатов подтверждается всесторонним анализом научно-исследовательских работ по проблеме комического, применением в исследовании апробированного научно-методического аппарата.
Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в публикациях автора, вышедших в специализированных изданиях и сборниках материалов научных конференций, научных периодических журналах, в числе которых статьи в изданиях из перечня ведущих рецензируемых журналов.
По теме диссертации сделаны доклады на конференциях «Теоретическое исследование смеха в России и перспективы гелологии» (СПб., 2011) — «Новые горизонты в эстетической теории» (СПб., 2011) — «Герменевтика игры: культураэстетика — музыка» (СПб., 2011) — «Ломоносов -2012» (М., 2012) — «VI Российский философский конгресс» (Нижний Новгород, 2012) — «Перспективы гелологии (науки о смехе)» (СПб., 2012).
Результаты диссертационного исследования обсуждались на семинарах и заседаниях кафедры эстетики и этики РГПУ им. А. И. Герцена.
Результаты исследования могут быть применены в образовательной области и послужить материалом к спецкурсу о проблемах комического, аксиологии, эстетики и истории культуры. Полученные результаты могут иметь значение в практике создания комических образов в различных видах творческой деятельности в условиях формирования нового облика «смеховой культуры» современности. Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской работе в различных областях гуманитарного знания.
Заключение
.
Человек — единственное существо на планете, способное смеяться, понимать и создавать комическое. Человечество осознало, что комическое не только доставляет радость и удовольствие, но и является сильным интеллектуальным оружием: освобождает от страха, открывает истину, «казнит несовершенство мира» (Ю. Борев). Потому задача человека — правильно использовать энергию смеха, изучить природу комического с тем, чтобы не разрушать культуру, но, следуя заветам М. Бахтина, идти по пути ее оживления и обновления.
Потому темой исследования стало рассмотрение негативной эстетики комического, т. е. комического с точки зрения реализации в нем механизма негации (отрицания). Негационный механизм является общим для смеховой обрядовой и карнавальной культуры, он проявляется в основных современных формах комического (сатира, ирония, сарказм, черный юмор, абсурд).
Негация на стадии архаических культур заключается в буквальном смысле снижении, заключении в гроб, землю, что впоследствии должно привести к возрождению и новой жизни. Это отчетливо просматривается на примере древних похоронных, земледельческих обрядов и обрядов инициации. Празднества, в которых смех играет первостепенную роль (дионисии, сатурналии, карнавалы) утверждают аналогичную идею обновления через пародийное снижение.
Рассматривая материалы творчества ОБЭРИУ, мы обнаруживаем ту же амбивалентную логику. Приемы гротескного пародирования, приведения к абсурду, обессмысливания направлены на дискредитацию привычных форм представления и чувствования. Только подобным (негативным) путем возможно постижение тайн и обновление мира по законам иной нечеловеческой, но истинной логики. Перевернутый (обессмысленный) мир человеческих знаний и представлений открывает в себе модус божественного Присутствия. Мир, утративший логику — алогичный — становится миром высшим, ноуменальным.
В связи с этим в работе подчеркивается зависимость развития форм комического от изменения статуса безобразного в культуре. Идея безобразного как интегральной эстетической категории не нова, как и утверждения Аристотеля, Шлегеля и Н. Чернышевского о том, что безобразное лежит в основе комического. Мы развиваем эти мысли в теорию зависимости форм комического описания (от сатиры до черного юмора) от характера безобразного (от уродливого до страшного). Безобразное в модернизме становится гносеологически и эстетически ценным. Оно апофатически указывает на высшие субстанции, которые не могут быть выражены в виде образа. Так, если в сатире, иронии, сарказме происходит негация (отрицание) физически и духовно безобразного (уродливого), то актуальные формы комического — абсурд и черный юмор — апофатически раскрывают сферу трансцендентного, являющегося как безобразное бытие Другого. Этот вектор является основополагающим в герменевтическом описании творческого наследия обэриутов.
Работа представляет ценность как актуальное для литературоведов исследование поэтики комического Д. Хармса. В тексте обосновывается мысль о том, что черный юмор Д. Хармса провоцируется гносеологическими причинами. Сцены жестокости, относящиеся к определенной половозрастной группе, толкуются в русле рассуждения Ж. Ф. Жаккара как попытки отмены временной континуальности и обретения вечности вестника, которому открыты тайны Бытия. Таким образом, теоретическая база, рассмотренная в предыдущих главах, наглядно обосновывается на основе конкретных примеров русской литературы. Новизна глав об ОБЭРИУ заключается в оригинальной трактовке философских размышлений Я. Друскина. Она не ограничивается описанием «Вестников», выполненной М. Мейлахом. Автор комментирует неизвестные широкой публике трактаты «Щель и грань», «Четыре слова», «Соприсутствие» и др. В разделе, посвященном трактату «Исследование ужаса» Л. Липавского, автор так же позволяет себе подробный анализ произведения, предпринятый до него только С. Лишаевым. Таким образом, теоретическое рассмотрение комического, заключающегося в преодолении страшного и открытии трансцендентного, еще раз подтверждается конкретным материалом.
Особое место в работе уделяется исследованию аксиосферы комического. Комическое сочетает противоположные аксиологические интенции: ценность и антиценность. Представление о ценности сосредоточено в категории прекрасное, безобразное — сфера антиценностных качеств и свойств. Смысл комического состоит в нахождении ценностного равновесия между безобразным и прекрасным, т. е. постоянном балансировании в свободном пространстве поля антиномий прекрасное — безобразное. Аксиосфера комических случаев Д. Хармса представляет мир антиценностных качеств и негативного поведения. Это безобразный мир, который направлен на поиск собственного антипода. Воспринимая описанные истории, мы бессознательно воссоздаем мир положительно ценного. Комическое играет огромную роль в процессе субъективного усвоения аксиологического поля культуры. В комическом переживании формируется чистый незамутненный образ культуры. Комическое является эвристическим актом, так как раскрывает истинное ценностное содержание культуры.
Кроме того, комическое является актом «очищения», в котором подвергаются аннигиляции негативные эстетические переживания: страх, гнев и т. д. «Смех — это всеобъемлющий жест, выражающий опыт амбивалентности, и в то же время это — основная возможность, помогающая человеку преодолеть «космический страх». Космический страх, охватывающий родовое тело человечества, сильнее личного страха перед личной смертью. Принцип осмеяния, устраняющий этот страх путем его перевода на язык материальной телесности, может быть истолкован как общий, генерирующий культуру принцип <.>"'. Таким образом, можно говорить о катартическом механизме.
1 Бахтинский сборник. М. 1997. Вып. 3. С. 84. комического. Преодоление безобразного может происходит по двум противоположным по своему смыслу и значению путям: путь самозаточения (сковывающий страх) и освобождения (смех). Нас интересует схема эстетического устранения страшного, прежде всего путем преобразования страшного в смешное. В этом мы видим смысл комического катарсиса.
А. Бергсон впервые среди теоретиков заговорил о катартическом значении смеха, назвав его «анестезией сердца». Это особая дистанция, при которой болезненное не ощущается. Действие комического катарсиса напоминает нам катарсис возвышенного, когда человек испытывает чувство возвышения над собой прежним, становясь над собой, вынимая себя из трагедийной ситуации. Механизм комического катарсиса включает в себя аспект остраннения, когда видение безобразного теряет аспект угрожаемости. У Д. Хармса это достигается путем введение аспекта нелепого и чудесного в описание. Остраннение позволяет дистанцироваться от логики серьезного и реального, допускает возможность иллюзии и «мнимой угрожаемости» всего происходящего.
Список литературы
- Абсурд и вокруг: сборник статей / Отв. ред. О. Буренина. М.: Языки славянский культур, 2004. — 448 с.
- Аверинцев, С.С. Бахтин, смех, христианская культура / С. С. Аверинцев // М. М. Бахтин как философ. М.: Наука, 1992, С. 7−19.
- Адорно, В. Т. Эстетическая теория / В. Т. Адорно / пер. с нем. А. В. Дранова. М.: Республика, 2001. — 527 с.
- Апинян, Т. А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие. / Т. А. Апинян СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2003.-400 с.
- Аристотель Сочинения: в 4 т. / Аристотель / Пер. с древнегреч., общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1983. — Т. 4. — 830с.
- Базилевский, А.Б. Деформация в эстетике сюрреализма и экспрессионизма / А. Б. Базилевский. // Сюрреализм и авангард: материалы российско-французского коллоквиума. М.: ГИТИС. — 1999. — с. 33−46.
- Базилеева, Е. Две смерти (по творчеству Д. Хармса) / Е. Базилеева // Фигуры Танатоса. Символы смерти в культуре. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1991. — С. 83 -93.
- Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М. Бахтин М.: Искусство, 1979.- 320 с.
- Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья (1965) / М. Бахтин // Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. -М.: Языки славянских культур, 2010. Т. 4(2). — С. 7−517.
- Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. К столетию рождения М. М. Бахтина (1895−1995) / Сост., ред. К. Г. Исупов. СПб.: Алетейя, 1995. -370 с.
- Бахтинский сборник / Отв. ред. В. Л. Махлин. М.: Лабиринт, 1997. -Выпуск 3.-400 с.
- Бачинин, В. А. Введение в христианскую эстетику / В. А. Бачинин. СПб.: Библия для всех, 2003. — 377 с.
- Белянин, В.П. Чёрный юмор. Антология. / В. П. Белянин, И. А. Бутенко М.: ПАИМС, 1996.- 192 с.
- Бергсон, А. Смех / А. Бергсон Л.-М.: Панорама, 2000. — 606 с.
- Борев, Ю. Комическое или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия / Ю. Борев. М.: Искусство, 1970. — 268 с.
- Бретон, А. Антология черного юмора / А. Бретон. М.: «Carte Blanche», 1999.-544 с.
- Бычков, В.В. Эстетика: учебник / В. В. Бычков. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гардарики, 2008. — 573 с.
- Волкова, Е.В. Тона и обертоны серьезного в философии Бахтина / Е. В. Волкова, С. З. Оруджева. // Вопросы философии. 2000. — № 1. — С. 102−119.
- Введенский, А.И. Полное собрание произведений: в 2 т. / А. И. Введенский. -М.: Гилея, 1993.-Т. 1.-285 с.
- Введенский, А.И. Полное собрание произведений: в 2 т. / А. И. Введенский.- М.: Гилея, 1993. Т. 2. — 271 с.
- Выготский, JI.C. Психология искусства. / JI.C. Выготский. М.: Издательство «Искусство», 1968. — 576 с.
- Выжлецов, Г. П. Аксиология культуры. / Г. П. Выжлецов. СПб.: Издательство С.-Петербургского унверситета, 1996. — 152 с.
- Гайденко, П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. / П. П. Гайденко. М.: Республика, 1997. — 495 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Эстетика: в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. М.: Искусство, 1971. — Т.З.- 623 с.
- Геллер, М. О Хаосе и Хармсе, или Парадигма сложного мира. / М. Геллер. // Хаос и энергия. Наука в культуре модернизма. Sieldce.: Redakcja tomu Roman Mnich I Roman Bobryk, 2012. — C. 9−83.
- Гладких, Н. В. Катарсис смеха и плача. / Н. В. Гладких. // Вестник ТГПУ. Серия «Гуманитарные науки». 1999. — № 6 (15). — С. 88−92.
- Глоцер, В.И. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. / В. И. Глоцер. М.: ИМА-пресс, 2001. — 232 с.
- Гулыга, A.B. Принципы эстетики. / A.B. Гулыга. М.: Политиздат, 1987. -285 с.
- Гулыга, A.B. Эстетика в сфете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке. / A.B. Гулыга. СПб.: Алетейя, 2000. — 447 с.
- Делюмо, Ж. Эпидемия чудовищного XV—XVII вв.. / Ж. Делюмо. // Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-XVIII вв.). -Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2003. С. 176−183.
- Дземидок Б. О комическом. / Б. Дземидок. М.: Прогресс, 1974. — 224 с.
- Дмитриев A.B. Смех: социофилософский анализ. / A.B. Дмитриев, A.A. Сычев. М.: Альфа-М, 2005. — 592 с.
- Друскин, Я.С. Вестники и их разговоры. / Я. С. Друскин. // Логос. 1993. -№ 4.
- Друскин, Я.С. Видение невидения / Я. С. Друскин. СПб.: Альманах «Зазеркалье», 1995. — 173 с.
- Друскин, Я.С. Лестница Иакова: Эссе, трактаты, письма / Я. Друскин- Сост. Л. С. Друскина. СПб.: Академический проект, 2004. — 768 с.
- Друскин, Я.С. Перед принадлежностями чего-либо. Дневники 1963−1979 гг. / Сост., подг. текста, примеч., заключ. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2001. — 640 с.
- Жаккар, Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Ж.-Ф. Жаккар. -СПб.: Академический проект, 1995. 471с.
- Иванов, Вяч. Дионис и прадионисийство / Вяч. Иванов. СПб.: Алетейя, 1994.-341 с.
- Игровое пространство культуры 16−19 апреля 2002 г: тезисы к форуму / Под ред. В. В. Чубарь. СПб.: Евразия, 2002. — 384 с.
- Интерпретация и авангард: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. И. Е. Лощилова. Новосибирск.: НГЛУ, 2008. — 328 с.
- История уродства / под ред. У. Эко — М.: Слово/Slovo, 2007. 456 с.
- Каган, М.С. Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении / М. С. Каган. СПб.: Logos, 2006.-416 с.
- Каган, М.С. Философская теория ценности / М. С. Каган. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. — 205 с.
- Каган, М.С. Эстетика как философская наука / М. С. Каган. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. — 543 с.
- Кант, И. Критика способности суждения / И. Кант. / Пер. с нем. М. И. Левина. М.: Искусство, 1994. — 367 с.
- Карасев, Л.В. Философия смеха / Л. В. Карасев. М.: РГГУ, 1996. — 221с.
- Киричук, Е.В. Комическое в драматургии А. Жарри и М. де Кальдерода: монография / Е. В. Киричук. Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. — 219 с.
- Козинцев, А.Г. Смех: истоки и функции / А. Г. Козинцев. СПб.: Наука, 2002. — 223 с.
- Козинцев, Г. М. Пространство трагедии (дневник режиссера) / Г. М. Козинцев. М.: Искусство, 1973. — 232 с.
- Колпикова О.П. Философско-культурологическое «измерение» понятия «смех» / О. П. Колпикова // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. -2006. № 4. — С.23−25.
- Колязин, В.Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья / В. Ф. Колязин. М.: Наука, 2002. — 228 с.
- Кристева, Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении / Ю. Кристева. СПб.: Алетейя, 2003. — 256 с.
- Кристиан, JI. X. Н. Эстетика смерти / Л.Х.Н. Кристиан. / пер. с нем. А. Белобратов. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. — 424 с.
- Кунильский А.Е. Смех в мире Достоевского / А. Е. Кунильский. -Петрозаводск.: Издательство Петрозаводского университета, 1994. 88 с.
- Кьеркегор, С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. М.: Культурная революция, 2010.-488 с.
- Липавский, Л. Исследования ужаса / Л. Липавский. // Логос. 1993. — № 4. -С. 76−88.
- Липавский, Л. Разговоры / Л. Липавский // Логос. 1993. — № 4. — С. 7−75.
- Лихачев, Д. С. Смех в Древней Руси / Д. С. Лихачев, A.M. Панченко, Н. В. Понырко. Л.: Наука, 1984. — 295 с.
- Лишаев, С.А. Эстетика Другого / С. А. Лишаев. 2-е изд., испр. и доп. -СПб.: Изд-во С-Петербургского уни-та, 2008. — 380 с.
- Лосев, А.Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков.- М.: Искусство, 1965. 374 с.
- Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика / А. Ф. Лосев. М.: АСт Фолио, 2000. — 878 с.
- Лосский, Н.О. Мир как осуществление красоты / Н. О. Лосев. М.: Прогресс-Традиция, 1998. — 413 с.
- Лук, А. Н. Юмор. Остроумие. Творчество. / А. Н. Лук. М.: Искусство, 1977.- 182 с.
- Любимова, Т.Б. Комическое, его виды и жанры / Т. Б. Любимова. М.: Знание, 1990.-64 с.
- Любимова, Т.Б. Трагическое как эстетическая категория / Т. Б. Любимова. — М. -.Наука, 1985.- 128 с.
- Мазин, В.А. Между жутким и возвышенным / В. А. Мазин. // Фигуры Танатоса: Искусство умирания. СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1998.-С. 168−188.
- Мейлах, М. Яков Друскин: «Вестники и их разговоры» / В. Мейлах. // Логос. 1993. — № 4. — С.89−90.
- Мамардавшвили, М. Необходимость себя / М. Мамардашвили. М.: Лабиринт, 1996.-430 с.
- Маньковская, Н.Б. Саморефлексия неклассической эстетики / Н. Б. Маньковская. // Эстетика на переломе культурных традиций: сборник статей. / Отв. ред. Н. Б. Маньковская. М.: ИФ РАН, 2002. — С. 5−25.
- М. Бахтин и философия культуры XX века (проблемы бахтинологии): сб. научных статей / Отв. ред. К. Г. Исупов. СПб.: РГПУ, 1991. 127 с.
- Мейерхольд, Вс. Чаплин и чаплинизм / В. Э. Мейерхольд // Февральский
- A.В. Пути к синтезу: Мейерхольд и кино.- М.: Искусство, 1978. С. 212- 235
- Меньшикова, Е.Р. Трагический парадокс юродств, или карнавальный гротеск Андрея Платонова / Е. Р. Меньшикова // Вопросы философии. 2004. -№ 3. — С. 111−133.
- Меньшикова, Е. Р. Всполохи карнавала: гротескное сознание как феномен советской культуры / Е. Р. Меньшикова. СПб.: Алетейя, 2006. — 204 с.
- Метаморфозы трагического сознания: сборник статей / сост. и общ. ред.
- B.П. Шестакова. СПб.: Алетейя, 2007. — 384 с.
- Мир вокруг нас: авангард и традиции в единстве и противоречии Текст.: цикл публичных дискуссий / Ред. Н. М. Румянцева. М.: Никитский клуб, 2006. — 80 с.
- Мириманов, В.Б. Четвертый всадник апокалипсиса. Эстетика смерти / В. Б. Мириманов. М.: РГГУ, 2002. — 132 с.
- М.М. Бахтин: pro et contra. Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли / Сост., вступ. ст. и коммент. К. Г. Исупова. СПб.: РХГИ, 2001. — Т. I. — 552 с.
- Несселыптраус, Ц.Г. «Пляски смерти» в западноевропейском искусстве XV в. как тема рубежа средневековья и Возрожденья / Ц. Г. Несселыптраус // Культура Возрождения и средние века. М.: Наука, 1993. — С. 141−148.
- Никитин, В.Н. Онтология телесности: смысл, парадоксы, абсурд. / В. Н. Никитин. М.: Когито-Центр, 2006. — 320 с.
- Ницше, Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Ф. Ницше // Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. — Т. 1. — С. 47−157.
- Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли / М. Ф. Овсянников. М.: Высшая щкола, 1978. — 354 с.
- Пивоев, В.М. Ирония как эстетическая категория / В. М. Пивоев. // Философские науки. 1982. — № 4. — С.54−61.
- Пивоев, В.М. Ирония как феномен культуры / В. М. Пивоев. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. — 104 с.
- Пигулевский, В.О. Символ и ирония. Опыт характеристики романтического миросозерцания / В. О. Пигулевский, JI.A. Мирская. Кишинев: Штиинца, 1990.- 165 с.
- Пинский, JI.E. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. / JI.E. Пинский. -М.: Советский писатель, 1989. 416 с.
- Программы учебных курсов по аксиологии (эстетика, этика, религиоведение). / А. П. Валицкая, А. Е. Зимбули, К. Г. Исупов, A.B. Чечулин и др. СПб.: Образование, 1994. — 128 с.
- Пропп, В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). / В. Я. Пропп. М.: Лабиринт, 1999. — 288 с.
- Рихтер, Ж. П. Приготовительная школа эстетики / Ж. П. Рихтер. М.: Искусство, 1981.- 447с.
- Русский авангард 1910−1920-х годов в европейском контексте: антология -М.: Наука, 2000.-310 с.
- Русский авангард в кругу европейской культуры: тезисы и материалы М.: ВИНЕГИ, 1993.- 197 с.
- Рюмина, М.Т. Эстетика смеха: смех как виртуальная реальность / М. Т. Рюмина. изд. 4-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 320 с.
- Сайр, Д. Парад миров. Типология мировоззрений / Д. Сайр. СПб.: Мирт, 1997.-248 с.
- Самохвалова, В.И. Безобразное: размышления о его природе, сущности и месте в мире (К феноменологии, метафизике, методологии понимания): монография / В. Н. Самохвалова. М.: ИФ РАН МАКС Пресс, 2010. — 304 с.
- Слотердайк, П. Критика цинического разума / П. Слотердайк. -Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001. 584 с.
- Соловьева, Г. Г. Негативная диалектика: два образа критической теории Т. В. Адорно. / Г. Г. Соловьева. Алма-Ата: Гылым, 1990. — 192 с.
- Стеблин-Каменский, М. И. Апология смеха. / М.И. Стеблин-Каменский. // Историческая поэтика. Л., Наука, 1978.-С. 158−172.
- Столович, Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. / Л. Н. Столович. М.: Республика, 1994 — 464 с.
- Столович, Л.Н. О метафизике смеха. / Л. Н. Столович. // Метафизические исследования. СПб.: «Алетейя», 1999. — Выпуск 9. — С. 44−66.
- Столович, JI.H. Природа эстетической ценности / Л. Н. Столович. М.: Политиздат, 1972.-271 с.
- Столович, Л.Н. Смех / Л. Н. Столович // Философия. Эстетика. Смех. СПб.: Тарту, 1999.-С. 242−341.
- Столович, Л.Н. Философия красоты / Л. Н. Столович. М.: Политиздат, 1978.- 118 с.
- Столович, Л.Н. Эстетическая и художественная ценность / Л. Н. Столович. -М.: Знание, 1983.-60 с.
- Страх: антология. / Сост. П. С. Гуревич. М.: Алетейя, 1998. — 408 с.
- Сычев, A.A. Природа смеха, или Философия комического. / A.A. Сычев. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. 176 с.
- Токарев, Д.В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета/ Д. В. Токарев М.: Нов. лит. обоз, 2002. — 333 с.
- Успенский, Б.А. Анти-поведение в культуре Древней Руси. / Б. А. Успенский // Избранные труды. Семиотика истории. Семиотика культуры. -М.: Языки русской культуры, 1994. Т.1. — С. 320−332.
- Успенский, П.Д. «Tertium Organum». Ключ к загадкам мира. / П. Д. Успенский. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. — 432 с.
- Феноменология смеха: карикатура, пародия, гротеск в современной культуре: сборник статей. / Под ред. В. П. Шестакова. М.: Российский институт культурологи, 2002. — 272 с.
- Флоренский, П. Столп и утверждение истины: опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. / П. Флоренский. М.: Пента, 2002. — 814 с.
- Фрейд, 3. Введение в психоанализ: лекции / 3. Фрейд. СПб.: Азбука-классика, 2006. — 478 с.
- Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра. / О. М. Фрейденберг. -подготовка текста, справочно-научный аппарат, предварение, послесловие Н. В. Брагинской. М.: Лабиринт, 1997. — 448 с.
- Фрейденберг, О.М. Миф и театр: Лекции по курсу «Теория драмы» для студентов театральных вузов / О. М. Фрейденберг. М.: ГИТИС, 1988. — 131 с.
- Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности. / Э. Фромм. М.: ACT, 2004.-640 с.
- Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. / М. Фуко СПб.: A-cad, 1994.-408 с.
- Хайдеггер, М. Бытие и время. / М. Хайдеггер. Харьков: Фолио, 2003. -503 с.
- Хармс, Д. Записные книжки. Дневник: В 2 кн. / Подг. текста Ж.-Ф. Жаккара и В.Н. Сажина- вступ. статья, примеч. В. Н. Сажина. СПб.: Академический проект, 2002. — Кн. 2. — 416 с.
- Хармс, Д.И. Полное собрание сочинений: в 4 т. / Д. И. Хармс. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. — Т.2. — 497 с.
- Хармс, Д. И. Случаи. / Д. И. Хармс. -М.: Эксмо, 2006. 719 с.
- Хармс, Д. Собрание сочинений: в 3 т. Авиация превращений./ Д. Хармс. -СПб: Азбука, 2011. Т. 1. — 667с.
- Хармс, Д. Собрание сочинений: в 3 т. Новая анатомия./ Д. Хармс. СПб: Азбука, 2011.-Т.2,-667с.
- Хармс, Д. Собрание сочинений: в 3 т. Тигр на улице. / Д. Хармс. СПб.: Азбука, 2011.-Т.З.-444с.
- Хейнонен, Ю. Интертекстуальность (Библия). / Ю. Хейнонен. // Это и то в повести Хармса «Старуха». Helsinki.: Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, 2003. — C. 123−178.
- Черемухин, А.Г. Конструирование юмора. Монография. / А. Г. Черемухин, Д. Г. Черемухин. М.: Воентехиниздат, 2004. — 43 с.
- Чернорицкая, O.JI. Поэтика абсурда. / O.JI. Чернорицкая. Вологда: 2001.- Т.1. Классика. 88 с.
- Черных, В.Ю. Аксиология истории России: современная отечественная история в свете теории ценностей. /В.Ю. Черных. Пермь: Изд-во Перм. гос. мед. академии, 1999. — 240 с.
- Чернышевский, Н.Г. Избранные эстетические произведения. / Н. Г. Чернышевский. М.: Искусство, 1978. — 558 с.
- Чечулин, A.B. Негативная антропология: Монография. / A.B. Чечулин. -СПб.: Изд-во РГПУ им А. И. Герцена, 1999. 160 с.
- Шварц, Е. Живу беспокойно. Из дневников./ Е. Шварц. J1.: Советский писатель, 1990. — 752 с.
- Шеллинг, Ф. В. Философия искусства. / Ф. В. Шеллинг. -М.: Мысль, 1966.- 496 с.
- Шестаков, В.П. Эстетические категории. / В. П. Шестаков, А. Ф. Лосев. -М.: Искусство, 1983. 358 с.
- Шкепу, М.А. Эстетика безобразного К. Розенкранца. / М. А. Шкепу. К.: Феникс, 2010.-448 с.
- Шлегель, Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. / Ф. Шлегель. / Вступ. Статья, пер. с нем. Ю.Н. Попова- примеч. Ал. В. Михайлова и Ю. Н. Попова. -М.: Искусство, 1983. Т. 1. — 479 с.
- Юнг, К. Человек и его символы. / К. Юнг. М.: Серебряные нити, 2006. -352 с.
- Ямпольский, М. Беспамятство как исток (Читая Хармса). / М. Ямпольский. -М.: Новое лит. Обозрение, 1998. 379 с.4
- Ярхо, В.Н. У истоков европейской комедии. / В. Н. Ярхо. -М.: Наука, 1979. -176 с.
- Billig, М. Laughter and ridicule: Towards a social critique of humour / M. Billig. London: SAGE, 2005. — 272 p.
- Holland, N. Laughing, a psychology of humor / N. Holland. Cornell: Cornell University Press, 1982.- 231 p.
- Gruner, Ch. R. Understanding laughter: the workings of wit & humor / Ch.R. Gruner. Nelson-Hall, 1978. — 265 p.
- Marteinson, P. On the Problem of the Comic: A Philosophical Study on the Origins of Laughter / P. Marteinson. Ottawa: Legas Press, 2006. — 230 p.
- Morreal, J. Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor / J. Morreal. -N.Y.: John Wiley & Sons, 2011. 208 p.
- Morreal, J. Taking Laughter Serious / J. Morreal. N.Y.: SUNY Press, 1983. -144 p.