«Молитва» в русской лирике XIX в.: Логика жанровой эволюции
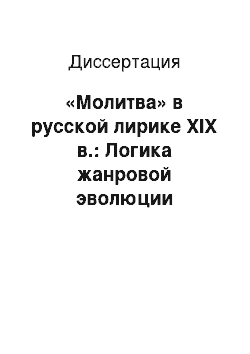
При подобном подходе к анализу стихотворной «молитвы» вторичной оказывается собственно эстетическая сторона поэтического текста, и значение словосочетания «молитвенная лирика» неизбежно сужается, снимается проблема многопланового освоения молитвенного слова, молитвенной формы, дискурса, ситуации в русской поэзии, которая запечатлела не только образцы «духовной лирики», но и пародийные… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Стихотворная «молитва» XIX века: проблемы архитектоники и поэтики
- 1. Молитвенный дискурс
- 2. Архитектоника молитвенного слова (онтологический аспект)
- 2. 1. «Молитва» как форма лирического самовыражения. Характер структурных аналогий
- 2. 2. Онтология сакрального имени
- 2. 3. Императивная составляющая «молитвенной» диалектики. «Лирика желаний»
- 2. 4. «Молитвенный» финал. Категория «последней просьбы»
- 3. «Молитва» как игра
- 3. 1. Эстетика игры
- 3. 2. Игровые модификации «молитвенного» слова в поэзии XIX в
- 3. 3. Преодоление игровой модели реализации «молитвенного» дискурса (на материале молитвенной лирики декабристов)
- 4. Поэтика «ночных молитв» XIX в
- 5. Стихотворная «молитва» в контексте поэтической системы первой половины XIX в
- Глава II. «Молитва» в лирике A.C. Пушкина
- 1. Мотив «молитвы» в творчестве A.C. Пушкина
- 2. Поэтика лицейских «молитв»
- 3. «Молитвенный» дискурс в стихотворении «Домовому»
- 4. «И.И. Пущину»: особенность лирического диалога
- 5. Возвращение к истокам: «Отцы пустынники и жены непорочны.»
- Глава III. «Молитва» в лирике М.Ю. Лермонтова
- 1. «Молитва» в художественном сознании Лермонтова
- 2. «Молитва» 1829 г.: проблема формы и содержания
- 3. Поэтика шутливых «молитв» Лермонтова
- 3. 1. Игровая модификация молитвенного дискурса в «Моей мольбе»
- 3. 2. «Юнкерская молитва» и традиции военного фольклора
- 4. Романтический культ Мадонны и «Молитва» 1837 г
- 5. «Молитва» о молитве
- 6. «Молитвенный» дискурс в стихотворении «Благодарность»
- Глава IV. «Молитва» в поэтическом мире Ф.И. Тютчева
- 1. Целесообразность молитвенного поступка в художественном мире Тютчева
- 2. «Молитва» как способ драматизации лирического события
- 3. «Молитвенный» дискурс в стихотворении «Пошли, Господь, свою отраду»
- 4. «Молитва» словом
- 5. «Молитва» о страдании
- 6. Молитвенная проблематика в стихотворении «Когда дряхлеющие силы.»
«Молитва» в русской лирике XIX в.: Логика жанровой эволюции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Процесс взаимодействия языка Церкви и литературы, проникновение в художественное творчество основ религиозного мировоззрения вызвали живой интерес исследователей конца XX века. На грани двух тысячелетий очевидно стремление к познанию онтологической природы Слова, его внутренней энергии и дискурсивного религиозного начала, направленного на диалог с вечностью. Подтверждением тому являются отдельные тематические издания, как-то «Русская литература XIX века и христианство» (МГУ, 1997), «Русская литература и религия» (Новосибирск, 1997), а также многочисленные, уже ставшие традиционными, сборники научных трудов, среди которых особое место занимают санктпетербургские «Христианство и русская литература», «Пушкинская эпоха и христианская культура», петрозаводские сборники «Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX вв.еков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр» и др. В диссертационной работе мы обращаемся к изучению частной составляющей этой глобальной темы.
Впервые в истории отечественного литературоведения предметом специального исследования стало такое уникальное явление русской поэзии, как «молитва», описана онтологическая модель молитвенной архитектоники, выявлены определяющие черты молитвенного дискурса. Данная теоретическая база стала основой анализа молитвенной лирики трех поэтов: A.C. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева. Индивидуально-творческие особенности освоения ритуальной традиции позволили поставить вопрос о характере духовной эволюции этих писателей (естественно, в пределах авторского мифа о духовном самосовершенствовании).
История русской лирики запечатлела неугасимый интерес поэтов к таинству молитвенного слова, что нередко подчеркивается авторской номинацией стихотворений: цикл «Молитв» А. П. Сумарокова (вторая половина XVIII в.) — «Молитва о дожде» (1793) Н.М. Карамзина- «Супружняя молитва» (1803), «Две молитвы» (1826) И.И. Дмитриева- «Молитва души» (1823) и «Молитва» (1826) Ф.Н. Глинки- «Моя молитва» (1827) Д.В. Веневитинова- «Молитва» (1825) и «Молитва» (1835) Н. М. Языковатри «Молитвы» (1829, 1837, 1839), «Моя мольба» (1830) и «Юнкерская молитва» (1833) М.Ю. Лермонтова- «Молитва» (1836) A.B. Кольцова- «Моя молитва» (не позднее 1833), «Молитва» (1839) И.И. Козлова- «Молитва» (1839) В.И. Красова- «Моя молитва» (1838) Н.П. Огарева- «Молитва» (1840-е гг.) Е.А. Баратынского- «Молитва» (1840-е) Ап. Григорьева- «Молитва Ангелу-Хранителю» (1840), «Молитва об ополченных» (1855), «Молитва за святую Русь» (1855) Е. П. Ростопчиной и др. Это, само по себе интересное явление, дополняется произведениями не имеющими столь прозрачного авторского «жанрового обозначения», но тем не менее ориентированных на воспроизведение молитвенного дискурса: «Отцы пустынники и жены непорочны.» (1836) A.C. Пушкина, «На сон грядущий.» (н. 1840-х) Н. П. Огарева, «Владычица Сиона, пред тобою.» (1842), «Чем доле я живу, чем больше пережил.» (между 1874 и 1886 г.) A.A. Фета, «Пошли, Господь, свою отраду."(1850) Ф. И. Тютчева и др.
Для поэтов XIX века молитвенная традиция в ее ритуальном и эстетическом (например, в парафрастических жанрах) планах была органичным явлением, а живое восприятие православной обрядности сосуществовало с интересом к мировым религиями. Стремление творческого духа к воссозданию экстатичной природы богообщения проявляется в разных ракурсах, моделируя ту или иную ментально-религиозную сферу. Так появляются «Молитва бедуина» А. Н. Майкова (1839), «Молитва Парии» (1840-е) Ап. Григорьева, «Ave Maria» (1842) A.A. Фета.
Активное освоение молитвенной формы мировосприятия русской поэзией XIX в. — часть общекультурного процесса репрезентации сакрально-религиозной модели мировидения во внеритуальной сфере. Приведем два примера «приращения» молитвенной природе светского элемента. Это i религиозно-дидактическая основа так называемой Азбучной молитвы и государственно-патриотическая мотивировка национального гимна России «Боже, Царя храни!».
В 1825 г. (в самый разгар поэтических экспериментов над молитвенным словом) М. П. Погодиным впервые опубликован текст Азбучной молитвы по списку Хронографа 1494 г. 1 Позже будет обнаружен более ранний список (XII-XIII в.), приписываемый Константину Философу. Уникальный памятник литературы запечатлел органичное слияние двух важнейших моментов русской истории: утверждение православия и возникновение, популяризация славянской письменности. Болгарский источник прошел быструю адаптацию на русской почве. Молитва Богу, осуществляемая с помощью живого наглядного вхождения в азбучный микромир, моделирует макрокосм словесного служения «Альфе и Омеге, началу и концу всего» (Откр.1. 8, 10- 21. 6- 22.13). Каждый стих молитвы начинался с новой строки буквой, выполненной киноварью, конец же стиха отмечался крестообразно расположенными точками и знаком в виде перевернутой запятой. Азбучный акростих основной стихообразующий фактор для этого произведения, способствующий быстрому запоминанию азбучной системы:
Азъ словомь симь молюся Богу: Боже вьсея твари и зиждителю Видимыимъ и невидимыимъ! Господа Духа посъли живущаго Да въдъхнет въ сьрдце ми слово Еже будетъ на успехъ вьсемъ Живущиимъ въ заповедехъ ти. В Азбучной молитве оживают разные ипостасные сущности слова. Это Слово — Бог и ожившее азбучное СловоСлово евангельское, рожденное Духом Божественным, и Слово-свет, светильник жизниСлово произнесенное и.
1 Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. Историко-критическое исследование. М., 1825. С. 109. Об истории публикаций Азбучной молитвы см.: Зыков Э. Г. Судьба «Азбучной молитвы» в древнерусской письменности // ТОДРЛ. Л., 1971. Т. XXVI. С. 176−191- Куев K.M. Азбучна молитва в славянските литератури. София, 1974. С. 32−33.
2 Федотов О. И. Основы русского стихосложения. Метрика и ритмика. М., 1997. С. 83−85. написанное, просящее и возносящее хвалу, данное и даруемое. Молитва, «сотворенная азбукой», превращается в дыхание жизни, явленное в слове истинном, которое может быть прочитано как по вертикали, так и по горизонтали, воспроизводя форму креста. Более ярким примером может послужить Погодинская Псалтырь следованная ХУ-ХУ1 в., где «семантическая вертикаль» азбучного акростиха в большинстве случаев фиксирует старославянские названия букв (Азъ — (Богь) — Вижду — ГлаголюДобро — Есть — Жизнь — 8ло — Земля и т. д.).1 Азбучные наименования букв, принадлежащие славянскому Первоучителю Кириллу, как показала Л. В. Савельева, связаны между собой в проповеднический сверхтекст об основах христианского вероучения, о возможностях познания мира и самопознания2. Проповедническая вертикаль в азбучной молитве обретала новые онтологические возможности при включении в нее молитвенной модели мировидения.
Азбучная молитва преследовала двоякую цель: воспитание духа и воспитание ума. «Учительная» функция для нее была настолько значима, что могла превалировать над религиозной. Но тот факт, что для дидактических целей использовалась именно молитвенная форма, примечателен. Первые шаги приобщения к слову учительному, осознанию грамоты формировали сакральный ориентир духовных поисков.
Молитвенный дискурс настолько органичен для русской культуры, что проникает практически во все ее сферы, утверждается как самодостаточное, самоценное явление. Примером расширения его функциональных возможностей является национальный гимн России, передающий дух эпохи, ее ценностную доминанту. При переходе молитвенной формы из религиозного ритуала в государственный последнему придается особая значимость в связи с тем, что он в своей основе таит сакральную модель Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910. С. 33−34.
2 Савельева Л. В. Славянская азбука // Евангельский текст в русской литературе ХУШ-ХХ веков. Петрозаводск, 1994. С. 12−31. мировидения. «Боже, Царя храни!» — эти слова В. А. Жуковского вызвали огромный резонанс в культурно-историческом пространстве. Множество подражаний и пародий на «Народный гимн» — лишь одна из сторон его необыкновенной популярности. Тема соборной молитвы за царя, как представителя верховной власти на земле, развивается в недрах русской православной традиции, восходящей к общехристианской. Увещевание «молиться за всех человеков, особенно за начальствующих» находим в Первом послании апостола Павла к Тимофею (1 Тим. 2, 1−2). Однако идея стихотворения, хотя и созвучна национальной религиозной традиции, была заимствована Жуковским из другой ментальной сферы.
Источник народного гимна — британский «God save the King!» («Боже, храни Короля!»). «God save the King!» — эта фраза обрела в XIX в. характер крылатого выражения. К ней, например, прибегает Е. А. Энгельгардт, сообщая в письме от 22 января 1831 г. Ф. Ф. Матюшкину о царском назначении скромного Вольховского Генеральным Консулом в Египет.1 Всеобщее увлечение английской культурой, освященной именем Байрона, не могло пройти мимо музыкальной эмблемы «туманного Альбиона», тем более, что до 1833 г. функцию национального гимна России выполнял британский2 Связь стихотворных текстов Жуковского (см.: «Молитва Русских», «Молитва Русского народа», «Русская народная песня», «Песня русских солдат"3) с «первоисточником» осознавалась его современниками. Еще в 1816 г. для написанного к 19 октября произведения «Там громкой славою», явившегося вариацией на тему «Боже, Царя храни!», по свидетельству В. П. Гаевского, ученики Царскосельского императорского Лицея использовали мелодию английского гимна.4.
1 Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по Царскосельскому Лицею: Материалы для словаря лицеистов Первого курса 1811−1817. СПб., 1912. Т. 1. С. 85,.
2 Энциклопедический словарь. СПб., 1893. Т. VIII А. С. 713.
3Об истории создания и публикации этих стихотворений см. комментарии Н. Серебренникова в издании: Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20-ти т. Т. 1. С. ?37−638- Т. 2 (в печати).
4 Гаевский В. П. Пушкин в лицее // Современник. 1863. № 8. С. 372.
Если для британской традиции, условно говоря, незыблемой является идея королевской власти, то на русской почве доминантную роль выполняет молитвенный дискурс. Неслучайно одна из ранних редакций будущего гимна носила название «Молитва Русских» (опубликована в «Сыне Отечества» за 1815 г. с пометой: «На голос: God save the King.»).
Произведение Жуковского, в 1833 г. переложенное на музыку лучшим представителем русской скрипичной школы XIX в. Алексеем Федоровичем Львовым, получило статус официального гимна, сконцентрировав в себе основную концепцию государственности, освященную религиозной верой в Богохранимость России и ее Царя. Молитвенная форма и охранный дискурс смогли наиболее объемно передать эту идею.
Процесс освоения молитвенного дискурса в культурном пространстве России динамичен, он питается не только национальными истоками, но и осваивает мировую традицию молитвословия в разнообразных ее проявлениях. Молитвенная лирика является неотъемлемой частью этого процесса. Исследование русской стихотворной «молитвы» дает возможность составить представление о характере духовной эволюции конкретного поэта или, в более обширном контексте, — эволюции национального духовно-религиозного мировоззрения, запечатленной в лирической «экспозиции идеалов и жизненных ценностей человека».1 Особенно актуально это для романтического периода, когда поэт наделялся пророческими функциями, а потому на него возлагалась особая миссия: «В минуту вдохновения он постигает сигнатуру периода того времени, в котором живет он, и показывает цель, к которой должно стремиться человечество ."2.
Пограничная область искусства и религии определяет особенность рассматриваемого нами явления. Творческое восприятие религиозного таинства, несомненно, ориентировано на некий «жанровой канон», который оформился вне литературной области и именно под его воздействием.
1 Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1997. С. 11. 1 Одоевский В. Ф. Из записной книжки // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2-х т. М., 1974. Т. 2. С. 178. формирует новую эстетическую реальность, некое собственно авторское мировидение. Богообщение в его религиозном понимании преобразуется поэзией в особую модель эстетического переживания религиозной ситуации, которая в разные периоды жизни поэтов по-разному актуализирует мировоззренческие акценты духовно-творческого плана. Юношеские эксперименты над молитвенным словом постепенно вытесняются напряженным диалогом с творящими силами мира. В зрелый период творчества обращение поэтов к «молитве» отражает характер духовных поисков на вершине глобальной концентрации творческих силнередко этот макрокосмический диалог, вводя поэтическое слово в онтологическую сферу, служит своеобразным подведением итогов и определением ценностных ориентиров жизни, конечность которой осознается весьма остро. За год до смерти перелагает Великопостную молитву A.C. Пушкин. За год до смерти бросает свою «Благодарность» несовершенному миру М. Ю. Лермонтов. В период предсмертной болезни перелагает Великопостный светилен Ф. И. Тютчев. Странная закономерность в творческой судьбе русских поэтов заставляет задуматься об особой роли молитвенного слова в духовно-творческом самоопределении писателей. Аналогии можно продолжить. В период одиночного заключения по делу о восстании 1825 г. обращается к «молитве» К. Ф. Рылеев в стихотворении «Мне тошно здесь, как на чужбине.», и, возможно, предчувствуя исход следствия, незадолго до казни он напишет «Благий Отец! Се час приходит мой!». Перед смертью создает свою «Молитву» разбитый параличом И. И. Козлов. «Последним звуком его арфы» назовет это стихотворение В. А. Жуковский.1.
Расширение границ жанрового репертуара русской лирики определяет актуальность диссертации. Целый пласт поэтического наследия XIX в., таящий в себе истоки ментального самоопределения нации в сакральной мировоззренческой модели, долгое время находился вне литературоведческого интереса. Исследовательская концепция работы.
1 Жуковский В. А. О стихотворениях И. И. Козлова // Современник, 1840. № 2. Т. XVIII. С. 86. обусловлена: во-первых, общей направленностью современной научной мысли на восстановление духовно-религиозных истоков русской литературы, которая грубо и искусственно была оторвана от своих корней в социалистический периодво-вторых, острой необходимостью пересмотра научной практики анализа поэтики стихотворных текстовв-третьих, потребностью введения в вузовскую и школьную методику изучения творчества отдельных писателей, основывающуюся на биографическом аспекте, проблемы духовной эволюции авторов.
Цель диссертации заключается в определении онтологической сущности стихотворной «молитвы», выявлении общелитературных тенденций и индивидуально-авторских особенностей освоения охранного слова в русской поэзии XIX в. Основными задачами стали:
— исследование и описание архитектонической модели «молитв» в онтологическом аспектеопределение специфики романтических стихотворных «молитв» XIX в.;
— анализ авторской концепции «молитвы» в творчестве A.C. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, выявление характера эволюции молитвенной лирики этих писателей.
Методологической базой диссертации явились работы ведущих исследователей истории русской поэзии (М.Л. Гаспарова, Л .Я. Гинзбург, Ю. М. Лотмана, С. А. Матяш, Т. И. Сильман, О. И. Федотова, A.C. Янушкевича и др.). На основе типологических сопоставлений произведений выявляются общие архитектонические признаки и функциональные разновидности поэтических «молитв». Духовно-философский аспект исследования обусловлен проблемой эволюции молитвенной лирики отдельных авторов, для его обоснования привлечены дневниковые записи, эпистолярное наследие, воспоминания современников, с одной стороны, святоотеческая и философская традиции толкования молитвословия и духовного совершенствования человека — с другой.
Пограничная область религии и литературы характеризуется с позиции эстетики! художественного творчества, целостности художественного произведения, поэтической самоценности текста (М.М. Бахтин, М. Н. Дарвин, и.
В.И. Тюпа, Е.Г. Эткинд), в то же время генезис исследуемой проблемы определяется в аспекте исторической поэтики (А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский) и культурно-исторического метода.
Объектом диссертационного исследования является молитвенная лирика русских писателей XIX в., среди которых: Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, В. И. Красов, И. И. Козлов, В. К. Кюхельбекер, Н. П. Огарев, К. Ф. Рылеев, А. А. Фет, Н. М. Языков и др. Обозначены истоки зарождения стихотворной «молитвы» в фольклорной традиции и литературе ХУП-ХУШ вв. (Симеон Полоцкий, А. Сумароков, В. Тредиаковский, А. Ржевский и др.) и некоторые аспекты литературной преемственности в молитвенной лирике XX в. (А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Иванов). На фоне общелитературных тенденций выявляются особенности авторской концепции охранного слова в творчестве А. Пушкина, М. Лермонтова и Ф. Тютчева. Стихотворные тексты отбирались методом сплошной выборки из прижизненных изданий произведений, дневников писателей, газет и журналов XIX в., сборников духовной поэзии и вольной лирики, сборников полных и избранных собраний сочинений в сериях «Библиотека поэта» (большой и малой) и «Литературные .памятники», академических изданий произведений.
Для обоснования научной новизны диссертации необходимо осветить наметившиеся в литературоведении XX в. подходы к изучению стихотворной «молитвы». Исследователям русской поэзии XIX века так или иначе приходилось сталкиваться с проблемой молитвенного слова, и эта проблема, «витая в воздухе», часто получала противоречивое толкование. Так В. Н. Касаткина в монографии «Поэзия Ф. И. Тютчева» говорит о том, что «специфическая молитва» стоит особняком в романтической лирике. Она «содержит в себе не анализ личного, внутреннего бытия, как в исповеди, и не размышление о людях и жизни, как в думе. В ней запечатлен один порывстремление к самосовершенствованию или совершенствованию жизни дорогих сердцу человека людей. Поэты лирически выражают потребность души в идеале».1.
Если Касаткина обособляет романтическую «молитву» от исповеди, то авторы «Лермонтовской энциклопедии», наоборот, в статье «Исповедь», подчеркивая, что исповедь культивируется Лермонтовым как литературный жанр, причисляют к нему и «Молитву», написанную М. Ю. Лермонтовым в 1829 году.2.
И в том, и в другом случае мы имеем дело с замечаниями частного характера, не претендующими на полноту исследования интересующей нас проблемы. Но эти литературоведческие трактовки стихотворной «молитвы» XIX в. заостряют вопрос о правомерности выделения в поэтической системе «молитвы» как специфического жанрового образования, обладающего общностью тематических признаков.
Тематической доминантой стихотворных «молитв» является желание. Горизонты человеческих устремлений, находясь в непосредственной зависимости от высшей божественной воли, в молитвенном мировидении обретают охранную функцию. Сакрализация «моих» желаний есть конструкт провидения «моего» будущего, в эстетической парадигме он осуществляется за счет вербализации духовных устремлений. Включение в молитвенную модель мировидения исповедального элемента создает условие для временной транспозиции: «мое» будущее соотносится с «моим» прошлым. Особенность жанра молитвы заключается в том, что его тематическая основа исторически закреплена за конкретной сюжетной схемой, которую можно определить как сюжет-ахретип. Поэтому более продуктивным в литературоведении оказался не тематический, а формально-тематический, точнее структурный, подход к исследованию литературных «молитв», он был намечен в работах по античной литературе и христианской традиции молитвословия. Касаткина В. Н. Поэзия Ф.И. Тютчева. М., 1978. С. 90.
2 Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 201.
С.С. Аверинцев, открывая сборник «Поэтика древнегреческой литературы» статьей «Древнегреческая поэтика и мировая литература», акцентирует внимание на исключительной ценности этого периода мирового культурного процесса: «. перед нами происходит отработка и опробирование норм, которым предстояло сохранять значимость для европейской литературной традиции в течение двух тысячелетий"1. В контексте этого сборника в статье H.A. Рубцовой заявлена проблема исследования древнейшей литературной формы обращения как конструирующего принципа гимнического жанра. Материалом для анализа послужили молитвы «Илиады» Гомера, гимны Гомера и гимны Каллимаха. Основной принцип построения формы гимна в этой работе определяется как форма обращения, реализуемая через взаимосвязь основных компонентов: именования и просьбы. Подобные структурообразующие элементы восходят к молитве, в частности к молитве просительной, но в разные историко-литературные периоды, сохраняя связь с предшествующей традицией, получают новые содержательные оттенки.
Тексты молитв и гимнов рассматриваются Рубцовой с трех позиций: состава просьб, состава именования и языковых конструкций. Отметим основные выводы работы. Изменение содержания формы обращения находится в прямой зависимости от изменения содержания исторических типов сознания. Молитва, связывая адоранта с богом, функционирует как непосредственное бытие в богев ней преобладает просительная часть, связанная с конкретным поводом. В гимнических жанрах непосредственность общения с богом разрушается, просительная часть стушевывается, получая достаточно общий характер, в то время как состав именования бога значительно увеличивается. «Поэтическое изображение бога в гимне есть результат новых по сравнению с молитвой качеств человеческого сознания, выраженных в осмыслении человеком и представлении им своего бытия как непосредственно данного и нерасчлененного внутри себя целого».
—- ,.
Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 3. «Рубцова H.A. Форма обращения как конструирующий принцип гимнического жанра (на материале молитв «Илиады», гомеровских гимнов и гимнов Каллимаха) // Поэтика древнегреческой литературы. С. 213.
Античный гимн, лишенный молитвенного элемента, не перестает быть гимном. Он предназначен для восхваления, воспевания богов. Выросший из ритуальной традиции, он ориентирован на воспроизведение ритуальной схемы, устойчивых элементов композиции, оправдывающих ожидания участника ритуального действа, слушателя или читателя. М. Л. Гаспаров выделяет следующие композиционные части гимна: обращение с именованием, прославление божества и молитва с просьбой не оставлять поющих благосклонностью. Молитва — наименее предсказуемая часть гимна, так как для этого жанра «предсказуемым» элементом формы обращения к богам является прославление, а не прошение о помощи.1.
Итак, в античных гимнах молитва — не обязательный элемент, но она могла присутствовать в редуцированном виде, подчиняясь основной идее жанра, или претендовала на тематическую автономию, что происходило в особо маркированной части композиционного развития темы — в финале. Неслучайно в мировой традиции утверждается за молитвой, следующей за основным текстом, семантика финала, сигнала конца любого высказывания (пусть это будет житие, гимн, ода или романтическая поэма).
О тесной связи гимнографического и молитвенного творчества на примере древнерусской богословской традиции говорится в диссертационном исследовании Е. Б. Рогачевской «Молитвенное творчество Кирилла Туровского (проблемы текстологии и поэтики)». Критерием их разграничения предлагается функционально-структурная оппозиция: текст поющийся (гимн) / текст произносимый (молитва). Эта оппозиция, характерная для религиозной традиции, как и оппозиция, предложенная Рубцовой для античной литературы (древнейший способ богообщения (молитва) / «новейший» (гимн)), не приемлемы для русской «духовной» поэзии XIX в., в которой существенную роль играет категория авторства. Хотя древнерусская система жанрового разграничения могла оказать влияние, например, на переименование «Молитвы Русских» Жуковского в «Народный гимн», в Гаспаров М. Л. Избранные труды. О поэтах. М., 1997. Т. 1. С. 491−528. процессе которого происходит переакцентация художественной идеи и расширяются функциональные возможности текста. При сопоставлении молитвы с гимном существенной оказывается не только градация «текст поющийся / текст произносимый», но и градация тематических доминант «молитвенная просьба / гимническая хвала».
Методология анализа молитвословных произведений древней Руси разрабатывается Рогачевской на основе церковного канона, формирующегося на русской почве под влиянием переводных греко-римских образцов. Основными композиционными составляющими признаются славословие, благословение, покаяние. При доминирующей функции одного из этих компонентов молитва получает соответствующую название-характеристику. На примере молитвенного творчества Кирилла Туровского, получившего необыкновенную популярность в русской православной традиции, исследовательница анализирует функциональные возможности молитвенного канона, где в «уравновешенной композиции» равномерно сочетаются исповедальная, просительная, хвалебная и благодарственная части.
В работе Рогачевской присутствует также небольшой экскурс в литературу нового времени, когда при переходе из богослужебной практики в сферу поэтического творчества молитва сохраняет жанровое своеобразие за счет абсолютизации двух основных черт: обращения и прошения. «Таким образом, жанровое определение литературной молитвы практически совпадает со словарным значением этого слова, где преобладающей является сема прошения"1.
За пределами исследования Рогачевской остаются проблемы специфики светско-религиозного синкретизма, эволюции молитвенной лирики. Особенность литературной молитвы определяется как способ авторской рефлексии, «не рассчитанный на дальнейшее функционирование в своем первоначальном качестве». Конечно, стихотворения подобного типа не.
Тамже. С. 72−73.
2 Там же. С. 74. рассчитаны на использование в храмовом или домашнем богослужении, однако, их специфическая природа определяет им особый статус в эстетическом пространстве, в какой-то степени моделирующий «функционирование» религиозного текста, — отсюда, например, появление многочисленных сборников «духовной поэзии» (своеобразного литературного варианта богослужебного требника), в которые входят и литературные «молитвы». Так в 1822 г. санктпетербургская Императорская Академия Наук выпускает «Полный месяцеслов всех празднуемых православною грековосточною церковью святых.», снабженный «нравственными стихотворениями и нравоучительными статьями" — в 1871 г. в Москве в серии «Книжки для школ» выходят «Молитвы в стихах" — в 1914 киевское религиозно-философское общество издает сборник «Волны вечности в русской художественной литературе», где помещаются произведения так называемых «религиозных гениев» и т. д. Интересно, что подобные сборники еще не привлекали (насколько нам известно) внимание исследователей. Тематическая подборка произведений религиозного содержания выполняет не только познавательную функцию, но и нравоучительную, назидательную: духовное просвещения читателя, в том числе и юного («книжка для школ»), с помощью литературного текста.
В противовес академическим и религиозным отечественным изданиям за границей появляются сборники «вольной поэзии», где немало стихотворений, пародирующих христианское таинство.1 Так открывается вторая — «потусторонняя», запретная, инвариантная — сторона молитвенной проблематики. Очевидно, что вопрос о функционировании подобного рода произведений сложен и требует отдельного рассмотрения.
Молитва, в том числе и литературная, представляет собой специфическую реализацию диалогической ситуации, которая по природе своей способна к воссозданию мировоззренческой модели мира. Структурно-тематические составляющие этой архетипной формы: обращение и просьба,.
1 Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861- Лютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений. Лейпциг, 1869. универсальны и характерны не только для религиозной, но, например, и для магической традиции, тесно связанной с язычеством. Несмотря на функциональные различия магических и религиозных ритуалов, постоянно возникает вопрос об их взаимовлиянии.1 Литература нового времени, вырабатывая молитвенную модель на основе некоего обобщенного архетипа (религиозного, магического, мистического), подвергает эстетической сакрализации многочисленные внесубъектные категории: Природу, Свободу, Истину, Судьбу и т. д. Истоки подобного процесса, как представляется, уходят корнями в единый архетипный сюжет императивного свойства, легко адаптирующийся в разных сферах человеческого знания.
Дж. Фрэзер, основываясь на предположении, что магия возникла раньше религии, более древним способом воздействия на окружающий мир считает заклинание. А. Н. Афанасьев называет заговоры обломками древних языческих молитв и заклинаний.3 H.A. Рубцова, ссылаясь на Ф. Пфистера и Фр. Швенна, придерживается той точки зрения, что ранние молитвы практически ничем не отличаются от заклинаний.4 Таким образом, молитва развивается и утверждается вместе с подобными ей моделирующими явлениями словесно-обрядового (позже, художественного) творчества. Поэтому исследовательские попытки разграничения молитвы и заговора, молитвы и гимна и т. п. неизбежно оборачиваются вопросом о взаимовлиянии5 различных культурно-исторических сфер.
1 Ср.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1995. Т. 1. С. 23−24- Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 1. С. 116−119- Зелинский Ф. О заговорах: История развития заговора и главные его формальные черты. Харьков, 1897- Миллер Ор. Опыт исторического обозрения русской словесности. СПб., 1865. Т. 1. С. 67. Познанский Н. Заговоры: опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. Пг., 1917.
2 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 68.
3Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян. Т. 1. С. 23.
4РубцоваН.А. Форма обращения как конструирующий принцип гимнического жанра. С. 187, 218.
5Ср.: «если заговор и молитва — два смыслоразличаемых явления внутри определенным образом: канонизированного мировоззрения, то вопрос о соотношении заговора и молитвы есть прежде всего вопрос о том, как реально канонизировано это мировоззрение,» — Богданов К. А. Заговор и молитва (к уяснению вопроса) // Русская литература. 1991. № 3. С. 67.
Форму обращения к высшему божественному началу с — <хвалой> -просьбой можно признать древнейшим сюжетным архетипом, стремящимся к сакральному наполнению. Эта архетипная схема под влиянием ритуальной традиции выработала определенный горизонт ожидания, основанный на смене тематико-композиционных скреп. Уникальность этой формы дает возможность ее «гибкого» использования как в религиозной, мистической, магической, так и в художественно-творческой сферах человеческого самосознания.
В данной работе под «молитвой» понимается не жестко закрепленное за определенной религиозной парадигмой явление, а некая архетипная модель самовыражения и миросозидания. Существенная для историков оппозиция магия / религия, разграничивающая область функционирования заклинания и молитвы, при переходе в поэтическую парадигму не всегда сохраняет свои разграничительные свойства. Поэтическая «молитва» начинает существовать по своим законам, обобщающим духовный опыт человечества. Поэтому основная проблема, встающая перед исследователем литературной «молитвы», связана с выявлением характера взаимодействий форм исторического сознания в их творческом преломлении. Сложность состоит в том, что «молитва» чаще всего отражает форму ритуального (далеко не всегда христианского) сознания, а не дублирует определенный канонический текст. Парафрастические «молитвы» составляют лишь небольшой процент от общего количества поэтических текстов, воссоздающих молитвенный дискурс.
Стихотворная «молитва» неизбежно входит в двойной пласт взаимодействий с религиозной (магической, мистической) и поэтической (литературной) парадигмами, что позволяет поставить вопрос об авторской интерпретации канонической мировоззренческой модели. Одна из крайностей оценки этого явления — непосредственное включение литературно-творческого процесса в систему монашеского молитвословия. С. Е. Шамаева в работе «Жанр молитвы в лирике Лермонтова», рассмотрев три стихотворения поэта вместо шести, ориентированных на воспроизведение молитвенного дискурса), делает заключение: «Лермонтов продолжил и развил жанр молитвы, у истоков которого стоят Ефрем Сирин, Сергей Радонежский, Тихон Задонский».1 Подобное совмещение двух культурных парадигм не совсем оправдано. Точнее было бы говорить о том, что Лермонтов, ориентируясь на религиозную специфику молитвенного слова, создает особую эстетическую реальность молитвенной ситуации при ее иронической («Моя мольба»), богоборческой («Молитва» 1829, «Благодарность» 1840) трансформации или приобщении к сути религиозного таинства («Молитва» 1837).
Молитва формируется в контексте ритуальной традиции и проникновение ее в эстетическое пространство поэтического модуса — факт вторичный, хотя так или иначе связанный с праосновой (даже в пародии). Но истории русской культуры известны случаи размывания литературно-религиозных границ. Примером тому является молитвенное творчество Н. В. Гоголя, которое, однако, стоит за пределами собственно поэтической системы (нам известна только одна стихотворная молитва, приписываемая писателю: «К Тебе, о Матерь Пресвятая»). В молитвах второй половины 1840-х годов «На 1846 <год> («Господи! благослови на сей грядущий год!»), «Влеки меня к Себе, Боже мой.», «Боже, благослови!.», свидетельствующих о «богатом молитвенном опыте и глубоком знании святоотеческой традиции», 3 творческий потенциал писателя достигает своей духовной вершины, реализуется в сакральном слове о Боговдохновенном труде: «Влеки меня к Себе, Боже мой, силою святой любви Твоей. Не на миг бытия моего не оставляй менясоприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир, да, совершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя единого.
1 Шамаева С. Е. Жанр молитвы в лирике Лермонтова // М. Ю. Лермонтов. Тезисы межвузовской научной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения поэта. Ставрополь, 1994. С. 37.
2 Иероманах Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры отец Исидор очень любил ее и усиленно распространял. См.: Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 9-ти т. М., 1994. Т. 6. С. 548 (в дальнейшем — ссылки на это издание).
3 Там же. Т. 6. С. 387. представляя день и ночь пред мысленные мои очи."1 Стремление к творческому прозрению в молитвенном Слове, религиозное осознание собственного предназначения для Гоголя становится той духовной сферой, в которой религиозное начало органично вбирает в себя и литературно-творческое, освящая тем самым последнее (молитвы написаны в связи с работой над «Мертвыми душами»).
Вершинные явления в процессе религиозно-языковой филиации, когда литературное слово вступает в «обжигающе близкое соприкосновение» с религиозной традицией, явились предметом специального рассмотрения в работе В. А. Котельникова «Язык Церкви и литературы». Сопоставив особенность духовно-творческой импровизации молящегося в процессе произнесения канонического текста со спецификой лирического дискурса в «Молитве» 1837 г. М. Ю. Лермонтова, «Отцах пустынниках и женах непорочных.» A.C. Пушкина, «Молитве» (1842−43) Е. А. Баратынского, исследователь заключает: «в основе молитвенной лирики лежит не стилизация молитвословия, а акт религиозно-языкового творчества, включающий в себя момент реального богообщения и богопознания — так слагались псалмы, так слагались христианские молитвы св. отцами и учителями, новыми праведниками. Разумеется, степень духовно-мистического напряжения различна, сердечные экстазы, умные созерцания, интонации индивидуальны. Но реальность предстояния пред Богом есть главное и общее свойство молитвенного делания и молитвенной лирики"2. Сконцентрировав внимание на «подлинном молитвенном творчестве в поэтическом слове», Котельников выносит за пределы молитвенной лирики произведения, в которых литературность преобладает над церковностью. По мнению исследователя, таковыми являются «молитвы» Сумарокова, Батенькова. Примечательно стремление Гоголя не просто создать охранное слово для освящения творческого духа, но и приобщить к этой молитве творчески одаренных людей. См.: Воропаев В. А., Виноградов И. А. Комментарии // Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 6. С. 549.
2 Котельников В. А. Язык Церкви и литературы // Русская литература. 1995. № 1. С. 23.
При подобном подходе к анализу стихотворной «молитвы» вторичной оказывается собственно эстетическая сторона поэтического текста, и значение словосочетания «молитвенная лирика» неизбежно сужается, снимается проблема многопланового освоения молитвенного слова, молитвенной формы, дискурса, ситуации в русской поэзии, которая запечатлела не только образцы «духовной лирики», но и пародийные, богоборческие и даже кощунственные «молитвы». Художественный текст может находиться в весьма близком соприкосновении со своим «первоистоком», но может и травестировать, преображать его. Сошлемся на М. М. Бахтина, писавшего в работе о содержании, материале и форме в словесном художественном творчестве, что «в искусстве мы все узнаем и все вспоминаем. но именно поэтому в искусстве такое значение имеет момент новизны, оригинальности, неожиданности, свободы».1 Позже свобода художественного самовыражения другим исследователем, Е. Г. Эткиндом, будет определена с позиции эстетического идеала автора: «Соотношение в художественной системе старого и нового, унаследованного и изобретенного не бывает нейтральным: поэт непременно отдает предпочтение одному из противоборствующих элементов, какой-то из них выражает его эстетический идеал».2.
Современные работы о стихотворной «молитве» в литературе нового времени в большинстве случаев остаются на уровне «постановки проблемы», разрешение которой включает в себя следующие аспекты: 1 Определение структурно-тематических возможностей «молитвы» как формы художественного самовыражения;
2)выявление культурно-исторических, религиозно-философских, эстетических особенностей ее реализации в художественном процессе;
3) исследование специфики молитвенного дискурса и его экспликации в культурном пространстве.
1 Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 49−50.
2 Etking Е. In mature du vers. Paris, 1978. P. 174.
Последний аспект наименее изучен, но именно он открывает возможности для определения онтологической природы эстетического события. К проблеме молитвенной тональности слова в свое время подошел М. М. Бахтин. Конкретного терминологического обоснования этому понятию исследователь не дал, но по сути дела, это первая попытка определения молитвенного дискурса. Выглядит она пока следующим образом: «Если мы проанализируем тональность слова, любого словесного образа, то мы всегда вскроем в нем, хотя бы и в приглушенной. форме, тон мольбы-молитвы или хвалыпрославления. Это первая пара основных тонов (с ними связаны и соответствующие молитвенные или хвалебные стили и структурные первофеномены)».1.
Исследовательская гипотеза диссертации состоит в следующем: с одной стороны, «молитва» существует в художественной литературе как форма лирического самовыражения, с другой — как идея дискурсивного свойства. Несомненно, за молитвенным дискурсом утверждаются большие возможности, чем за формой, ограниченной рамками архитектонической (и тематической) задаяности. Однако без учета всепроникающего, всеобъемлющего значения молитвенного дискурса в ментальном пространстве России функциональные возможности сюжетного архетипа «молитвы» неизбежно обедняются.
Имея возможность остраненного взгляда на вековой опыт научной мысли, нетрудно заметить, что литературоведы в оценке феномена «молитвы» нередко вступают на морализаторскую позицию. В начале XX в. была ощутима тенденция к неприятию поэтических экспериментов над молитвенным словом. Стихотворная «молитва» неизбежно соотносилась с ритуальной практикой молитвословия и даже включалась в один ряд с нею. Отсюда высказывания Н. Черняева о слабом переложении Пушкина Великопостной молитвы Ефрема Сирина или категоричный комментарий.
1 Бахтин М. М. Собрание сочинений. М., 1997. Т. 5. С. 116. Разрядка — в первоисточнике. «Черняев Н. И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану». Харьков, 1898. С. 44−46.
Р.Брандта молитвенных фрагментов Ф. И. Тютчева.1 В конце века, — века, прошедшего испытание атеистическими идеями, — исследователи оказываются перед проблемой вторичной модификации молитвенного дискурса, когда классическая литература, впитавшая в себя духовные акценты эпохи, наделяется функциями, приближенными к ритуальным. В предисловии к «Полному собранию сочинений» Пушкина 1994 г. сакрализация поэта достигает пика, а его творчество оценивается следующим образом: «Пушкиным можно молиться — особенно нам, его соотечественникам, потому что это очень русская чудная молитва, помогающая преодолеть очень русские — уже хотя бы по масштабамневзгоды». Столь смелое заявление — одна из особенностей функциональной модификации молитвенного дискурса постсоветского периода. И дело не в том, можно или нет молиться Пушкиным (с ортодоксальной точки зрения, конечно, нет), а в том, что наиболее ценные культурно-исторические реалии нашей жизни оцениваются сквозь призму охранного слова, охранного дискурса. Этот уровень трансформации ритуальной традиции подвергся серьезной критике М. Эпштейном в работе «Новое сектантство», где наравне с такими «сектантскими» образованиями, как «дурики», «доброверцы», «пустоверцы», выделяются «пушкинианцы», создающие себе доброго и светлого бога, обряд почитания которого включает непрерывный круглогодичный цикл чтения его стихов.3.
Поднимая проблему функционирования «молитвы» в русской поэзии XIX в., мы сознательно используем кавычки для разграничения религиозного таинства и его реализации в поэтической сфере. Постепенно эти кавычки неизбежно будут сняты в литературоведческой практике, также как сняты они в области исследования литературной исповеди. Но сейчас, когда сильны тенденции слияния литературного процесса с религиозным, эта условность поможет нам определить не только духовные, но и эстетические аспекты Брандт Р. Материалы для исследования «Ф. И. Тютчев и его поэзия» // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. 1911. Т. XVI. Кн. 2. С. 181,209,211. j.
2Пушкин A.C. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. М., 1994. Т. 1. С. VII. Курсив наш.
3 Эпштейн М. Новое сектантство. М., 1994. С. 128−135. молитвенного слова.
Научную новизну работы составляет:
— анализ молитвенной лирики как целостного явления русской поэзииопределение религиозных, философских, мистических аспектов молитвенного дискурса;
— выявление эволюционных тенденций в молитвенной лирике XIX века.
Для удобства оформления ссылочного аппарата в диссертации приняты следующие условные обозначения: кроме специально оговоренных случаев, тексты A.C. Пушкина цитируются по изданию: Пушкин A.C. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. — М.: Воскресение, 1994;1997. В круглых скобках римской цифрой обозначен том, арабской — страница, например (I, 12). Тексты.
Лермонтова — Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: В 4-х т. — М.-Л.: Изд-во.
АН СССР, 1961;1962. Ссылки даются в угловых скобках, например <1, 12>.
Ссылки на тексты Ф. И. Тютчева осуществляются в квадратных скобках, например [I, 12], по изданию: Тютчев Ф. И. Лирика: В 2-х т. — М.: Наука, 1966.
Ссылки на Библию и Псалтырь имеют общепринятые сокращения. Все выделенные фрагменты текстов, кроме оговоренных особо, принадлежат нам.
Практическая значимость работы заключается в ее вкладе в исследование малоизученных проблем современного литературоведения. Основные положения диссертации могут быть использованы для разработки практических занятий, лекционных курсов по истории русской литературы XIX в., спецсеминаров и спецкурсов по творчеству A.C. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. Материалы диссертации и издаваемой на ее основе антологии «Русская стихотворная „Молитва“ XIX в.» могут быть применены в издательской практике и практике научного комментирования. Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Молитва, сакрализующая будущее и примиряющая миррвые антиномии, организует бытийно-мировоззренчеекие горизонты русской духовности. Обыденное течение жизни и исключительная ценность каждого мгновения в молитвенном видении озарено святостью. Начало и конец дня, рождение и смерть, радость и печаль, — все это получает остраненную оценку несомненной важности и значимости в ситуации богообщения. Формируя ценностную ауру, молитва дарует веру в смысл человеческого существования.
В русской поэзии XIX в. утвердились следующие мотивные реализации темы молитвы: непрестанная молитва (образец духовного совершенства), прерванная, несостоявшаяся, переадресованная (символизирующие дисгармонию души и мира), посмертная (наделенная искупительными функциями), детская молитва (символ духовной чистоты). Романтизм создает условия для гносеологического познания бытийности слова, поэтому одно слово-состояние могло наделяться молитвенными функциями, воплощая в себе концентрированную модель охранного дискурса.
В поэзии XIX в. можно выделить три основные группы текстов, связанных с молитвенной проблематикой:
— стихотворные макрокосмические диалоги, воссоздающие сакральный сюжет-архетип на основе звательных и императивных конструкций,.
— лирические «монологи» рефлективного плана о «молитве», о ее воздействии на душу человека,.
— стихотворения, суггестивно воссоздающие процесс духовного вознесения к сакральному источнику жизни и молитвенного просветления.
Наибольшее развитие в XIX в. получила первая группа текстов, ориентированных на форму ритуальных просительных молитв. Стихотворения подобного рода на основе простых конструирующих принципов воссоздают уникальную мировоззренческую модель. Организующими моментами молитвенной архитектоники являются: диалогическая завязка, определяющая «имяславскую» позицию «молящегося» и характеризующая онтологию сакрального имени или его эстетического дублетаимперативная часть, передающая характер взаимоотношений между человеческой и божественной субстанциямимолитвенная концовка, рассматриваемая нами с позиции последней просьбы высшим силам. Медитативный фон лирическому событию придают мотивы «слезного умиления», «сердечного горения», «духовного парения», утвердившиеся в русской поэзии под воздействием ритуальной традиции молитвословия. Конструирующие особенности молитвенного слова сохраняют в поэзии онтологическую значимость. Вызывая у читателя состояние припоминания известного, они воссоздают макрокосм молитвенного видения.
Архитектоника молитвенного слова, моделируя или трансформируя элементы ритуального действа, творит собственную реальность надличностного диалога, который может претерпевать множество модификаций в эстетическом пространстве. Отсутствие «сакрального имени» или его «подмена», самодовлеющее значение просьб, финальная рефлексияэти и другие проявления художественного «новаторства», несомненно, оказывают влияние на характер «молитвенной» диалектики. В зависимости от художественной установки сакральный диалог может получать самые разнообразные проявления: от кощунственных, богоборческих, эстетико-игровых до религиозных и мистических.
В XIX в. «молитва» предстает как самоценное явление, впитывающее в себя мировоззренческие акценты конкретной исторической эпохи и формирующее духовную перспективу современности. Вырастая на почве «парнасского афеизма», романтическая «молитва» включается в контекст поэтических кощунств в системе «отраженного» ритуального слова в стихотворных эпиграммах, в «черных» текстах, обращенных к демоническим силам. Установка на оригинальность в трактовке традиционных тем приводит к псевдосакрализации античных богов и обожествлению отвлеченных понятий. В 1810−20-е гг. адресатами «молитв» становятся Морфей, Фантаз, ВакхНочь, Сон, Истина, Надежда. Поиск индивидуального слова в контексте жестко регламентированной формы влиял на характер охранных просьб. Романтизм, с. его обостренным вниманием к самоценности отдельной личности, утверждает такой поэтический комплекс, как «моя молитва», актуализирующий неповторимость и исключительность «своего» слова в мировом макрокосме.
Эволюция молитвенной лирики XIX в. шла по пути возвращения сакральному диалогу его религиозной первосути. Значительная роль в этом процессе отводится парафрастическим жанрам, восстанавливающим связь лирического события с ритуальным пратекстом, и стихотворениям, ориентированным на духовные аспекты богообщения. В круг наиболее значимых ритуальных и евангельских текстов, повлиявших на эволюционный процесс XIX в., можно отнести: «Отче наш», Великопостный светилен «Чертог Твой вижду, Спасе мой.», Великопостную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего.», вечернее славословие «Свете тихий», «молитву о чаше» (Матф. 25- Map. 14- Лук. 22), а также католические молитвы «Ave Maria» и «Stabat Mater». Переломным моментом в судьбе молитвенной лирики стал 1825 г. Одержимые романтическими идеями Свободы, Истины, декабристы в период заточения и ссылок приходят к восприятию охранной природы молитвенного слова.
Эволюционный характер молитвенной проблематики XIX в. отчетливо прослеживается в особой тематической группе стихотворений, отвечавших потребностям романтического и постромантического мировосприятия. Это «ночные молитвы»: ночные бдения, придающие сакральный смысл «поэтической бессоннице», и «молитвы на сон грядущий», открывающие душевные тайны на склоне уходящего дня. Романтические эквиваленты ритуальных ситуаций постепенно вытесняются стихотворениями, актуализирующими охранную природу молитвенного слова. Рефлексия по поводу «поэтического молитвослова» в 1850-х гг. оборачивается своим антонимичным вариантом в то время, когда в молитвенную лирику активно проникает солнечный свет в своих самых разнообразных ипостасях.
Постоянный напряженный диалог поэтов с ритуальной традицией, определяет характер развития молитвенной проблематики в русской лирике. «Молитва» чувствительна к любым катаклизмам мирового и личного масштабов, а в контексте поэтической системы конкретного автора она концентрирует мировоззренческие акценты его духовной эволюции.
Молитвенное слово в юношеской лирике Пушкина испытывает влияние «парнасского афеизма». Оно проходит через языческое наполнение ритуальной формы при псевдосакрализации античных и славянских божеств, моделирует романтические варианты богослужебного цикла, опрокидывает сакральное содержание в ситуации «черных текстов» демоническим силам. Это определяет романтическую установку на оригинальность в трактовке традиционных тем. Константой поэтики Пушкина можно назвать формально-архитектонические аспекты лирического события, динамике подвержено содержательное наполнение формы. Молитвенный архетип, воспринятый поэтом в своей первооснове, реализует охранные функции лирического диалога на разном материале, создает фон сакрализации любви, дружбы, родного мира.
Используя онтологические возможности молитвенной архитектоники, Пушкин создает уникальные образцы романтической лирики. На переосмыслении суточного богослужебного цикла основаны пародия утренней молитвы («Заутра с свечкой грошевою.») и создание романтического варианта «молитвы» перед сном («К Морфею»). Молитвенный дискурс в стихотворении «Домовому» способствует сакрализации родного мира. Расширение функциональных возможностей послания «И.И. Пущину» происходит за счет введения межличного диалога в контекст охранного слова о судьбе страждущего. Обращение к православной традиции молитвословия в стихотворении 1836 г. «Отцы пустынники и жены непорочны.» логически завершает творческие поиски. Это стихотворение ключевое не только для поэтической системы Пушкина, но и для литературного процесса XIX в. После гибели поэта его предсмертная. «молитва» определила духовную доминанту молитвенной лирики 1830-х гг.
В художественном сознании М. Ю. Лермонтова молитвенное мировидение отражает одну из особенностей «всеведения» и «всезнания» поэта. Молитвенный дискурс, с одной стороны, эксплицировался на трансцендентные возможности души, с другой — придавал исключительную значимость эгоцентричным возможностям человека. Ритуальная форма самовыражения стала органичным способом установления диалогических отношений с миром.
В молитвенной лирике Лермонтова намечена эволюция от богоборческих тенденций («Молитва» 1829), творческих экспериментов над возможностью молитвенной формы («Моя мольба») и содержания («Юнкерская молитва») к примирению с миром и актуализации охранного воздействия молитвенного слова (Молитвы" 1837, 1839). Однако творческое освоение молитвенного дискурса носит кольцевой характер. В стихотворении 1840 г. «Благодарность» Лермонтов переосмысляет богоборческие темы своей юношеской «Молитвы» 1829 г. Финальный вызов творящим силам в обоих текстах соотносим с речевым жестом самопожертвования, саморазрушения.
Функциональные возможности «молитвы» в лирике Ф. И. Тютчева значительно трансформируются по сравнению с «молитвами» Пушкина и Лермонтова. Охранное слово оценивается поэтом с позиции целесообразности богообщения, что весьма актуально в век «безверия». Если эксперименты Пушкина носили эстетико-игровой характер, а лермонтовский вызов Богу — напряженно-личный, то в художественной системе Тютчева за «молитвой» утверждается особая функция. Современная ситуация растления духа в мире, лишенном Творца, опустошала и обессмысливала молитву. Революционная волна, разрушающая религиозные первоосновы, осознавалась как исторический тупик. Остраненный взгляд на современные проблемы позволил включить тему молитвы в проповеднический дискурс. Обращение к сакральному слову теперь осознается как последний шанс, — предоставляющийся человечеству, стоящему на грани духовной катастрофы.
Расширяя функциональные возможности «молитв», Тютчев находит особый способ лирического сюжетообразования. Драматизация лирического события за счет одновременного включения в один текст двух «молитв», принадлежащих разным религиозным сферам, служит основой ментального самоопределения нации в кризисный исторический момент («Олегов щит»). На пути освоения возможностей молитвенной проблематики Тютчев переживает моменты грандиозной концентрации духовных сил в ситуации абсолютной безысходности, тяжело переживая смерть Е. А. Денисьевой. Молитвенное слово начинает восприниматься им как единственно возможный способ духовного воссоединения с умершей возлюбленной («Есть и в моем страдальческом застое.»). Авторский вариант старческой молитвы, написанный 63-летним поэтом, исполнен самоиронии в момент переживания трагического несовпадения жизненного цикла человека с макрокосмическими законами вселенной.
В молитвенной лирике Тютчева происходит переакцентация значимости архитектонических составляющих формы. Просительная проблематика оказывается вторичной. Основные структурообразующие элементы молитвенного сюжета-архетипа ориентированы лишь на воссоздание сакральной мировоззренческой модели. У Тютчева «молитва» ценна своим наличием в мире. Она — грандиозный по своей духовной значимости поступок веры. Именно в таком ракурсе предстает последнее в творчестве поэта обращение к теме молитвы в переложении Великопостного.
236 песнопения «Чертог твой, спаситель, я вижу украшен.», из которого исключена просительная часть канонического текста.
Индивидуально-авторские особенности освоения молитвенного слова концентрируют в себе эстетические, философские, духовные акценты времени в их художественном преломлении и этапы духовно-творческой эволюции писателей.
В поэзии XIX века, распахнутой для диалога с творящими силами мира и природы, «молитва» создает трансцендентную ауру поэтическому слову, соприкасающемуся с эйдосом перво-Слова, перво-Смысла, перво-Истока. В высшем своем проявлении она сливается с национальным молитвенным дискурсом, в основе которого сакрализация будущего. Состояние медитативного переживания желаемого в надежде и вере, в искреннем уповании на лучшее, одна из особенностей ментального самоопределения нации, поэтому молитвенный дискурс органично воспринят русской культурой, составляет неотъемлемую часть русского самосознания.
Список литературы
- Антология гаозиса Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография: В 2-х т. СПб.: Меёуза, 1994.
- Архив братьев Тургеневых. СПб.: Типография Импфагорской Академии Наук, 1911.-Т.1.Вып.1.-512с.
- Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1976. — 560 с.
- Батюшков КН. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977. — 607 с.
- Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений.-Л.: Советский писатель, 1989 464 с.
- Веневитинов Д.В. Стихотворения. Проза. М: Наука, 1980. — 608 с.
- ЮБольная русская поэзия второй половины ХУШ первой половины XIX века. — Л: Советский писатель, 1970. — 919 с.
- Н.Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб.: Типография М. М. Стаеюлевича, 1880. -Т. 4. -380, XII с.
- ВяземскийП.А. Стихотворения.-Л:Советский писатель, 1986−544с.
- Гошль НВ. Собрание сочинений: В 9-ти т. М.: Русская книга, 1994.
- М.Глинка Ф. Н. Избранные произведения. Л: Советский писатель, 1957. — 502 с.
- Гораций К.Ф. Собрание сочинений. СПб: Биограф, институт, Студия Биографика, 1993. -448 с.
- Григорьев Аполлон. Стихотворения СПб., 1846. -178 с.
- Державин Г. Р. Стихотворения. М.-Л: Советский писатель, 1963 — 455 с.
- Дмитриев И.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1967. — 502 с.
- Жадовская Ю.В. Полное собрание сочинений. СПб., 1885. — Т. 1. -XXVI, 372 с. 21 .Жадовская Ю. В. Стихотворения. СПб., 1858. -141 с.
- Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20-ти т. М.: Языки русской культуры, 1999. — Т. 1. — 759 с- Т. 2 (рукопись).23Жуковский В. А. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1956. — 846 с.
- Иванов В. И Стихотворения. Поэмы. Трагедия: В 2-х т. СПб.: Академический проект, 1995.
- Карамзин КМ. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1966. — 424 с.
- Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979 — 789 с.
- Кюхельбекер В.К. Избранные произведения в 2-х т. М.-Л.: Советский писатель, 1967. -Т. 1.-667 с.
- Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений: В 5-ти т. СПб.: Изд-е разряда изящной словесности Императорской Академии Наук, 1910−1913.
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4-х т. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961−1962.
- ЗОЛютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений. Лейпциг, 1869.
- Майков АН. Сочинения: В 2-х т. М.: Правда, 1984. — Т. 1. — 576 с.
- Молитвы в стихах. М: Изд-е общества распространителей полезных книг, 1871. — 48 с.
- Поэтыискры:В2 -хт.-Л.: Советский писатель, 1987.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. СПб.: Изд-е Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1907. — Т. 1, — 649 с.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. М.: Воскресение, 1994−1997.
- Ростопчина Е. П Сочинения. СПб, 1890. — Т. 1. — ХЬУТП, 346 с. 4?.Русская духовная поэзия. М.: Православное братство «Споручницы грешных», 1996. -255 с.
- Русский сонет XVIII- начало XX века. М.: Московский рабочий, 1983. — 557 с.44Русская эпиграмма (XVIII начало XIX века). — Л.: Советский писатель, 1988. — 784 с.
- Рылеев К.Ф., Одоевский А. И. Полное собрание сочинений. СПб.: Жизнь для всех, 1913. -565 с.
- Рылеев К.Ф. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1971.
- Сумароков А.П. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1957. — 607 с.
- Толстой А.К. Полное собрание стихотворений: В 2-х т. Л.: Советский писатель, 1984. -Т. 1.-640 с.
- Тклчев Ф.И. Лирика: В 2-х т. М.: Наука, 1966.51 .Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений. СПб.: Изд-во Тов-ва Марс, 1913, — 466 с.
- Тютчев Ф. И Полное собрание стихотворений: В 2-х т. М.: Терра — Tenia, 1994.
- Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1990. — 800 с.
- Фет, А А. Стихотворения и поэмы. -Л.: Советский писатель, 1986.-752 с.55Языков НМ. Полное собрание стихотворений. М.-Я: Советский писатель, 1964. — 706 с.
- Всенощное бдение. Литургика М.: Изд-во Московской Патриархии, 1990. — 96 с.
- Гавриил, архимандрит. Руководство по лшургике или наука о православном богослужении. (Репринт 1886 г.) М.: Православный паломник, 1998 — 590 с.
- Добротолюбие: В 5-ти т. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергеева Лавра, 1993.
- Краткое объяснение Всенощной литургии или обедни, последований таинств погребения усопших, юдоосвящения и молебнов. Составитель прот. И. Бухарев. (Репринт 1904)-М.:МЭПЭМ, 1991, — 189 с.
- Лесгвичник Иоанн. Лесгвица, возводящая на небо. (Репринт 1908) М.: Правило вфы, 1997.-671 с.
- Росговский Дм., святитель. Алфавит духовный. М.: Правило веры, 1997.
- Святые ощы о молитве и трезвении. (Репринт 1889) М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1992. — 439 1. с.
- Сирин Ефрем, святой. Творения: В 8-ми т. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, изд-во «Отчий дом», 1993−95.
- Соколов Дм., придворный протоиерей. Молитвы, заповеди и символ веры с объяснениями. Курс начальных училищ. СПб., 1901. — 80 с.
- Спутник христианина Сборник духовно-нравственных статей. (Репринт 1898) М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993 — 599 с.
- Толковый молитвослов на русском и церковнославянском языках. М.: Сретенский монастырь, «Ковчег», 1998. — 432 с.
- Феофан, епископ. Сочинения. Путь ко спасению. Начертания христианского нравоучения. М., 1899. — Ч. 3. — С. 238 — 314.
- Христианство. Энциклопедический словарь: В 3-х т. М.: Большая Российская энциклопедая, 1993−1995.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика М.: Высшая школа, 1989 — 404 с.
- Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М.: Интрада, 1995.- 319с.
- Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики В.А. Жуковского. -Томск: ТГУ, 1990. -184 с.
- Короткая Л. Л Аигацерковная сатира XVIII века Минск: Высшая школа, 1968. — 80 с.
- Реморова Н.Б. В.А. Жуковский читатель и переводчик Гердера // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. — Томск: ТГУ, 1978. — Ч. 1. — С. 149- 209.
- Русские эстетические трактаты первой трети XIX века- М.: Искусство, 1974. Т. 2 — 648 с.
- Топоров В.Н. Вегхий дом и дикий сад: образ утраченного счастья // Облик слова Сборник статей памяти ДМ. Шмелева М.: РАН, Институт русского языка, Русские словари, 1997.-С. 290−318.
- Ходанен Л.А. Мотивы и образы «сна» в поэзии русского романтизма // Русская словесность. -1997 № 1,2.
- Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры: «элегическая школа», — СПб.: Наука, 1994 240 с.
- Гаспаров М.Л. Избранные труды. О поэтах. М.: Языки русской культуры, 1997. — Т.1. -С. 491−528.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика М.: Наука, 1984.-319 с.
- Гинзбург ЛЯ. О лирике. -М.: Интрада, 1997. 415 с. 95 .Жуковский В, А. О стихотворениях. ИИ Козлова // Современник, 1840. Т. ХУШ. № 2. -С. 83−86.
- Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII начала XIX века// Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. — Тарту, 1981. — Вып. 13. -С. 56−91.
- Маймин Е.А. Русская философская поэзия. М.: Наука, 1976. -190 с.
- Матяш С.А. Стихотворный перенос. К проблеме взаимодействия ритма и синтаксиса // Русский стих. Сб. в честь 60-летия М. Л. Гаспарова М.: РГГУ, 1996. — С. 191−193.
- Панченко А.М. Русская стихотворная культураXVII века Л.: Наука, 1973. — 277 с.
- ОО.Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. — 223 с.
- Шишкин А.Б. Из неопубликованных поэтических трудов BJC. Тредиаковского (стихотворная «Псалтырь») // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1984. Л.: Наука, 1986. — С. 29−39.
- Etking Е. In mature du vers. Paris, 1978.
- Афанасьева Э.М., Уразаева Т. Т. Поэтика пейзажа в русской молитвенной лирике // Русь-Россия и Великая Степь. Восьмые Крымские Пушкинские международные чтения. Симферополь, 1999. — С. 55−60.
- Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1976. — С. 258−260.
- Калугана В Л. Две «Молитвы» // Пушкинская эпоха и христианская культура СПб., 1993.-Вып. Ш.-С. 19−23.
- Колодяжная Л Молитвы русских поэтов // Московская патриархия, 1993. № 12. — С. 107−110.
- Макогоненко Г. П. Последний поэтический цикл Пушкина Нева, 1981. — № 6. — С. 176 -179.
- Марьянов Б. Сорокалетняя новость // Наука и религия, 1990. № 2. — С. 16 -18.
- ПетровМ.Н. Три эпиграммы Пушкина? (Мнение историка) // Пушкин и другие. Сб. статей к 60-летию проф. СЛ. Фомичева Новгород, 1997. — С. 98 -107.
- Рогачевская Е.Б. Молитвословное творчество Кирилла Туровского (проблемы текстологии и поэтики). Дис. канд. филол. наук. М., 1993. — 241 с.
- Савченко Т.Т. О композиции цикла 1836 года А.С. Пушкина // Боддинские чтения. -Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1979. С. 70−75.
- Старк В. П Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны.» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин. Исследование и материалы. Л.: Наука, 1982. — Т. X. — С. 193−203.
- Ходанен Л.А. Поэтика «читательского цикла». Стихотворения М. Ю. Лермонтова, посвященные М. А. Щербатовой // Исторические пути и формы художественной циклизации в поэзии и прозе. Кемерово: КемГУ, 1992. — С. 67−75.
- Ходанен Л.А., Афанасьева Э. М. Жанровая форма «молитвы» в русской романтической поэзии. К постановке проблемы // Современные проблемы гуманитарных дисциплин. -Кемерово: КемГУ, 1996. Вып. 2. — С. 162−165.
- Юрьева И.Ю. «Нельзя молиться за царя Ирода."// Вестник Российской Академии Наук. -1997. Т. 67. № 6. — С. 525−528.
- МИФОЛОГИЯ. МАГИЯ. РЕЛИГИЯ. ФИЛОСОФИЯ.
- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т. М.: Советский писатель, 1995.
- Булгаков С. Н Философия имени. СПб.: Наука, 1998. — 447 с.
- Буслаев Ф. И Исторические очерки русской народной словесности и искусства -СПб., 1861.-'ГЛ. Ш, 643 с.
- Буслаев Ф. И Народная поэзия. Исторические очерки. СПб., 1887. -VI, 501 с.
- Буслаев Ф. И Общие понятия о русской иконописи. М., 1866.
- Былинин В.К. Древнерусская духовная лирика // Прометей: Исг.-биогр. альм. сер. „Жизнь замечат. людей“. Тысячелетие русской книжности. М.: Молодая гвардия, 1990. -Т.16.-С. 54−99.
- Зелинский Ф. О заговорах: История развития заговора и главные его формальные черты. Харьков, 1897.
- Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ее икон. -Омск: Омско-Тарская Епархия, 1996. 435 с.
- Кальнев М. А. История секганских молитвенных песнопений. Разбор их содержания. -Одесса, 1911.-47 с.
- Кемпийский Ф. О подражании Христу (репринт). М.-Минск: Гендальф — МЕТ, 1993.-219 с.
- Киселев А. Чудотворные иконы Божьей Матери в русской истории М.: Русская книга, 1992.- С. 222 1. с.
- Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. СПб.: Типография Академии Наук, 1914. -Т.1.-387 с.
- Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль, 1999. — 958 с.
- Лосев АФ. Имя. Сочинения и переводы. СПб.: Алетейя, 1997. — 616 с.
- Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М: Мысль, 1993. — 959 с.
- Максимов С.В. Крестная сила. Нечистая сипа Неведомая сила Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1991. — 351 с.
- Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии А. И. Соболевского. СПб., 1910. — 286 с.
- Миллер Ор. Опыт исторического обозрения русской словесности, с христоматиею, расположенною по эпохам. СПб., 1865. — Ч. 1. Вып. 2. — IV, 160 с.
- Платон. Кратил // Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. М.: Мысль, 1990. — Т. 1. — С. 613−681.
- Розанов В. В. О писательстве и писателях.- М: Республика, 1995.- 734 с.
- Познанский К Заговоры: опыт исследования происхождения и развития заговорных формул.-Пг., 1917.
- Топоров В. Н Имена//Мифы народов мира Энциклопедия: В 2-х т. М.: Российская энциклопедия- Минск: Дилер- Смоленск: Русичи, 1994. — Т.1. — С. 508 — 509.
- Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. — Т. 2. — 446с.
- Флоренский ПА. Словесное служение. Молитва // Богословские труды. М., 1977. -Сб. 17.-С. 180−181.
- Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, 1992. — 464 с.
- Эпштейн М. Новое сектагпство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (70−80 гг. XX в.). М.: Лабиринт, 1994. -181 с.
- Hello Е. Paroles de Dieu. Reflexions sur quelques textes sacres. Paris, 1877. — P. 481 -503.1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИСТОРИЯ.
- Карамзин RM. История государства Российского. M.: Наука, 1989. — Т. 1. — 636 с.
- Карточный игрок на все руки. Полный самоучитель в 6-ти частях. М.: Book chamber international, 1991. — 256 с.
- Лихачев Д.С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Л.: Наука, 1982. -343 с.
- Логман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского д ворянства (XVIII -начало XIX века). СПб.: Искусство — СПБ, 1997.- 399с.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. — 272 с.
- Успенский Б.А., Лотман Ю. М. Миф имя — культура // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Статьи по семиотике и типологии культуры. — Таллин: Александра, 1992. — Т.1. -С. 58−75.
- Шеремет В. И Турция и Андрианопольский мир 1829 г. Из истории Восточного вопроса. М.: Наука, 1975. — 226 с.
- Блашй ДД. Творческий путь Пушкина (1826−1830). М.: Советский писатель, 1967. -723 с.
- Гаевский В. П Пушкин в лицее // Современник. -1863, № 8. С. 372.
- Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по Царскосельскому Лицею: Материалы для словаря лицеистов Первого курса 1811−1817.- СПб., 1912.-Т.1. -XX, 564, XII с.
- Грехнев В.А. Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород, 1994. — 464 с.
- Измайлов HB. Очерки творчества Пушкина Л: Наука, 1976. — 440 с.
- Кибальник С.А. Тема случая в творчестве Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. СПб.: Наука, 1995. — Т. XV. — С. 60 — 75.
- Лесскис Г. А. Религия и нравственность в творчестве позднего Пушкина М.: Издательский центр „Гарат“, 1992. -160 с.
- Морозов П. Пушкин и Парни // A.C. Пушкин. Полное собрание сочинений. СПб.: Издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1907. — Т. 1.- С. 380 — 392.
- Муравьева О.С. Об особенностях поэтики пушкинской лирики // Пушкин. Исследования и материалы. Я: Наука, 1989. — Т. ХШ. — С. 21−32.195 .Непомнящий В. Дар. Заметки о духовной биографии Пушкина // Новый мир. 1989, № 6.-С. 241−260.
- Пушкин в русской философской критике. М.: Книга, 1990. — 527 с.
- Пушкин: путь к православию. М.: Огчий дом, 1996. — 335 с.
- Пущин И, И Записки о Пушкине. Письма. М.: Правда, 1989. — 576 с.
- Строганов М.В. Пушкин и мадона // Пушкин. Проблемы творчества. Межвузовский тематический сб. научных трудов. Калинин: Калининский гос. ун-т, 1987. — С. 15−34.
- Томашевский Б.В. Пушкин и Франция. Л.: Советский писатель, 1960. — 498 с.
- Утаенная любовь Пушкина. Сборник статей. СПб.: Академический проект, 1997. -493 с.
- Фомичев С.А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л.: Наука, 1986. — 302 2. с.
- Фридлендер Г. М. Поэтический диалог Пушкина с ПА. Вяземским // Фридпендер Г. М. Пушкин. Достоевский. „Серебряный век“. СПб.: Наука, 1995. — С. 252 — 268.
- ЭйдельманНЛ. Твой 18-й век. Прекрасен наш союз. М.: Мысль, 1991. — 397 1. с.
- ЛИТЕР А1УРА ПО ТВОРЧЕСТВУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА212Архипов В. А. Лермонтов М.Ю. Поэзия познания и действия. М.: Московский рабочий, 1965. — 472 с.
- Афанасьева Э.М. Мадонна в творчестве М.Ю. Лермонтова: семантика образа // Языковая картина мира: лингвистические и культурологические аспекты. Материалы международной научно-практической конференции: В 2-х т. Бийск: Изд-во БиГПИ, 1998.-Т.1.-С. 41−44.
- Висковатов ПА. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М.: Современник, 1987. -494 с.
- Ермоленко С.И. Лирика Лермонтова: жанровые процессы. Екатеринбург: УрГПУ, 1996.-421 с. 218.3аборова Р. Б. Материалы о М. Ю. Лермонтове в фонде В. Ф. Одоевского // Труды Публ. б-ки им. М.Е. Салтъжова-Щедрина. Л, 1958. — № V (8). — С. 185−190.
- ИеропольскийК.А. „Звуки небес“ в произведениях Лермонтова Ярославль, 1914. -С.6−13.
- Мережковский ДС. М.Ю. Лермонтов Поэт сверхчеловечества // Мережковский ДС. В тихом омуте. — М.: Советский писатель, 1991. — С. 378 — 415.
- Найдич Э.Э. Стихотворение 'МЛ. Щербатовой» (Лермонтов и Гребенка) // М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л Наука, 1979. — С. 403−408.
- Никитин М. Идеи о Беле и судьбе в поэзии Лермонтова. Нижний Новгород, 1916. -С. 3−48.
- Сакулин ПН Земля и небо в поэзии Лермонтова // Венок М. Ю. Лермонтову. М. — Пг.: Издание Т-ва"В.В. Думнов, Наследники Бр. Салаевых", 1914. — С. 1 — 55.
- Смирнова-РоссетА.О. Автобиография. Неизданные материалы.-М.: Мир, 1931.-364 с.
- Турьян М.А. Владимир Одоевский и Лермонтов: к истокам религиозных споров // Новые безделки. Сб. статей к 60-легию В. Э. Вацуро. М.: Новое лит. обозрение, 19 951 996. — Вып. VI. — С. 182−197.
- Уразаева Т.Т. Лермонтов: История души человеческой. Томск: Изд-во Том. ун-та 1995.- 235 с.
- Ходанен Л. А Поэтика Лермонтова. Аспекты мифопоэтики. Кемерово: КемГУ, 1995. -93 с.
- Ходанен Л.А., Афанасьева Э. М. Исповедальные формы в лирике М.Ю. Лермонтова // Вопросы филологии. Сб. работ студентов и аспирантов. Кемерово: Вузиздат, 1994. -С. 18−22.
- Берковский Н.Я. Ф.И. Тютчев (Вступительная статья) // Ф.И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. — С. 37.
- Брандг Р. Материалы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его поэзия» // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. -1911. Т. XVI. Кн. 2. — С. 136−232.
- Касаткина В. Н Поэзия Ф. И Тютчева М.: Просвещение, 1978. -175 с.
- Касаткина НВ. Поэтическое мировоззрение Ф.И Тютчева Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1969. — 256 с.
- Логман Ю.М. Поэтический мир Тютчева // Логман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство — СПБ., 1996. — С. 565 — 594.
- Пигарев К.В. Ф.И Тютчев и его время. М.: Современник, 1978. -333 с.
- Тюгчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П Фролову. Л., 1926 — 80 с.