Концепт «враг» в творчестве Эриха Марии Ремарка и советской «лейтенантской прозе» 1950-60-х гг
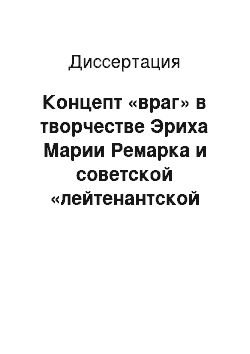
Дмитриев А. Гуманизм без веры в будущее: // Молодая гвардия. — I960. -№ 2. — С. 215−223- Боярский О. О творчестве Ремарка // Крым. — 1959. — № 23. — С. 121−126- Кирпотин В. Без путеводной звезды: // Пафос будущего. — М., 1963. — С. 296−306- Николаева Т. С. Творчество Ремарка-антифашиста. -Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1983. — 134 е.- Райзман М. С. На перепутье: (о романе Э. М. Ремарка «Возлюби… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Концепт «враг» в историко-литературном контексте
- 1. 1. Основные термины и понятия исследования
- 1. 2. К истории вопроса
- Выводы к первой главе
- Глава 2. Концепт «враг» в творчестве Э.М. Ремарка
- 2. 1. Концепт «враг» в произведениях Э. М. Ремарка о войне
- 2. 2. Концепт «враг» в антифашистских романах Э.М. Ремарка
- Выводы ко второй главе
- Глава 3. Э.М. Ремарк и советская «лейтенантская проза»
- 1950−60-х гг
- 3. 1. Рецепция произведений Э. М. Ремарка в СССР
- 3. 2. Специфика отечественной литературы после 1945 г
- 3. 3. Контактно-типологические связи Э. М. Ремарка и
- В.П. Некрасова
- 3. 4. Контактно-типологические связи Э. М. Ремарка и советской лейтенантской прозы" 1950−60-х гг
- Выводы к третьей главе
Концепт «враг» в творчестве Эриха Марии Ремарка и советской «лейтенантской прозе» 1950-60-х гг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Россия и Германия связаны общим прошлым, которое берет свое начало еще со времён Петра I. «Ни один из европейских народов не вступал с русскими в столь тесное долговременное и многоуровневое взаимодействие во всех его проявлениях (от партнерства к противоборству и наоборот), как немецкий народ. Это взаимопроникновение было1 и до настоящего времени остается чем-то-гораздо более широким и глубоким, чем простое соприкосновение центральноевропейского гегемона с восточноевропейским"1.
С ХУ1П века Россия стала ориентироваться на немецкую культуру и, соответственно, на^ литературу. Ф. Шиллер, И-В. ГетеГ. Гейне и многие другие немецкие классики были чрезвычайно популярны в нашей стране. В XX столетии обе страны прошли через горнило двух мировых войн, и их новое понимание друг друга является предметом изучения многих современных исследователей.
Имя Эриха. Марии Ремарка вызывает интерес по нескольким вполне объективным причинам. Во-первых, как у участника первой мировой-войны и свидетеля-второй^ у него была полная возможность сформировать * свою собственную картину взаимоотношений между нашими народами и в дальнейшем донести ее до читателя как в Германии, так и в России. Во-вторых, проблематика его произведений вообще имела поистине интернациональный характер.
Изучение межнациональных литературных взаимосвязей и взаимодействий — это неотъемлемое и одно из важнейших направлений литературоведения во все времена. Невозможно постигать историю литературы одной страны вне контекста мировой литературы. Подобные исследования, направленные в первую очередь на выявление творческой и.
1 Цит. по: Бугров Д. В. Германизм в зеркале русской идеи: исторические перспективы Германии в отражении русского утопического традиционализма рубежа Х1Х-ХХ веков // Известия Уральского государственного университета. — 2001. —№ 21. — С. 59−78. художественной общности и преемственности, а не только на нахождение схожих мотивов, сюжетов или образов, дают возможность проследить процесс восприятия литературной модели иностранного автора и создание под ее непосредственным влиянием совершенно нового явления в воспринимающей литературе и культуре.
Проблемами взаимодействия национальных литератур в XX веке занимались крупнейшие отечественные ученые: М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, Н. К. Гудзий, Н. И'. Конрад, Д. С. Лихачев, Б. Г. Реизов, М. Б. Храпченко, В. И. Кулешов, И. Г. Неупокоева, Ю. Л. Оболенская, Г. Н. Поспелов и многие другие.
Безусловно, отправной точкой послужило учение А. Н. Веселовского о «встречных течениях» как предпосылках для осуществления контактных связейв сущности, оно предвосхитило тезис современной компаративистики о взаимообусловленности, взаимосвязанности типологических и контактно-генетических явлений. Д. Дюришин отметил, что «проблема разграничения генетических связей и типологических схождений на практике вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд, потому что «исследователь на каждом шагу сталкивается с их взаимоперекрещиванием и взаимосвязанностью» [Дюришин 1979: 190]. В. М. Жирмунский предлагает определенную квалификацию типов литературных связей и отношений: историко-генетические, историко-типологические, международные культурные взаимодействия [Жирмунский 2004: 352]. Дюришин же обозначает межлитературные связи «более или менее устоявшимися и точными терминами: генетические (или контактные) связи, с одной стороны, и типологические схождения- - с другой» [Дюришин 1979: 98]. Причем под генетическими связями ученый понимает любые связи литературного явления с предшествующей традицией. В. И. Кулешов предлагает разграничить две главные формы связей: «конкретные связи (перевод, подражание, заимствование и др.) и историко-типологические аналогии или схождения, возникающие независимо от контактов (то есть это уже не связи, а соотношения)» [Кулешов 1977: 7].
Разграничение литературных связей — не единственная проблема сравнительного литературоведения в настоящее время. Активная полемика ведется2 по поводу деления исследований в области сравнительного литературоведения на переводческие (translation studies) — и культурологические (cultural studies). Западные литературоведы (среди них S. Bassnet3, A. Gishi и др:) считают, что анализ литературного текста является «одной из многих практик комплексного, меняющегося и зачастую противоречивого поля культурной продукции». Группа этих исследователей" настаивает на" том, что «понятие- „литература“, вероятно, уже не способно соответствующим1 образом описать предмет нашего исследования. Собственно литературные явления не являются более тем, на чем фокусируется исключительное внимание дисциплины» [The Bernheimer Report 1993: 47]. Стоит отметить, однако, что такое мнение ставит под сомнение самостоятельность и, как следствие, само существование дисциплины, поскольку может привести к ее растворению в культурологических исследованиях. Высказанные предположения (в том же The Bernheimer Report. 1993) знаменуют постепенный' переход компаративистики в иную дисциплину, относящуюся к области сравнительных культурологических исследований (Comparative Cultural Studies), но вследствие этого сама литература уже перестанет быть в центре подобных исследований 4.
Нельзя не отметить и тенденцию ввода в компаративистику термина интертекст. Впервые он был употреблен Ю1 Кристевой. Она считала, что «любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст — это.
2 В этом контексте нельзя не упомянуть The Bernheimer Report. 1993.
3 S. Bassnet придерживается мнения: «В настоящий момент сравнительное литературоведение в некотором роде мертво» // Bassnet S. Comparative Literature: A Critical Introduction. Blackwell, Oxford and Cambridge. 1993. — P. 47.
4 См. подр.: Вирк Т. Сравнительное литературоведение: сегодня и завтра? // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. — 2003. — № 5. — С. 174. впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности" [Кристева 2004: 167]. Принимая во внимание тезисы Ю. Кристевой и Р. Барта, ученицей которого была Кристева, о том, что эпоха авторской литературы прошла [Барт 1994: 387], нельзя забывать и о том, что исследование в области1 сравнительного литературоведения предполагает сопоставлениеразных национальных литератур, а это, в свою очередь, требует анализа и сравнения исторических, экономических и других условий, в которых были созданы произведения. Как совершенно справедливо1 замечает И.О. Шайтанов- «единство мировой культуры. не предполагает отказа от национальной, но скореевидится в свете старой латинской формулы „единства несходного“ (concordia discors)» [Шайтанов 2005: 134].
Этот тезис подтверждается тем, что и в настоящее время. исследователи обращаются к изучению межлитературных связей. Прежде всего ученых интересует интерпретация критикой и литературоведением иноязычного ^ художественного* произведения, степень его популярности-в. читательской среде на своей родине и в России. Но стоит отметить, что эта" задача не может быть решена, если не уделить достаточного внимания самому автору, той' роли, которую он сыграл в истории и развитии мировой литературы. Эта проблема приобретает особую важность, если* анализу подвергаются* конкретные «точки соприкосновения», явившиеся свидетельством прямого контакта.
Сравнительное изучение литератур и, соответственно, судьба того-илииного автора и его творчества в других странах возникают в нашей-стране в определенные этапы ее развития. Как уже было сказано выше, теория, сравнительно-исторического метода оформилась еще в XIX веке1 (А.Н. Веселовский, Ф.И. Буслаев) и продолжала разрабатываться в XX (В.М. Жирмунский, М. П. Алексеев, Н.И. Конрад): Как свидетельствуют эти имена, традиции русской науки в данной области давние и прочные.
Во второй половине XIX века начинается быстрое сближение России и Запада. Так, А. Н. Веселовскищ получив казенную стипендию для поездки за границу, слушал лекции в Берлинском университете, посещал Прагу и Сербию в период, когда Российская империя воспринималась уже: не только как азиатская, но и как европейская страна. Однако в советское время, во второй половине 1940;х гг.: началась кампания^ против, «космополитизма», когда само имя А. Н. Веселовского воспринималось как. знак порочнойметодологии, так как в, основе компаративистики^ лежит теория: не: отдельного, а совместного развития культур, их взаимопроникновения? и влияния, чтонеприемлимо для государства тоталитарного типа, В период: «оттепели"^ однако, интерес к компаративистике возобновляетсяи начиная с 1960;х гг. сравнительное литературоведениев- отечественной науке: неуклонно развивается. „Внастоящее время наша страна адаптируется“ к вызовам глобализма и1 мультикультурализма^ комбинирует новации и традиции, определяет свое: отношение к фундаментализму и пытается ввести в политический и культурный обиход такое: понятие, как „толера1 ггность“. Все: это, конечно» же, требует от нас оставить в, прошлом некоторыестереотипы — еще существующие у нас, в том числе по отношению к народу Германии"5.
Восприятие иностранного писателяскладывается в первую? очередь из перевода его произведений и их критического анализа. Однако в данномслучае, несмотря на огромную популярность Э. М: Ремарка в нашей стране и наличие переводовколичество критических работ и исследований-весьма. незначительноЭто прежде всего публикации В.Н. Девекина6, Е. Бергельсона?, — Д’В.-Затонского8, Б.Л. Сучкова9, И. Фрадкина10 и др. Из.
5 Цит. по: Бугров Д. В. Германизм в зеркале русской идеи: исторические перспективы Германии в отражении русского утопического традиционализма рубежа Х1Х-ХХ веков // Известия Уральского государственного университета. — 2001. — № 21. — С. 59−78.
6 Девекин В: Н. Э. М. Ремарк // Немецкая антифашистская литература 1933;1945 г. — М.: Высшаяьшкола, 1965. — С. 74−82.
7 Бергельсон Г. Во имя мира // Ремарк Э. М. На западном фронте без перемен. Три товарища- -М., 1991. — С. 3−14. современных работ — А.И. Борозняка11, А. Головатенко12, М. Свердлова13 и других. Но все эти работы, как более ранние (советского периода), так и современные, объединяет определенная заданность в оценках творчества и невнимание к поэтике романов. Необходимо также заметить, что работ, которые бы обобщали и давали всеобъемлющий анализ творчества Э.М. Ремарка1, не существует до сих пор. Преобладают исследования, посвященные отдельным проблемам. Например, М. В. Зоркая для своей «Энциклопедии литературных героев» выделяет лишь трех героев романов Э. М. Ремарка — Пауля Боймера, Роберта Локампа и Равика. В статьях она отмечает, что Пауля Боймера в романе «На Западном фронте без перемен» отличает «интуитивно-безупречная нравственная реакция на окружающее, и в ужасе войны он существует по законам добра, как бы сложно это не было"14. Равик же трактуется» еюкак герой, которому «присуща органическая потребность помочь человеку в беде"15.
В дальнейшем получили развитие следующие темы:
1) стойкое непринятие Э. М. Ремарком фашистской диктатурыего несогласие с национал-социализмом и даже «деятельное» противостояние отмечается и рядом зарубежных исследователей. Многие западные литературоведы придерживаются мнения, что Ремарк «отвергает фашизм.
8 Затонский Д. В. Ремарк // Художественные ориентиры XX века. — М.: Советский писатель, 1988. — С. 313−344'.
9 Сучков Б. Л. О книгах Э. М. Ремарка // Лики времени. — М., 1976. — Т. 2. — С. 139−174.
10 Фрадкин И. Ремарк и споры о нем: к оценке творчества нем. писателя советской критикой // Вопр. лит. — 1963. — № 1. — С. 92−119.
1 Борозняк А. И. «Мертвые будут обвинять вас.» Роман Э. М. Ремарка «Время жить и время умирать» в контексте дискуссии о преступлениях нацизма // Новая и новейшая история. — 2008. -№ 1. С. 185−200.
12 Головатенко А. Жизнь сводилась к смерти. Восприятие Первой мировой войны и ее последствий по роману Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» // История -2004. — 1−7 марта. — № 9. — С. 21−24.
13 Свердлов М. Потерянное поколение: «На Западном фронте без перемен» // Литература — 2004. -№ 32. -С.26−28 (1 сентября).
14 Зоркая М. В. Боймер Пауль // Энциклопедия литературных героев: Зарубежная литература-ХХ века. — М., 1998. — С. 455.
15 Зоркая М. В. Равик // Энциклопедия литературных героев: Зарубежная литература XX века. — М., 1998.-С. 458. по чисто личным, человеческим причинам, сопротивление национал-социализму играет второстепенную роль" [Schlosser 2001: 95];
2) критика современной ему действительности воспринималась как антибуржуазная позиция, хотя Э. М. Ремарк всегда ставил своей задачей отразить скорее самые общие современные ему общественные, цивилизационные тенденции и исторические события;
3) выбор в качестве главного героя произведений военной тематики простого солдата категорически отвергался советской критикой. В адрес писателя не раз раздавались обвинения в узости «мировоззрения"16, идейной и творческой ограниченности. Автобиографичность романов Э. М. Ремарка расценивалась критиками как неспособность писателя расстаться со своим первым героем (Паулем Боймером) и преодолеть успех своего первого романа.
Несколько «однобокая» позиция советского ремарковедения нашла отражение и в единственной монографии Т. С. Николаевой «Творчество.
Ремарка-антифашиста". Как показывает название, автор ставит своей задачей проследить иизучить особенности именно> антифашистской, гуманистической позиции Э. М. Ремарка, поэтому в работе делается акцент на теме немецкого милитаризма в различных романах писателя.
О гуманизме Э. М. Ремарка говорит М. Ю. Бабков в статье «Атеизм или богоборчество? К вопросу о религиозной концепции Э. М. Ремарка (на материале романа „Черный обелиск“)». Он придерживается мнения, что «жизнь остается для Э. М. Ремарка ценностью, с гибелью человека каждый раз гибнет мир* целая вселенная, а Людвиг Боймер защищает общегуманистические ценности» [Бабков 2004: 57].
16 См. подроб.: Дмитриев А. Гуманизм без веры в будущее: [о творчестве Ремарка] // Молодая гвардия. — 1960. — № 2. — С. 215−223- Кирпотин В. Без путеводной звезды: Го романах Ремарка] // Пафос будущего. — М., 1963. — С. 296−306 и т. д.
Николаева Т. С. Творчество Ремарка-антифашиста. — Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1983. -134 с.
Русскоязычная критика творчества Э. М. Ремарка представлена предисловиями к романам (А. Дубровский, Е. Зачевский, В. Бабенко, В. Пронин и др.).
В западной критике выделяется несколько научноисследовательских подходов' к изучению творчества Э. М. Ремарка. При появлении первого романа писателя исследователей заинтересовал вопрос о его принадлежностик литературе «потерянного поколения», наряду с.
Э. Хемингуэем и Р. Олдингтоном. Много говорилось о некой творческой зависимости" Э. М. Ремарка от Э. Хемингуэя, проводились параллели.
18 между главными героями их произведении. Дальнейшие исследования базировались во многом именно на проблематике и основных мотивах литературы «потерянного поколения» и вынужденной эмиграции Э. М. Ремарка: война, эмиграция и послевоенное время. Исследовательница К. Шнайдер называет эти мотивы важнейшими^ для писателя, своеобразными «отправными точками» всех его романов19.
Развивались в немецкоязычных работах и проблемы послевоенной' потерянности и самоопределения героев Э. М: Ремарка. Т. Вестфален* считает мотив фронтового товарищества1 одним из магистральных в таких лл романах, как «Der Weg zuruck», «Drei Kameraden» .
Среди крупных зарубежных монографий следует отметить книгу В. фон Штернбурга «Как будто все в последний раз. Эрих Мария Ремарк. Биография» («Als ware alles das letzte Mal. Erich Maria Remarque. Eine Biographie"21). В. фон Штернбург дает очень подробную картину жизни-и.
18 Antkowiak А. Erich Maria Remarque. Leben und Werk. Volk und Wissen (Schriftsteller der Gegenwart 14). 1976. — 231 S.- Parvanova M. «. das Symbol der Ewigkeit ist der Kreis». Eine Untersuchung der Motive in den Romanen von Erich Maria Remarque. — Berlin: Tenea, 2003.-300 S.
19 См. подр.: Schneider K. «Krieg, Exil und Nachkrieg — Schwerpunkte bei Erich Maria Remarque Werken», Jahresarbeit. — Leipzig: Anton-Philipp-EOS, 1992.
20 Westphalen T. «Kameradshaft zum Tode», Nachwort zu «Der weg zuruck». — Koln: Kiwi, — S. 313−331- Westphalen T. «Nur zu kurz. Viel zu kurz» // Remarque E. M. Drei Kameraden. -Koln: Kiwi.- S. 384−396.
21 Sternburg W. «Als ware alles das letzte Mal». Erich Maria Remarque. Eine Biographie. -Koln: KiWi, 1998,-512 S. творчества писателя, он анализирует проблематику основных романов, делаяосновной упор на исследование его биографии, а романы рассматриваются в совокупности и под углом зрения разных жизненных этапов автора. Следует заметить, что исследования подобного рода помогают литературоведам подробнее изучить причины, толкнувшие Э. М. Ремарка на создание того или иного произведения.
Англоязычные работы во многом схожи с работой В. фон Штернберга. Особого внимания заслуживают исследования.
22 23.
Б. Мердоха и Г. Вагенера. Оба автора придерживаются культурно-исторического метода и поэтому привлекают для исследования, основные исторические события века, анализируя и рассматривая романы Э. М. Ремарка как отражение этих событий.
Не ослабевает интерес и к личной’жизни писателя. Время* от времени появляются работы, которые освещают этапы его жизни, связанные с именами Марлен Дитрих24, Полетт Годар25, Натали Палей26 и др. К ним.
27 относится и книга Т. Хильтона, которая в очень подробной форме рассказывает о личной жизни Э. М'. Ремарка.
Многие советские исследования, посвященные Э: М. Ремарку, долгое время базировались на монографии литературоведа из ГДР А. Антковиака «Эрих Мария Ремарк. Жизнь и творчество» («Erich Maria Remarque. Leben.
22 Murdoch B. The novels of Erich Maria Remarque: sparks of life (Studies in German literature, linguistics, and culture). — Rochester, NY: Camden House, 2006. — 245 p. no a.
Wagener H. Understanding Erich Maria Remarque (Understanding modern European and Latin American literature. Understanding Contemporary Modern European Writers Series). -Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1991. — 144 p.
24"Sag mir, da? du mich liebst .": Erich Maria Remarque — Marlene Dietrich: Zeugnisse einer Leidenschaft/ Erich Maria Remarque. — 1. Aufl. — Koln: KiWi, 2001. — 214 S.
25 Erich Maria Remarque und Paulette Goddard: Biographie einer Liebe / Julie Gilbert. Aus dem Amerikan. von Nikolaus Gatter. Munchen: List, 1997. — 695 S.
26 Marton R. Mein Freund Boni: Erinnerungen an Erich Maria Remarque / Ruth Marton. Aus d. Engl, von Ruth Marton und Susan Schwarz. — Koln: KiWi, 1993. — 211 S.
27 Hilton T. Erich Maria Remarque: the last romantic. — New York: Carroll & Graf, 2003. -240 S. ло und Werk"). Литературная критика ГДР тоже предпочитала рассматривать творчество Э. М. Ремарка с точки зрения его антифашисткой общественной позиции, и работа А. Антковиака — прекрасный пример такого научного подхода. В его книге отодвигаются на второй план проблемы «выживания» простого человека в условиях тоталитарного общества, в то время как поэтика самих романов попадает в поле зрения исследователя лишь эпизодически. В его труде преобладает тематический анализ, дополняемый историко-социологической интерпретацией рассматриваемых произведений. По многим другим вопросам, его точка зрения совпадает с мнением советских исследователей.
Интерес к Э. М. Ремарку за пределами Германии возник сразу же после выхода его первого романа «На Западном фронте без перемен» и не.
29 ослабевал с течением времени. В целом в осмыслении творчества немецкого автора за рубежом заметна тенденция придавать особое значение роману «На Западном фронте без перемен». Например, в 2008.
30 году вышла монография. X. Блума, где очень детально рассматриваются условия, в которых Э. М. Ремарк создавал свое знаменитое произведение, дается справка об историко-литературном контексте и подробная характеристика героев. Особое внимание уделяется картинам войны, несущей разрушение окружающего мира и влияющей на деконструктивное восприятие действительности главными героями.
Время от времени появляются работы, посвященные анализу малоизученных сторон творчества писателя. Среди них диссертация М. Пырвановой, которая провела весьма основательное исследование.
28 Antkowiak A. Erich Maria Remarque. Leben und Werk. Volk und Wissen (Schriftsteller der Gegenwart 14). — Berlin, 1983. — 163 S.
29 См. Подробнее: Mynona. Hat Erich Maria Remarque wirklich gelebt? Der Mann. Das Werk. Der Genius. 1000 Worte Remarque. Steegemann, Berlin. 1929.
30 Erich Maria Remarque’s All quiet on the western front / ed. and with an introd. by Harold Bloom. — Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2001. — 174 p. главных мотивов романов Э. М. Ремарка и дала их подробную характеристику31.
Основополагающую роль в ремарковедении XX века играет Центр изучения творчества Э. М. Ремарка в его родном городе Оснабрюке (Erich Maria Remarque-Friedenszentrum), который ежегодно' издает сборник статей «Erich Maria Remarque Jahrbuch/Yearboob>. В Центре занимаются' изучением рецепции творчества писателя в ' различных странах: в;
32 33.
Америке, Польше, Литве и др., но немецкоязычных исследований его рецепции в нашей стране до сих пор не появлялось. Правда, существует несколько статей, например работа Г. Кроминой и Т. Шнайдера-«Ремарк и его* произведения в Советском Союзе. Библиография» («Remarque und seine Werke in der Sowjetunion. Bibliographie»), вышедшая в ежегодном сборнике В' 1991 г году [Kromina 1991: 87−114]. В ней фиксируются основные этапы восприятия Э. М. Ремарка советской общественностью и критикой. Статья вышла в 199 Г году, что свидетельствует о возобновлении интереса к творчеству писателя в нашей стране.
В" отечественной1 критике' довольно часто говорилось о> влиянииЧ Э. М. Ремарка на русскую советскую литературу о" войне35. В 1961 году критик П. М. Топер в статье «Человек на войне» отмечает: «Точка зрения человека, который ненавидит войны и одновременно не видит никаких.
31 Parvanova M. «. das Symbol der Ewigkeit ist der Kreis». Eine Untersuchung der Motive in den Romanen von ErichMaria Remarque. — Berlin: Tenea, 2003. — 300 S.
32 Wagener H. The Novels of Erich Maria Remarque in American Reviews/ Wolfgang-Elfe, James Hardin, Gunther Holst (Hg.) // The Fortunes of German Writers in America. Studies in Literary Reception. — Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1992. — p. 211−230.
33 Orlowski H. Die polische Kriegsliteratur und Erich Maria Remarque // Erich Maria Remarque-Jahrbuch/Yearbook. — 1991. — № 1. — S. 18−29.
34 Daunaraviciute E. Die Remarque-Rezeption in Litauen // Erich Maria Remarque Jahrbuch/Yearbook. — 1999. — № IX. — S. 188−193.
35 Дмитриев А. Гуманизм без веры в будущее: [о творчестве Ремарка] // Молодая гвардия. — I960. -№ 2. — С. 215−223- Боярский О. О творчестве Ремарка // Крым. — 1959. — № 23. — С. 121−126- Кирпотин В. Без путеводной звезды: [о романах Ремарка] // Пафос будущего. — М., 1963. — С. 296−306- Николаева Т. С. Творчество Ремарка-антифашиста. -Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1983. — 134 е.- Райзман М. С. На перепутье: (о романе Э. М. Ремарка «Возлюби ближнего своего») // Век Ремарка. — Магадан, 1998. — С. 44−55. Век Ремарка: [сб. эссе] / М-во общ. и проф. образования РФ, Сев. междунар. ун-т. -Магадан: Кордис, 1998. — 79 с. и т. д. путей к борьбе с ними, и породила особенности книг Э. М. Ремарка — безнадежно стоическую интонацию, внешнее спокойствие в описаниях ужасного, скрывающее глубоко спрятанное отчаяние, потому что мысль о невозможности искоренения зла — неотъемлемая часть представления Э. М. Ремарка о современности. Правы были те критики, которые утверждали, что нет никаких оснований искать ремарковский взгляд на войну в творчестве советских писателейрисующих Отечественную войну советского народа против фашистских захватчиков. Но искусство — хитрая штука, и писателю надо осторожно ступать в уже проложенный след даже чисто художественного видения" [Топер 1961: 47−48]. Между тем, сами писатели того времени совсем не отрицали своей любви к Э. М. Ремарку, даже подчас восхищались его искренностью и мастерством36.
В современном' российском «ремарковедении» существуют некоторые исследовательские работы, посвященные взаимодействию творчества Э. М. Ремарка с другими литературами [Липина 2008, Морев.
2008 и др.], но в них в очень малой степени рассматривается тема влияния. НапримерВ' диссертации «Духовно-эстетические основы литературы «потерянного поколения» и ее влияние на отечественную.
•J о военную прозу" В. А. Бережная перечисляет и ранее исследованные темы, такие как: товарищество у Э. М. Ремарка, «потерянность» у Э. Хемингуэя и др. Анализа и конкретных «точек» соприкосновения она не приводит. В нашем исследовании мы говорим не о стихийномвлиянии творчества.
36 См. подроб.: Глава III.
37 Следует оговорить, что мы не рассматриваем работы, посвященные грамматическим или лексическим особенностям произведений Э. М. Ремарка. Например: Губенко Н. В. Экспрессивность средств выражения утверждения и отрицания в языке подлинника и переводов романов*Э.М. Ремарка: дис. канд. филолог, наук. — Краснодар, 2006; Нарбут Е. В. Оригинал, текст-донор, перевод: проблемы взаимодействия (на материале переводов романа Э. М. Ремарка «Искра жизни» на русский язык): дис. канд. филолог, наук. — Москва, 2008; Маслечкина C.B. Передача экспрессивности в произведениях М. А. Булгакова и Э. М. Ремарка: дис. канд. филолог, наук. Москва,.
2009 и др.
38 Бережная В. А. Духовно-эстетические основы литературы «потерянного поколения» и ее влияние на отечественную военную прозу: дис. канд. филолог, наук. — Майкоп, 2005.
Э.М. Ремаркаа о воздействии, базирующемся на литературной модели западного автора, в основе которой лежит его понимание концепта «враг». В романах Э. М. Ремарка мы находим основы видения противника, которое в. дальнейшем нашлосвое отражение у некоторых представителей советской «лейтенантской прозы» 1950;60-х гг.
Как нам представляется, нельзя просто искать влияние Э. М. Ремарка в традиционном значенииэтого понятиянеобходимо учитывать многие другие факторы. Ведь воспринятая-' литературнаямодельзападного автора в дальнейшем участвует в формировании художественного смысла уже нового произведения. По этому поводу Н. А. Бердяев писал: «Чужиемысли полезны только для развития собственных» [Бердяев 1912: 3]. В целом же воспринятые элементы создают своеобразное «внутреннее: поле"-&bdquoвызываяусложненность, смыславоспринятого- «вторичного» по происхождению текста. Этот процесс обусловлен прежде: всего: идейно-художественной: спецификой: вступающих в контакт текстов, свойствами? появляющихсяаллюзийреминисценций-, типологическихсхожденийпроявляющихся'- в. общности образов и мотивов.
В нашей¦ работе мы стремимся с. помощью>введения концепта-«враг» и его анализа проследить эволюцию • «образа: врага» в творчестве писателя, выявляя и исследуядругие мотивы, сопровождающие появление персонажсй-врагов. Это обусловлено определенными причинами. Термин концепт был употребленвпервые в? отечественной науке: С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г. Ученый определил концепт как мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределенное множество' предметовдействий, мыслительных функций одного и тогоже рода (концепты растение, справедливость,.
39 тт математические концепты). Д. С. Лихачев использовал понятие концепт для обозначения? обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и.
АскольдовС.А. Концепт и слово // Русская^ словесность. От теории словесности к структуретекста. Антология. — М., 1997. — С. 267−279. интерпретирует явления действительности в зависимости от образования, личного, профессионального и социального опыта носителя языка и, являясь своего рода обобщением различных значений слова в индивидуальных сознаниях, позволяет общающимсяпреодолевать существующие между ними индивидуальные различия в понимании слов. Концепт, по Д. С. Лихачеву, не возникает из значений слов, а является результатом столкновения усвоенного значения с личным жизненным опытом говорящего. Концепт в этом плане — выполняет заместительную функцию в языковом общении40.
• По мнению Л. Г. Бабенко, концептуальный анализ — это обнаружение и интерпретация базовых концептов (или концепта) того или иного литературного произведения. В художественном тексте концепт формируется и имеет внутритекстовую' природу. Ключевой' концепт представляет собой ядро индивидуальной авторской художественной картины, мира, воплощенной в отдельномтексте или в совокупности текстов: одного, автора. Большое значение для формирования и обнаружения концепта имеют повторяющиеся в тексте слова (лейтмотивы, лексические доминанты, чаще — ключевые слова) [Бабенко 2004: 101−108]. Важным представляется и понимание Ю. С. Степановым концепта как «сгустка культурыв сознании человека, пучка понятий, знаний, ассоциацийпереживаний, сопровождающих слово» [Степанов 2004: 32].
Как пишет В. Г. Зусман, «концепт — явление разноуровневое, одновременно принадлежащее логической и интуитивной, индивидуальной и социальной, сознательной и бессознательной сферам» [Зусман 2004: 32]. Следует упомянуть, что концепт в науке или культуре движется между понятием и представлением, в литературе концепт отклоняется в сторону представления. В системе «литература» в ходе.
40 Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. РАН — СЛЯ — 1993. — № 1. -С. 3−9. коммуникации происходит порождение не идей, не понятий, а чего-то «третьего». Это «третье» и есть концепт. В исскустве, как отмечает Г. Г. Шпет, возникает «третий род истины». Концепт в. литературе перестает быть только понятием или только «представлением», он скользит «между представлением и понятием», побуждая память, воспринимающих к наивысшей активности [Шпет 1989: 446]. Концепт в художественном тексте является отражением философских, этических, социально-политических взглядов автора, его личностной интерпретации" исторических событий. Ведь каждое литературное произведение воплощает индивидуально-авторский* способ восприятия и организации мира и призвано донести до читателя главную егоид ею, — которая, будучи проиллюстрирована художественными средствами, становитсяего концептом [Кухаренко 1988: 75]. Итак, именно рассмотрение концепта позволяет при анализе литературных произведений выйти на более широкий культурный и исторический контекст, что невозможно при оперировании такими литературоведческими понятиями, как мотив, символ, образ. Концепт «враг" — выделяемыйнами» в работе для-литературного анализа, и является одной из базовых основ творчества Э. М. Ремарка.
Актуальность исследования, таким образом, обусловлена необходимостью дальнейшего изучения русско-немецких литературных связей, в частности проблемы восприятия творчества отдельного автора литературой другого народа в процессе культурных и литературных контактовв- том числе* и проблемы восприятия литературной модели Э. М. Ремарка и его видения концепта «враг» в советской «лейтенантской прозе» 1950;60-х гг. XX века. Тематика исследования затрагивает приоритетные для современной культуры нравственно-этические проблемы, связанные с общечеловеческими ценностями.
Введение
же понятия «концепт» помогает обобщить и дать более взвешенную оценку мировоззрения писателя, что особенно актуально и востребовано в аспекте диалога культур, позволяющем сравнивать национальные картины мира, так как концепт «враг» — это явление не только идеологическое, но и культурологическое.
Историческая реальность XX века оказывала особое влияние на формирование-художественного мира1 писателей, оказавшихся сначала на передовой во время первой мировой • войны, а затем в эмиграции, где они пытались укрыться от невыносимых условий гитлеровскогорежима. Таким образом, действительность жестко «вторгалась» в сознание авторов и влияла на творческий процесс. Э. М. Ремарку, как и многим другим немецкоязычным писателям первой половины XX столетия, «присущ мотив борьбы, противостояния' тоталитаризму, а в некоторых случаях и личной мести, и именно в его творчестве вводимый нами концепт «враг» и бинарная социокультурная оппозиция «свой — чужой» раскрывают особенности немецкого общества как в самой Германии, так и за ее пределами. Компонент «свой» не несет в себе привычной характеристики представителей родины, культуры и языкового сообщества. Под ним мы в большей степени подразумеваем представителей другой культуры, и, как показывает литературоведческий анализ, даже враждебной страны, которые волею случая становятся друзьями и верными помощниками героев Э. М. Ремарка. Они переходят из категории «чужой» в категорию «свой» и не несут той отрицательной характеристики, которую мы находим в «чужом». «Чужими» в большинстве случаев выступают представители немецкого милитаризма и нацизма, являющиеся соотечественниками Э. М. Ремарка и отвергаемые им. Следовательно, порождение нового смысла на стыке текста и контекста обусловливает особую экспрессивность произведений писателя на уровне системы персонажей (персонажей-врагов), а сам концепт «враг» и вводимая оппозиция «свой — чужой» рассматриваются как системообразующие элементы художественного мира Э. М. Ремарка.
В силу различных обстоятельств и в советском обществе времен И. В. Сталина и даже последующих лет условия формирования «нового сознания» в литературе были приближены во многом к. тем, в которых создавал свои произведения Э.-М. Ремарк. Советские писатели, которые не принимали отечественных порядков, нашли возможность выразить протест против диктатур в своих произведениях. Без сомнения, литература о второй мировой войне занимала особое место в литературном процессе по вполне объективным причинам. Огромное число участников войны возвращались домой. Среди них были как профессиональные литераторы, так и молодые, начинающие авторы, но всех их объединяло одно желание — рассказать правду о том, как это было. Одни придерживались линии партии, другие же хотели показать, что победа «добывалась» не в кабинетах начальства, а на передовой, в окопе. Но требовался пример, своеобразный ориентир, которому можно было бы следовать. Вот таким «творческим ориентиром» и выступил знаменитый немецкий писатель. Говорить о том, что наши авторы восприняли лишь .его способ описания военных будней, так называемый «ремарковский» лирический метод повествования* - «дневник войны» — было бы неправильно. Нам представляется, что его литературное влияние распространялось и на другие особенности советской военной прозы 1950;60-х гг. Нельзя не заметить новый способ описания противника: появление человеческих ноток в традиционном, ненавистном всем советским людям «немце» и гуманное отношение некоторых советских солдат к противнику. Когда говорили о «ремаркизме», то подразумевали «ремарковское» товарищество, разбитые мечты, неудавшиеся судьбы и т. д. — все то, чего в принципе, априори, не могло быть в советском обществе. Старались не касаться темы «врага», хотя и приводили сцену с убитым французом как пример высшего мастерства писателя.
Цель диссертационной работы — комплексный анализ концепта «враг» в творчестве Ремарка, рассмотрение особенностей его реализации в произведениях писателя и выявление наличия этого концепта у некоторых представителей советской «лейтенантской прозы».
Для достижения цели исследования в работе поставлены следующие задачи:
1) разработать основной терминологический аппарат исследования, связанный с понятиями «хронотоп», «концепт», «когнитивный (концептуальный) анализ» и «фрейм»;
2) систематизировать обширный немецкоязычный материал о жизни и творчестве Ремарка;
3) раскрыть роль хронотопа войны в формировании концепта «враг» в произведениях Ремарка;
4) проанализировать ядро и информационный слой' концепта «враг», обозначить основные значения концепта;
5) выявить специфику реализации концепта «враг» в указанных произведениях Ремарка;
6) дать характеристику специфическому наполнению концепта «враг» и основным значениям ядра концепта — «военный противник» и «идейный* враг», а также связанным с ними фреймам-сценариям, участвующим в их реализации;
7) изучить воздействие творчества Ремарка на представителей советской «лейтенантской прозы» 1950;60-х годов посредством разработки концептуального анализа;
8) определить причины, особенности и границы этого воздействия.
Объектом исследования является компаративистский анализ творчестваРемарка и произведений представителей советской «лейтенантской прозы» 1950;60-х годов. В нашей работе не ставится задача' всеобъемлющего анализа всего корпуса произведений советской «лейтенантской прозы». Отбор произведений для анализа определяется наличием в них фреймов (сценариев, комплекса мотивов), характерных для реализации концепта «враг» в прозе Ремарка. Под советской лейтенантской прозой" понимается творчество писателей, в произведениях которых был осмыслен фронтовой, «окопный» опыт и сделана попытка переосмысления официального идеологического образа врага. Поскольку четких хронологических рамок данного явления не существует, мы сочли возможным отнести к нему и произведения писателей более позднего периода, в творчестве которых продолжается традиция «лейтенантской прозы».
Предмет исследования — художественная реализация концепта «враг» на уровне хронотопа, системы персонажей, комплекса фабульных мотивов, фреймов и лексики романного творчества Ремарка и советской «лейтенантской прозы» 1950;1960;х годов, а также выявление контактных связей и типологических схождений между немецким и русскими писателями.
Материалом исследования являются следующие романы Э. М. Ремарка: «Im Westen nichts Neues» («На Западном фронте без перемен», 1929) «Der Weg zuruck» («Возвращение», 1931), «Drei Kameraden» («Три товарища», 1936), «Liebe deinen Nachsten"' («Возлюби ближнего своего», 1939), «Are de Triomphe» («Триумфальная арка», 1945), «Der Funke Leben» («Искра жизни», 1952), «Zeit zu Leben und Zeit zu Sterben» («Время жить и время умирать», 1954), «Der schwarze Obelisk» («Черный обелиск», 1956), «Die Nacht von Lissabon» («Ночь в Лиссабоне», 1961), «Schatten im Paradies» («Тени в раю», 1971) и сборник рассказов «Der Feind» («Враг» 1929;1931). В указанном аспекте исследуются также произведения русских советских писателей о войне и военном поколении: «В окопах Сталинграда» (1946), «В родном городе» (1954) В.П. Некрасова- «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959) — «Мертвые сраму не имут» (1961), «Июль 41 года» (1959) Г. Я. Бакланова- «Крик» (1961), «Убиты под Москвой» (1963) К.Д. Воробьева- «Жизнь и судьба» (1960) B.C. Гроссмана, а также произведения писателей, которые продолжили традицию «лейтенантской прозы»: «Селижаровский тракт» (1981),.
Сашка", «Дорога на Бородухино» (1979) В. Л. Кондратьева и «Прокляты и убиты» (1990), «Веселый солдат» (1997) В. П. Астафьева.
Научная новизна работы. В диссертационной работе используется методика анализа произведений Ремарка с помощью выделения в нем центрального идейного, смыслового концепта, реализуемого системой персонажей, мотивной структурой произведения и другими художественными средствами.
Выделение концепта «враг» как основного и принципиального помогает также проследить творческую эволюцию и уточнить этическую позицию писателя — в нашем случае Э. М. Ремарка — и ряда* российских писателей.
В настоящей работе рассматриваются следующие основные значения заглавного концепта- (выявленные по немецким и? русскимтолковым, энциклопедическим словарям, словарям синонимов и антонимов): значение — «военный противник». Эта группа названа «врагами» самим автором, дается' ее прямая контекстуальная характеристика- (герои Э. М'. Ремарка сражаются с ними на передовой), но это-враги, лишь в силу обстоятельств. Чей-то приказ сделал их противниками, которых следует убивать. Подобный образ военного противника характерен для военных произведений Ремарка, но также вводится и в романы об эмиграции. Э. М. Ремарк нейтрален в оценке противника, из-за которого погибли его соотечественники, так как он сам был солдатом и знает, что, совершая убийство на фронте, они действуют в большинстве случаев вопреки своей воле. К убийству их вынуждает приказ или инстинкт самосохранения. На войне простым солдатам, как правило, приходится убивать, но они не превращают убийство в профессию, не связывают его с идеологиейзначение — «идейный враг». К нему относятся те герои, в которых автор подразумевает «врага», хотя и не называет их таковыми. При описании персонажей, реализующих значение «идейный враг», Ремарк предпочитает лишь косвенно указывать на того, кто истинный враг для него и для его героев.
В диссертации выявляется, с помощью каких приемов" в тексте перестраивается и трансформируется модель общеязыкового концепта, как те или иные признаки уходят из ядра на периферию* или, наоборот, выдвигаются" в ядерную зону.
Особенность художественного мира Э. М. Ремарка состоит в-том, что он создается не только^ вербальнымино1 и различными невербальными, художественными средствами — прежде' всего с помощью семантизации художественного-пространства. Можно сказать, что концепт формируется1 этим пространством, влияющим на создание его ассоциативного поля. На бинарной социокультурной оппозиции «свое — чужое», характерной, в’той илиг иной форме для каждого произведения Э. М. Ремарка, строится" художественное пространствопроизведений. Указанная оппозиция-помогает проследить и отразить политический раскол внутри немецкого" общества, о котором? постоянноговорил Э. М. Ремарк, начиная с первых военных романов («На Западном^ фронте без перемен», «Возвращение» и др.) до романов об эмигрантах («Возлюби ближнего* своего», «Ночь в Лиссабоне» и др.).
Изменение составляющих ядра концепта, перемещение значения-«военный противник» на периферию и выдвижение значения «идейный враг» в ядерную зону происходит от романа к роману, что подтверждает тезис об эволюции истинного понятия о враге в творчестве писателя.
Следует также оговорить тот факт, что предлагаемые значения имели место и в немецкой, эмигрантской литературе. Считалось, например, что «Гитлер — это не вся Германия». Подобные настроения были особенно популярны среди представителей немецкой интеллигенции, веривших в построение демократического общества после свержения тоталитарного режима. Но существовало и противоположное мнение. Утверждалось, что нет различий между «наци» и «немцем». Эта точка зрения поддерживалась той частью изгнанников, которые не могли мириться с позицией оставшихся в Германии немцев41.
Идеология и тематикапроизведений Э. М. Ремарка оказали заметное влияние на молодую советскую4 послевоенную прозу. Особенный интерес представляет подобного рода типологическое деление персонажей-врагов у некоторых представителей советской «лейтенантской прозы». Например, сравнительный анализ романа Э. М. Ремарка «Возвращение» и повести В. П. Некрасова «В родном городе» выявляет определенные типологические схождения между ними. Нельзя не заметить, что Некрасов при этом во многом следовал бинарной* модели Э. М. Ремарка на уровне системы персонажей'. Сам-же концепт представлен даже в более сложной форме. Ведь Некрасов, как когда-то и Э. М. Ремарк, тоже столкнулся с проблемой, возвращения к мирной жизни, с проблемой адаптации. Некрасов не принимает сталинскую борьбу с космополитизмом, как Э. М. Ремарк — зарождение нацизма в Германии. Типологически близкая модель концепта' содержится даже в «мирных» романах Э: М. Ремарка и В. П. Некрасова.
Последовавшая за Некрасовым* «лейтенантская проза» развила те' «ремарковские» мотивы и образы, которые мы объединили общим' концептом «враг». В произведениях представителей «лейтенантской прозы» концепт «враг» также носит неоднозначный характер. Поэтому оказалось возможным применить для анализа сходные значения: «идейный враг» — сторонник тоталитарного режима, «военный противник» — простой немец, также являющийся жертвой войны. Подобное разделение отражает те сдвиги, которые постепенно возникали и утверждались в сознании русских относительно войны с Германией и немецкого народа.
Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Выводы к третьей главе.
1. Паралелли между Э. М. Ремарком и советской «лейтенантской: прозой» не случайные Ремарю. никогда1 не идеализировал войну, как это было' принято делать в официозной милитаристскойлитературе. Даже на войне для Ремарка самая большая ценность — это человеческая жизнь, не только своя (или товарища), но, в определенном? смысле, даже жизнь егопротивника. • ' •• V.
Именно: поэтому творчество Ремарка оказалось так созвучно произведениям некоторых писателей о войне 1950;60-х гг. Используя собственныйфронтовой опыт, самостоятельно разрабатывая^ свои ситуации, мотивы и образы, они: учитывалии- опирались на традицию, существовавшую до них (в том числе ремарковкую: традицию). Концепт «враг» занимал при этом центральное место. Он составлял главное содержание негативного понятия «ремаркизм», которое долгое время использовалось официозной критикой.
2. В советской «лейтенантской прозе» часто возникают ситуации столкновения с врагом лицом к лицу, подобные знаменитой сцене в воронке («На Западном фронте без перемен»). К такого рода острым эпизодам восходит целый ряд проявлений-жалости к противнику, которого герои начинают воспринимать уже не только как врага, но и как жертву войны.
Писатели все чаще начинали различать и отделять убежденных врагов от врагов волею обстоятельств.
Возникают подтипы основного' значения концепта «военный противник». Образ немца-нациста представлен убежденным последователем Гитлера, враг же в силу обстоятельств — простым немцем, который вынужден воевать и рассматривается-поэтому как жертва войны.
3. Концепт «враг» присутствует у Э. М. Ремарка не только, в «военных» романах, нои в «мирных». То же самое мы находим и у В. Некрасова. Некрасов, как когда-то и Ремарк, столкнулся' с проблемой возвращения к мирной жизни, с проблемой адаптации Нельзя1 не заметить, что В. Некрасов во многом следовал бинарной модели Э: М. Ремарка, в том числе и на уровне системы персонажей. Сам же концепт представлен у В. Некрасова даже в более сложной форме. Некрасов не принимает сталинскую борьбу с космополитизмом, как Э: М'. Ремарк — зарождение нацизма в Германии. В такомвиде концепт «враг» присутствует в «мирных» романах Э. М: Ремарка и В: Некрасова. Основное отрицательное значение концепта, «идейный враг», представлено персонажами-сталинистами. (например, Чекмень). Близкие ситуации возникают и у В. Астафьева («Прокляты и убиты»).
4. Подобное типологическое деление подтверждается. и на лексическом уровне. Все чаще 5 при изображении военного противника писатели прибегают к лексикес нейтральной и положительной коннотацией: обманутые, здоровые, спокойные и др. Специфической особенностью коммуникативной организации этих произведений является смысловая значимость существительного «немец», включающего в себя и положительную коннотацию и отрицательную, в зависимости от ситуации. В определенном контексте понятие «немец» содержит в себе нейтральные, положительные, а иногда и прекрасные черты, свойственные лучшим представителям немецкого народа. При негативном употреблении имеются в виду скорее качества, которые обычно приписываются нацистам жестокость, фанатизм и др.).
Заключение
.
В последние двадцать лет происходила принципиальная переоценка, подчас даже своего рода реабилитация творчества многих отечественных и зарубежных писателей XX века. Э. М. Ремарк в советское время, как и другие авторы так называемого «потерянного поколения», при всем читательском к нему интересе, в официальной критике (В. Кирпотин, Т. Мотылева, Е. Книпович и др.) также имел репутацию чуждого нам автора, носителя пресловутого, «мелкобуржуазного», как его определяли еще в 1920;30-х годах, «абстрактного гуманизма».
Говорили о ремарковском фронтовом «товариществе», разбитых мечтах, неудавшихся судьбах в произведениях писателя, характеризовали знаменитую «сцену в воронке» (фрейм прямой• контакт с врагом) из романа «На Западном фронте без перемен» как пример выдающегося мастерства писателя-баталиста, но старались все же не касаться самого главного' нерва всего его творчества — темы фанатизма, опасности' идеологического зомбирования, первичности* гуманного, человечного отношения людей разных национальностей и разных классов друг к другу. То есть не касались концепта «враг», по нашей терминологии. Самые глубинные, принципиальные мотивы его творчества были, таким образом, табуированы. Иначе пришлось бы говорить о Ремарке не только как об антифашисте, но-и" как о противнике тоталитаризма и* фанатизма в любой его форме. Официальная оценка немецкого прозаика была опасливой, противоречивой и непоследовательной.
В нашем исследовании мы постарались не только вскрыть и оправдать истинный гуманистический подтекст творчества Э. М-. Ремаркано и проследить эволюцию писателя в этом смысле — от ранних произведений о первой мировой войне к поздним романам об антифашистской эмиграции, то есть выявить принципиальные перемены в понимании сущности современного «зла», в понимании концепта «враг» как главной, сквозной идеи творчества писателя (по определению «концепта» у Д. С. Лихачева, С. А. Аскольдова, Ю. С. Степанова, В .И. Карасика и др.).
В результате проведеннойработы намивыявлены, и использованы для. анализа отдельных произведений основные, значения общего понятия? концепта «враг» (враг кажущийся-, волею обстоятельств — «военный, противник" — враг подлинный, принципиальный-: нравственно-несовместимый с лирическим героем писателя- - «идейный враг»), показаны особенности реализацииконцепта на: уровне системы: персонажей, сюжетной организации произведения — текстовойлексическойего реализации^.
Концепт «враг» в творчестве Э. М. Ремарка имеет прежде всего антимилитаристскийантитоталитарный, гуманистический характер и: являетсяоднимсиз основных смыслообразующих понятий в общей картине мира писателяв его художественном' мире. В этом смысле Ремарк является характерным представителемлитературы, «потерянного поколения» ХХ века. Однако конкретная ремарковская ситуация встречи с противником лицом к лицу (фрейм прямой контакт с врагом) м открытия в нем такого же человека, как и сам герой (сцена в воронке и др.), имеет и болееглубокую? традицию в мировой литературе, которая прямо или косвеннотак или иначе отозвалась в его — творчестве (сходные мотивы и ситуации в творчестве Ф. Стендаля, В. Гаршина, Л. Толстого, а в более широком смысле’даже в- «Илиаде» Гомера — плач двух врагов, Axmmeca и старика" Приама, убийцы и отца убитого, по поводу гибели Гекторапо поводу войны);
В первойглаве романы Э. М. Ремарка о первой и второй мировых войнах рассмотреныв аспекте указанного концепта «враг» на основе анализа хронотопа войны и производной от него социально-политической Инравственной/- оппозиции «свой — чужой» (на которой строится художественное пространство произведений Ремарка);
В военных романах актуализируется одно из основных значений концепта — «военный противник на поле боя», но одновременно происходит перестройка структуры концепта. Начиная со «сцены в воронке» в образе врага чем дальше, тем больше начинают проступать, а затем и преобладать черты просто человека, который поставлен в определенные обстоятельства. Он становится врагом, который вне ситуации сражения, борьбы теряет негативную коннЬтацию. С этого момента начинает развиваться идейный комплекс так называемого «ремаркизма», пресловутый «абстрактный гуманизм», принципиально несовместимый с советской идеологией и вообще любыми формами идеологического фанатизма XX века.
Однако Э. М. Ремарк идет дальше в разработке темы, в развитии гуманистического начала. Его герои задумываются не только о смысле и бессмысленности войны, но и начинают различать врагов формальных, навязанных им {значение «военный противник») и врагов принципиальных, подлинных {значение «идейный враг»), по принятой, нами* терминологии. Впервые проблема-заостряется подобным, образом в раннем рассказе «Feind» («Враг»), где некоторые из так называемых «своих» приравнивались к идейным врагам и на войне бывали подчас для героев' рассказа едва ли не хуже военного противника. Контуры такого понимания «врага"' появляются уже в романе «На Западном фронте без перемен», становятся очевидными, четкими в «Возвращении», а в «Трех товарищах» уже прямо трансформируются в образы первых в творчестве писателя нацистов. И отныне понятие «враг» уже никогда не связывается у лирических героев Ремарка с национальностью или сословием, классом человека.
В романах периода эмиграции (вторая по значимости группа произведений) «идейный враг» уже совершенно недвусмысленно ассоциируется с соотечественниками — нацистами. Однако эта категория врагов тоже не статична и допускает видоизменения.
Данное значение концепта реализуется как в образах убежденных, принципиальных, идейных гестаповцев (Хааке из «Триумфальной арки», Штейнбреннер из «Возлюби ближнего своего»), так и в образах недалеких, темных, чем-то обиженных людей (как Генрих Кроль из романа «Черный обелиск»). Каждому подобному персонажу писатель придает индивидуальный облик и характер. Вместе с тем меняется и стилистическая, и лексическая окраска повествования. При изображении «военного противника» происходит очевидный отказот негативно окрашенных лексем, что является признаком выделенных нами значений, например, в эпизоде с русскими военнопленными в романе «На Западном фронте без перемен» и в других произведениях. С другой стороны, лексемы, с помощью которых рисуются всякого рода идейные враги, убежденные фанатики, то и дело приобретают дополнительную-негативную окраску. Таково, например, ироничное выражение «чудесный лагерь» (имеется в виду концлагерь). •.
Особого внимания-в контексте нашейпроблемы, заслуживает роман «Время жить и время умирать», герой которого (Гребер) погибает от руки тех, кому онв глубине души сочувствует и кого считает с некоторых пор своими врагами в силу обстоятельств (врагом подлинным, в глубинном смысле этогослова, здесь выступает нацист Штейнбреннер). Смерть.
Гребера от рук спасенных им партизан' - отнюдь, не компенсация, не искупление-гибели невинных жертв гитлеровской агрессии в Россиикак иногда понимают этот роман. Оказывается, слепота, жестокость и фанатизм были характерны для обеих воюющих сторон, при всей правоте советской страны, как обороняющейся: И' гуманные герои Э. М. Ремарка становятся уже жертвой другого рода, фанатизма. Смерть Гребера — не жертвоприношение, не искупление, не очистительный катарсис, а трагическая судьба гуманиста при столкновении двух тоталитарных систем. В этом смысле Э. М. Ремарк не видел принципиальной разницы между гитлеровской Германией и сталинской Россией. Его «абстрактному гуманизму» ни там, ни здесь не было места.
В этом смысле нельзя также не отметить, что героям Э. М. Ремарка даже убийство на войне, вынужденное убийство (иначе сам будешь убит!) дается неимоверно трудно. Даже убийство несомненного и опасного врага. Герой романа «Триумфальная арка» выслеживает и убивает пытавшего его в Германии гестаповца, но все равно его мучают укоры совести: разве можно вообще «убить постороннего человека!» Подобная же ситуация возникает в романе «Искра жизни» в отношении молодого нациста Шульте: быть может, тот лишь заблудший человек, которому просто внушили «ненависть», может быть, он когда-нибудь тоже прозрел бы?
Абстрактный гуманизм" Э. М. Ремарка, его неприятие войны были весьма последовательны, принципиальны, однако немецкий писатель все же не был ни пацифистом, ни сторонником библейской заповеди «не убий». Убийства на войне, уж коль скоро она началась и ты вынужден защищать свою жизнь, как это ни прискорбно, по-видимому, не избегнуть. Оправдывает писатель, при всех внутренних сомнениях и оговорках,&bdquoи наказание военных преступников, тех, кто преступил через закон человечности. Но даже в таком виде «ремаркизм» был неприемлем для тоталитаризма XX столетия. К тому же выделение и применение значения «идейный враг» вело к демифологизации пропагандистской идеи о единодушии германского народа, о единстве вермахта и т. п. Согласно Ремарку, все в Германии на самом деле было не так просто и благостно.
Таким образом, сквозной для творчества Э. М. Ремарка концепт «враг», рассмотренный в его эволюции, трансформации, становится" системообразующим для художественного мира немецкого писателя, придает ему политическую остроту, нравственное благородство и острую «ремарковскую» горечь и экспрессивность. Именно этот концепт и новая, предосудительная с официальной советской точки зрения, идейно-нравственная оппозиция вызвали наибольший интерес и сделали творчество Ремарка влиятельным среди представителей так называемой «лейтенантской» советской литературы 1950;60-х годов о Великой Отечественной войне.
Ремарковское восприятие войны, попытки сохранить человечность в экстремальных фронтовых условиях, внутренняя аллергия на убийство оказались созвучны прежде всего тем из молодых советских авторов, кто и сам прошел через окопы и атаки, кто знал все это не понаслышке и даже на войне не хотел привыкать к бездумному убийству. И для них, как и для Э. М. Ремарка, смерть" в бою — это одно, а расстрел безоружного противника — нечто принципиально иное. При этом почва для такого восприятия немецкого* писателя' была уже подготовлена не только собственным опытом и мыслями, но и опорой на отечественную литературную традицию (М. Лермонтов, Л. Толстой, В'. Гаршин идр.).
Советская литература сталинского времени, исходя" из понятий классовой морали («кто не с нами, тот против нас»), рисовала мир и войну, как правило, в черно-белых красках, в контрастном, биполярном освещении.
Литература
функционировала1 как устойчивая, подконтрольная5 система, подчиненная целям пропаганды классовой морали и социокультурной адаптации читателя к жизни в условиях жесткого государственного регламента. Любые' дискомфортные переживания и сомнения рассматривались как нежелательные и предосудительные.
Настроенная таким образом, проникнутая самоуверенным оптимизмом, страна оказалась поначалу не готова к тяжелым поражениям и затяжной кровопролитной войне. Обещанной войны «малой кровью» и «на чужой территории» не получалось. Дискомфортные, даже катастрофические переживания первых месяцев войны становились * частью национального сознания, однако долгое время они оставались личным, внутренним делом отдельного человека и не могли прорваться на поверхность, быть запечатлены литературой. Тем более невозможны были любые попытки усложнить образ врага, задуматься над человеческой сущностью понятия «немец», «фриц», «фашист» и др. Любые размышления на эту тему были строго «табуированы». Образ врага, таким образом, многие годы имел стандартный, абстрактный характер.
Первой попыткой некоторой перестройки и перенастройки социально-политического пространства (идеологически, экономически, культурно) стала, как. известно, хрущевская-«оттепель» конца 1950;60-х гг. Искусство также получает некоторые новые возможности, его статус и влияние резко возрастают. Издательская политика в отношении западной литературы становится несколько либеральнее, советскому читателю делаются доступны новые иностранные авторы, в том числе и Э. М: Ремарк. И вокруг этого имени сразу же разгораются ожесточенные споры. А для многих молодых советских писателей, прошедших войну и теперь осмысливающих свой опыт, работающих над первыми романами и повестями о войне, немецкий писатель-антифашист становится в некоторых отношениях примером честного воссоздания современной войны и творческим1 ориентиром. Вскоре их книги назовут «лейтенантской прозой» (Г. Бакланов, К. Воробьев и др.):
Первым в ряду тех писателей, кто воспринял Ремарка как «своего» автора и был обвинен критикой в «ремаркизме», стал В. Некрасов. Его творчество действительно и неслучайно связано с Ремарком такими константами, как честное воспроизведение окопных будней («окопные романы»), тема фронтового товарищества, послевоенная, растерянность и «потерянность», полная отчужденность, полное отсутствие какого бы то ни было идеологического фанатизма. Возникает целый ряд типологически близких мотивов и ситуаций. Концепт «враг», особенно в повести «В родном городе», раскладывается на «ремарковские», в сущности, значения. На войне («В окопах Сталинграда») это понятие было еще достаточно цельным, бесспорным, теперь же, после войны, как в романе Э.М. Ремарка* «Возвращение», все становится сложнее, неоднозначнее: враждебные, неприемлемые для героя люди обнаруживаются в собственном окружении, среди «своих». Солдаты и офицеры В. Некрасова, вернувшись с фронта, подчас тоже оказываются в ситуации ремарковских героев, в ситуации «потерянного поколения». Возникает тематическая, ситуативная и психологическая перекличка между немецким и русскими писателями.
После XX. съезда КПСС, осудившего культ личности И: Сталина, пересмотревшего ряд других понятий и традиций тоталитаризма 193 050-х годов, в условиях «оттепели» в советскую литературу входит целая группа молодых прозаиков, близких В.- Некрасову по видению. войны, характеру ее изображения и типу главных героев. Это так называемая «лейтенантская проза», «окопный солдатский роман». Вместе с тем возрастает и воздействие романов Э. М. Ремарка, его антимилитаристской, гуманистическойпозиции (наряду с обращением к традиции отечественной батальной прозы:. Л. Толстого, В. Гаршина и др.). Романы знаменитого немецкого' автора выполняли роль своего рода мотивного «кода», функцию своеобразной матрицы, в том числе и при. изображении, противника. Образ врага становится более разнообразным, вариативным, амбивалентным. Начинают различаться в основном значении военный противник образы «немцев-нацистов» (идейный враг) и «простых немцев» (враг поневоле, волею обстоятельств). Не забывая о том, что это все-таки враги, писатели начинают видеть в каждом из них под зеленой формой вермахта человека с неоднозначной судьбой, которая далеко не всегда зависела от его собственного выбора. И на лексическом уровне это выражается все более частым употреблением лексемы «человек» в отношении рядового немецкого солдата. Появляются мотивы жалости к убитому или пленному противнику («бедный мальчик» у В. Кондратьева). У Т. Бакланова, одного из главных представителей «лейтенантской прозы», практически отсутствует негативная лексика при описании пленного немца. Примечательна также сцена в повести В. Кондратьева «Сашка», в которой молодой лейтенант вступается за пленного, не давая совершить над ним необдуманный самосуд. Еще острее эта противоречивость, раздвоенность героев в отношении к противнику переживается героями В. Гроссмана в романе «Жизнь и судьба», особенно при’описании укрывшихся от бомбежки в одном итом же убежище двух русских бойцов и пожилого немецкого солдата. Это описание типологически почти полностью накладывается на «сцену в воронке» из романа «На Западном фронте без перемен» (на наш взгляд, здесь не исключена и прямая, генетическая связь). Подобного рода «ремарковские» внутренние конфликты, фреймы, ситуации и мотивы обнаружены нами и в романах К. Воробьева.
Несколько позже такое же смещение центра тяжести однозначного, ненавидящего понятия, «враг» к дихотомии «эсесовец, нацист — просто немец, человек» будет происходить и в творчестве В. Астафьева: В рассказе «Веселый солдат» тоже возникает типичная окопная' ремарковская ситуация. И на стилистическом, лексическом уровне происходят такого же рода примечательные перемены.
В целом принципиальный для романов Э. М. Ремарка концепт «враг» в 1950;60-е годы оказался ^ весьма созвучен тем новым, либеральным настроениям нашего общества, которые переживались после XX съезда КПСС, и по этой причине и в этих условиях он оказал заметное воздействие на отечественную военную прозу. Ремарковские типы и подтипы концепта «враг» входят в советскую литературу, совпадая при этом с возобновляемой традицией великой русской классики — прежде всего с традицией Л. Толстого.
Отношения между Россией и Германией, Советским Союзом и Германией в XX столетии слишком часто были неблагополучными, напряженными, заходили в тупик, кончались войнами (первая и вторая мировые войны). Но, как это видно хотя бы из проанализированных нами произведенийэто были столкновения не народов, не простых людей, а скорее правительств и идеологий, разного рода авторитарных и тоталитарных систем.
Творчество Э. М. Ремарка и близких ему немецких авторов (А. Цвейг, Л. Ренн, В. Борхерт, Г. Белль, Г. Грасс и др.), как и книги многих представителей русской литературы, в особенности «лейтенантская проза» 1950;60-х гг., убеждают нас, что ненависть и война — это ни в коем случае не закон истории, не выбор человечества, а наоборот — трагическая ошибка или преступление, жертвою которых становится та молодежь, от имени которой говорили правду о войне Эрих Мария Ремарк и советские «писатели-лейтенанты» 1950;60-х гг.
Список литературы
- Астафьев В.П. Избранное: Прокляты и убиты: Роман: в 2 кн. / коммент. В. Астафьева / В. П. Астафьев. М.:Терра, 1990. — 640 с.
- Астафьев В.П. Веселый солдат: повесть- рассказы / В. П. Астафьев. -СПб.: Лимбус Пресс, 1999. 544 с.
- Астафьев В.П. Нет мне ответа. Эпистолярный дневник 1952−2001 / сост. предисл. Г. Сапронов. 2-е изд., доп. — Иркутск: Изд. Сапронов, 2009. — 752 с.
- Бакланов Г. Я. Собрание сочинений: в 4-х тт. Т. 1. Южнее главного удара- Пядь земли- Мертвые сраму не имут- Июль 41 года / вступ. статья И. Дедкова- худож. Вл. Медведев / Г. Я. Бакланов. М.: Худож. лит., 1983. — 494 с.
- Бакланов Г. Я. Дороги пришедших с войны / Г. Я. Бакланов. М.: НФ «Пушкинская библиотека», 2005. — 880 с.
- Барбюс А. Огонь (Дневник взвода): пер. с франц. В. Парнаха / предисл. М. Горького- рис. А. Яцкевича / А. Барбюс. М.: Правда, 1982.-320 с.
- Быков В.В. Долгая дорога домой. Книга воспоминаний / предисловие автора- пер. с бел. и послесловие В. Тараса / В. В. Быков. М.: ACT, Мн.: Харвест, 2005. — 448 с.
- Василевская В. Радуга / В. Василевская. М., 1947. — 187 с.
- Воробьев К.Д. Это мы, господи! Крик. Убиты под Москвой. Друг мой Момич. Повести, рассказы / К. Д. Воробьев. М.: Вече, 2005. -384 с.
- Гомер. Илиада- пер. с древнегреч. Н. Гнедич / предисл А. Нейхардт- прим. и словарь С. Ошерова- ил. Д. Бисти. М.: Правда, 1985. -432 с.
- Кондратьев В. Л. Сороковые.: рассказы и повести /
- B.Л. Кондратьев. М.: Современник, 1988. — 464 с.
- Кондратьев В.Л. Сашка. Рассказ, повести / В. Л. Кондратьев. — Воронеж: Центр. — Чернозем, кн. изд-во., 1990. — 332, 2.с.
- Крейн С. Алый знак доблести. Рассказы / С. Крейн. М.- Л., 1962. -292 с.
- Лермонтов М.Ю. Сочинения: в 6 тт. / М. Ю. Лермонтов. — М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1954−1957. Т. 2. — 388 с.
- Некрасов В.П. В окопах Сталинграда: повесть- рассказы / предисл. Г. Бакланова. М.: Худож. литер., 1990. — 317, 2. с.
- Некрасов В.П. В родном городе: повесть / В. П. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1955. — 262 с.
- Ремарк Э.М. Враг. Рассказы / пер. с нем. И. Гречухиной // Ремарк Э. М. Избранное: Три товарища. Враг. Воинствующий пацифист. М.: Гудьял-Пресс, 1999. — С. 355−385.
- Ремарк Э.М. Гэм / пер. с нем. Н. Федоровой // Ремарк Э. М. Станция на горизонте. М.: Вагриус, 2000. — С. 169−350.
- Ремарк Э.М. История любви Аннеты: рассказы. Публицистика: сб.- пер. с нем. / Эрих Мария Ремарк. М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. -254, 2. с. — (Классическая и совреманная проза).
- Ремарк Э.М. На Западном фронте без перемен / пер. с нем.
- C. Мятежного и П. Черевина/ Э. М. Ремарк. М.- Л.: Земля и фабрика, 1929. — 224 с.
- Ремарк Э.М. На Западном фронте без перемен / пер. с нем. А. Коссовича / Э. М. Ремарк. Рига: ORIENT, 1929. — 224 с.
- Ремарк ЭМ. Последняя остановка / пер. с нем. Б. Кремнева, Н. Сереброва // Ремарк Э. М. Собрание сочинений: в 8 тт. Т. 4. М.: ТЕРРА, 1998.-С. 317−382.
- Ремарк Э.М. На Западном фронте без перемен. Три товарища. Триумфальная арка: романы- пер. с нем. / Эрих Мария Ремарк. М.: НФ «Пушкинская библиотека»: ACT: ACT МОСКВА, 2007. -956, 4. с.
- Стендаль Ф. Пармская обитель / Ф. Стендаль. М.: Правда, 1981. -432 с.
- Теккерей У. Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 7. История Генри Эсмонда. Роман. Английские юмористы XVIII века / пер. с англ.- под общ. ред. А. Аникста, М. Лорие, М. Урнова- коммент. Г. Шейнмана / У. Теккерей. М.: Худож. лит., 1977. — 779 с.
- Толстой Л.Н. Война и мир. Собр. соч. в 12 тт. Т. 4 / Л. Н. Толстой -М.: Правда, 1987.-541 с.
- Цвейг А. Воспитание под Верденом: пер. с нем. / А. Цвейг. М.: Гослитиздат, 1954. — 507 с.
- Шолохов М.А. Военнопленные // Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне. В 12 тт. Т. 2. Битва за Москву / сост. В. Кочетков. М.: Современник, 1984.-780 с.
- Эренбург И.Г. Бешеные волки / И. Г. Эренбург М.: Военгориздат, 1941.-56 с.
- Юнгер Э. В стальных грозах / пер. с нем. Н. О. Гучинской, В. Г. Ноткиной / Э. Юнгер. СПб: Владимир Даль, 2000. — 331с.: ил.
- Remarque Е.М. Im Westen nichts Neues. Mit Materialen und einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 1999. -284 S.
- Remarque E.M. Der Weg zuruck. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2007. — 334 S.
- Remarque E.M. Der Feind. Nachwort von Thomas F. Schneider / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2007. — 77 S.
- Remarque E.M. Drei Kameraden. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 1997. — 398 S.'
- Remarque E.M. Are de Triomphe. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2005. — 498 S.
- Remarque E.M. Liebe deinen Nachsten. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2004. — 340 S.
- Remarque E.M. Zeit zu Leben und Zeit zu Sterben. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2006. — 419 S.
- Remarque E.M. Die Nacht von Lissabon. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2005. — 314 S.
- Remarque E.M. Der Funke Leben. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2004. — 440 S.
- Remarque E.M. Der schwarze Obelisk. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2007. — 414 S.
- Remarque E.M. Der Himmel kennt keine Gunstligen. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2004. -336 S.
- Remarque E.M. Schatten im Paradies. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen / E.M. Remarque. Koln: KiWi, 2004. — 514 S.
- Айшискина Н. Обратный путь / Н. Айшискина // Культура и пролетарская революция. 1932. — № 1−3. — С. 34−38.
- Аскольдов С.А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. — М, 1997.-С. 267−279.
- Бабенко В.Г. Ремарк становится Ремарком / В. Г. Бабенко // Ремарк Э. М. Станция на горизонте. М., 2000. — С. 5−8.
- Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста: теория / Л. Г. Бабенко. -М., 2004. 400 с.
- Бабков М.Ю. Атеизм или богоборчество? К вопросу о религиозной концепции Э.М. Ремарка (на материале романа «Черный обелиск») / М. Ю. Бабков // Библия и национальная культура: межвуз. сб. науч. ст. и сообщ. Пермь, 2004. — С. 57.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. М., 1994. -615 с.
- Барт Р. Основы семиологии / Р. Барт // Структурализм: «за» и «против». -М., 1975. 256 с.
- Бергельсон Г. Во имя мира / Г. Бергельсон // На Западном фронте без перемен. Три товарища / Э. М. Ремарк. М., 1991. — С. 3−14.
- Бердяев H.A. Алексей Степанович Хомяков / H.A. Бердяев. -М., 1912.-256 с.
- Борозняк А.И. «Мертвые будут обвинять вас.». Роман Э. М. Ремарка «Время жить и время умирать» в контексте дискуссии о преступлениях, нацизма / А. И. Борозняк // Новая и новейшая история. 2008.-№ 1.-С. 185−200.
- Боярский О. О творчестве Ремарка / О. Боярский // Крым. 1959. -№ 23. -С. 121−126.
- Бугров Д.В. Германизм в зеркале русской идеи: исторические перспективы Германии в отражении русского утопического традиционализма рубежа XIX—XX вв.еков / Д. В. Бугров // Известия Уральского государственного университета. 2001. — № 21. -С. 59−78.
- Бухарин В. О книге Ремарка «На Западном фронте без перемен» /
- B. Бухарин // На подъеме. 1929. — № 11. — С. 49−58.
- Вакулюк А.Н. Рецепция прозы Э.М. Ремарка начального периода творчества в США / А. Н. Вакулюк // Идеи, гипотезы, поиск. -Магадан, 2004. Вып. 11. — С. 3−11.
- Вашик К. Метаморфозы зла / К. Вашик // Родина. 2002. — № 10.1. C. 14−17.
- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов /
- A. Вежбицкая. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 780 с.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. -М.: Языки русской культуры, 1997. 416 с.
- Век Ремарка / Н. К. Батова, Т. И. Венславович, Е. В. Заварзина и др.- отв. ред. P.P. Чайковский — Сев. междунар. ун-т. — Магадан: Кордис, 1998.-79 с.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика / ред., вступ. ст. и примеч.
- B.М. Жирмунского / А. Н. Веселовский. — 2-е изд., испр. М.: Едиториал УРСС, 2004. — 648 с.
- Горяева Т.М. Убить немца / Т. М. Горяева // Родина. 2002. -№ 10.1. C. 43.
- Вольф К. От первого лица: пер. с нем./ сост. Е.А. Кацева- предисл. и коммент. A.A. Гучника / К. Вольф. -М.: Прогресс, 1991. 416 с.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. -5-е изд., стереотип. / И. Р. Гальперин. -М.: КомКнига, 2007. 144с.
- Герасимова И. «Мы не можем оглянуться на наше прошлое. Оно еще здесь.»: («Потерянное поколение» вчера и сегодня: по творчеству Э.М. Ремарка) / И. Герасимова // Актуальные проблемы региональных исследований. Барнаул, 2001. — Вып. 1. — С. 76−81.
- Головатенко А. Жизнь сводилась к смерти: восприятие «Первой мировой войны и ее последствий по роману Э. М. Ремарка „На Западном фронте без прермен“» / А. Головатенко // История -2004'. 1−7 марта (№ 9). — С. 21−24.
- Грасс Г. Мое столетие- роман / пер. с нем. и комментар. С. Л. Фридленд / Г. Грасс. М.: ACT: Фолио, 2001. — 332, 4. с. 81.