Славянская модель экзистенциализма: литературные контексты книги «Миросозерцание Достоевского» Н.А. Бердяева
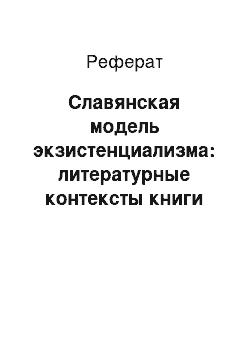
Мысль о «дионисической» природе гения Достоевского Бердяев соотносит с видением русского национального характера в его «анархической» составляющей: русскому человеку присуща «незначительная формальная одаренность», более того, «вражда к форме, к формальному началу в праве, государстве, нравственности». Проблема кризиса гуманизма, полагает Бердяев, находит наиболее сильный отзвук в русском… Читать ещё >
Славянская модель экзистенциализма: литературные контексты книги «Миросозерцание Достоевского» Н.А. Бердяева (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Славянская модель экзистенциализма: литературные контексты книги «Миросозерцание Достоевского» Н.А. Бердяева
Л. А. Мальцев Кризис гуманизма в ХХ веке, т. е. классических ренессансных представлений о человеке, является одним из острых вопросов экзистенциалистской антропологии. В философии русского зарубежья его поставил Н. А. Бердяев в трудах «Миросозерцание Достоевского» и «Смысл истории», изданных в 1923 году. Например, в книге «Смысл истории» Бердяев говорит о трагических событиях 1914;1918 годов как симптомах «глубокого потрясения и расчленения форм человека, гибели целостного человеческого образа». Достоевский, полагает Бердяев, предчувствовал антигуманистическую угрозу, видел в ней следствие ущербности секуляризированного гуманизма и искал выход в обновленном христианском гуманизме. Находя идейную опору в Достоевском, философ пишет об «исступленном чувстве личности» великого писателя, о его миросозерцании, «проникнутом персонализмом».
Философско-критический комментарий «Миросозерцание Достоевского» совмещает представления о «дионисическом художестве», «дионисическом экстазе» Достоевского с тезисом о сохранении у него «образа человека, лика человека»: если следствием «дионисического экстаза» является необратимый распад человека, то Достоевский, по Бердяеву, являет уникальный пример «дионисическо"-христианской диалектики смерти и воскресения личности.
Мысль о «дионисической» природе гения Достоевского Бердяев соотносит с видением русского национального характера в его «анархической» составляющей: русскому человеку присуща «незначительная формальная одаренность», более того, «вражда к форме, к формальному началу в праве, государстве, нравственности». Проблема кризиса гуманизма, полагает Бердяев, находит наиболее сильный отзвук в русском сознании с его отрицанием «меры» классической культуры и «середины» современной цивилизации, с выходом за пределы западных парадигм и устремленностью к «положительному» апокалиптическому либо к «отрицательному» нигилистическому полюсам (см. статью философа «Духи русской революции»). славянский экзистенциализм достоевский бердяев Тезис о «незначительной формальной одаренности» и, как следствие, об экзистенциальном «распылении» русского человека находит у Бердяева «ландшафтные» соответствия: «На лице русской земли нет резко очерченных форм, нет границ. Нет в строении русской земли многообразной сложности гор и долин, нет пределов, сообщающих форму каждой части. Русская стихия разлита по равнине». Соответственно и русская душа «не может жить в границах и формах, в дифференциациях культуры», она «не превращена в крепость, как душа европейского человека, не забронирована религиозной и культурной дисциплиной».
Размышления польского писателя Витольда Гомбровича о польском «равнинном» характере и о «незначительной формальной одаренности» своих соотечественников представляются парафразом бердяевского текста: «Француз, англичанин, каким бы он лично не был внутренне расколотым, легко подходит к определенной национальной форме, английской, французской, выработанной веками, готовой. А что есть Польша? Это страна между Востоком и Западом, где Европа постепенно сходит на нет, переходная страна, где Восток и Запад друг друга ослабляют. А значит, это страна ослабленной формы И вот на этой равнине, открытой всем ветрам, уже давно происходила великая Компрометация Формы и ее Деградация. Чувство бесформенности, мучительное для поляков, но наполняющее их какой-то странной свободой, было истоком их любви к Польше».
Однако польская душа ближе, чем русская, к «срединным» нормам европейского гуманизма (Бердяев), к «царству средних температур» (Гомбрович). Гомбрович говорит о двойственности польской души, исходящей из промежуточного положения Польши между Востоком и Западом: «Поляк, поставленный напротив восточного мира, представляется поляком определившимся и предсказуемым. Поляк, обращенный лицом на Запад, имеет туманный облик, полный неясных обид, недоверия."9. Гомбрович полагает не без оснований, что именно с западной точки зрения польский характер отождествляется с «загадочной славянской душой». Представление о «незначительной формальной одаренности» славянского характера, его «дионисической» склонности к иррациональной сфере бытия позволяет именно в славянском литературном контексте, русском и польском, рассмотреть проблему кризиса гуманизма, актуальную для всей Европы ХХ века.
Развитие культуры европейских, в том числе славянских стран в направлении модернизма свидетельствует о том, что литературное «дионисийство» обычно сопрягалось с констатацией необратимого расщепления «ядра» личности и, согласно Бердяеву, «динисическое художество» Достоевского, соединенное с христианским гуманизмом, оказывалось здесь не правилом, а исключением. В двух славянских литературах, русской и польской, проблема кризиса гуманизма проявилась сильнейшим образом в прозаических произведениях в романе «Фердидурке» Витольда Гомбровича и повести «Распад атома» Георгия Иванова: оба текста были опубликованы в 1938 году, почти одновременно с романом «Тошнота» Сартра, ознаменовавшим утверждение экзистенциализма в общеевропейской художественной культуре.
Творчество Витольда Гомбровича и Георгия Иванова вполне правомерно ассоциируется с экзистенциалистскими тенденциями соответственно польской и русской литератур. Р. Гуль утверждает: «Георгий Иванов сейчас единственный в нашей литературе русский экзистенциалист». По мнению критика, экзистенциализм «петербургского» происхождения намного старше сартровского «сен-жерменского» экзистенциализма. Экзистенциалистскую проблематику сочинений Иванова Р. Гуль ставит в контекст национального самосознания («своеобразие поэтической темы Иванова заключается в том, что она остро преломилась в нашей потенциально апокалиптической термоядерной действительности»), в чем критик перекликается с тезисом Бердяева об апокалиптическом «полюсе» русского характера.
Ключевой фигурой польского экзистенциализма, несомненно, является Гомбрович. По словам Милана Кундеры, роман «Тошнота» Сартра неоправданно «захватил место, отведённое Гомбровичу»: «То, что „Тошнота“, а не „Фердидурке“ стала образцом новой ориентации, имело досадные последствия: первая брачная ночь философии и романа нагнала на обоих лишь скуку», уточняет чешский писатель. О самобытности Гомбровича в сопоставлении с Сартром категорично и даже задиристо пишет польский философ и критик М. П. Марковский: «Экзистенциализм Гомбровича был не доктринерским, не притворным. Гомбрович не должен был носить черных свитеров, афишировать себя с книгой Сартра под мышкой. Это Сартр должен был носить под мышкой „Фердидурке“, если бы он знал испанский и если бы у него было больше фантазии».
Экзистенциалистский тип творчества Г. Иванова и Гомбровича обусловлен фактом эмигрантского существования. В исследовании экзистенциалистских контекстов творчества Иванова С. Г. Семенова подчеркивает значение факторов эмигрантского одиночества, беспочвенности («Молодые эмигрантские литераторы особенно чувствительно испытали на себе катастрофичность своего времени, его мировоззренческую шаткость, но главное были выброшены в социальную пустоту, в одиночество, в безнадежность»), что, очевидно, имеет отношение и к творчеству Гомбровича, уехавшего в августе 1939 года в Аргентину и проведшего последние тридцать лет жизни за рубежом.
На Г. Иванова и Гомбровича оказал влияние Достоевский как автор повести «Записки из подполья», традиционно считающейся «прологом» экзистенциализма ХХ века. Жизненная философия «подпольного» человека, его эгоцентризм, вседозволенность, впоследствии подкрепленная концепцией «переоценки ценностей» Ницше, привели к утверждению безграничной свободы и обесцениванию правил, законов бытия. «Достоевский, пишет Бердяев, берет человека отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшим из космического порядка и исследует судьбу его на свободе, открывает неотвратимые результаты путей свободы».
Идея порядка («мировой гармонии»), против которой протестует «подпольный» человек Достоевского, оказывается низвергнутой в мире анонимного героя повести Г. Иванова «Распад атома». Циник и эгоцентрик, «копия» героя Достоевского, он сознает себя в ситуации, диаметрально противоположной «подпольному» человеку. Герой Иванова сталкивается с всепоглощающим «мировым уродством», под давлением которого разрушается «атом» личности. В окружающем абсурдном мире есть случайности, но нет закономерностей, есть вопросы, но нет ответов, есть иллюзия обретения смысла, но нет самого смысла. Герой Иванова уже не бунтует против «мировой гармонии», а тоскует по ней, он живет ностальгическими воспоминаниями о «пушкинской России», однако отсутствие надежды приводит к трагической констатации «мирового уродства» и неминуемого распада человеческой души: «Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу порядка. Не моя вина, что порядок разрушен. Я хочу душевного покоя. Но душа, как взбаламученное помойное ведро хвост селедки, дохлая крыса, обгрызки, окурки, то ныряя в мутную глубину, то показываясь на поверхность, несутся вперегонки. Я хочу чистого воздуха. Сладковатый тлен дыхание мирового уродства преследует меня, как страх». Бытийный хаос приводит к распаду творческого «ядра» личности, которая, повинуясь эстетической интуиции, пытается «воплотить» историю своей жизни, однако «умеет только развоплощать». «Бесформенность» выражения жизненного опыта становится здесь показателем экзистенциальной обреченности, потери надежд на возвращение в «утраченный рай».
В романе Гомбровича «Фердидурке» («Ferdydurke») совмещены оба мировых начала, враждебных героям «Записок из подполья» Достоевского и «Распада атома» Г. Иванова. Центростремительная формообразующая («мировая гармония») и центробежная разлагающая силы («мировое уродство») обладают равноправным статусом: все романное действие как будто поединок «дьявола порядка», дьявола формы, от которого человек защищает свою «глубинную свежесть», и дьявола распада, «инфернальной баталии, разлада, фальши, игр демонов», карнавала гримас, мин, рож с неизбежным «торжеством» окончательного разложения формы. Вступительный абзац романа демонстрирует процесс дробления личности, дошедший до критического, рубежного состояния: «Это был ужас несуществования, страх небытия, боязнь нежизни, опасение нереальности, биологический вопль моих клеток, напуганных внутренним раздором, раздроблением и распылением». И здесь «я» героя, близкого автору, оказавшись на границе с небытием, предпринимает попытку центростремительного движения, кажущемся возможным только в акте эстетического самовыражения: «Ах, создать собственную форму! Выплеснуться наружу! Самовыразиться! И вот уже наступает рассвет, а я в окружении блистательных и отточенных форм принимаюсь за первые страницы собственного моего творения, такого, как я, идентичного мне, источающегося прямо из меня, творения, суверенно выражающего собственную мою правду». Но только герой-автор задается программной целью сосредоточения себя на большой творческой задаче, является учитель Пимко, усматривающий в 30-летнем мужчине незрелого юнца и заключающий его в тесную «форму» ученика.
Циклический процесс «рассеивания» «собирания» личности, по Гомбровичу, обусловлен изменчивостью, нестабильностью «я», находящегося в диалектической связи с «другими»: в состоянии зависимости и бунта против «других». Путь к индивидуальной автономии, как следует из «Фердидурке», лежит через разработку стратегии и тактики самообороны от «других», которые несут или угрозу разрушения внутренней формы, или, наоборот, заключения в определенном порядке, внешней форме. Чтобы заключить жертву в искусственно созданном порядке, нужно предварительно подорвать суверенность ее «я», парализовать волю к сопротивлению именно та операция, которую проделывают по отношению к Юзефу Ковальскому сначала учитель Пимко и пансионерка Зюта, затем «добрая» тетушка Хурлецкая и, к концу романа, милая барышня Зося.
Притчей-комментарием к перипетиям борьбы главного героя с началами порядка и разлада служит вставная новелла «Филидор, подлицованный ребенком». В основе новеллы о Филидоре лежит спор ученых-антагонистов Филидора и анти-Филидора как представителей противоположных парадигм синтеза (знания, примиряющего противоречия и достигающего единства частей) и анализа («атомизации», расщепления, казалось, даже гармоничного целого на мельчайшие частицы). Как резюмирует рассказчик в этой истории, «анализ, по сути, победил"20, однако механизм поединка уже запущен в бесконечность: впавшие в детство профессора бросаются камнями в птиц, охотятся на лягушек, бьют стекла и т. д. Борьба идей синтетологии с идеями аналитики, «дьявола порядка» с дьяволом разлада, приводит к бесконечному и бесцельному процессу, давление демонических сил на человека достигает апогея именно в этой «дурной бесконечности» поединка синтеза с анализом.
В пародийной философической новелле «Филидор.» позиция Гомбровича пересекается с эстетическими взглядами Бердяева (работа «Кризис искусства» (1918)). Бердяев пишет о противоположных тенденциях культуры начала XX века: синтетической и аналитической. Синтетическая тенденция, по Бердяеву, заключается в тоске современного человека «по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии». Аналитическая обнаруживает обратный процесс «дематериализации, развоплощения» искусства, когда «пошатнулось целостное восприятие образа человека, когда человек проходит через расщепление». Так как классическое искусство уже никогда не вернется в прежние границы и аналитическая тенденция чревата катастрофическими последствиями («.Человек с распыленным ядром „я“, разорванный на миги и клочья, не может создать сильного и великого искусства»), Бердяев, несомненно, отдает приоритет синтетизму.
«Фердидурке» как роману модернистской направленности, пожалуй, ближе аналитическая тенденция (с эстетической точки зрения), о чем говорит, например, обращение внимания на части тела, на соответствующие им части произведения и, в целом, видение мира в состоянии расчленения (см. «Предисловие к „Филидору.“»). Однако Гомбрович одинаково дистанцируется от идей синтеза и анализа, воплощенных в фигурах Филидора и анти-Филидора.
Здесь пролегает принципиальная разделительная линия между романом «Фердидурке» и традициями русской культуры. В русской классической культуре преобладает синтетическая концепция бытия, поэтому Бердяев, в целом, выражает веру в то, что на путях синтетизма произойдет возрождение искусства. Не случайно русской литературе XIX века даже в удручающих обстоятельствах свойственно искание лада гармонии и всеединства бытия. И обратно тому, ад понимается как царство распада без видимой надежды на восстановление утраченных связей. Для Гомбровича, наоборот, синтез, т. е. стремление к единству, есть едва ли не большее искушение, чем аналитический разлад, расчленение бытия. Роману «Фердидурке» свойственны индивидуалистические устремления, автор и герой далеки от надежд на всеобщую гармонию. С другой стороны, Гомбрович свободен от крайностей пессимизма: человек Гомбровича пребывает в неустанном движении к цели самовыражения, которое, хоть и происходит «вне» надежды, все же отрицает ее отрицание. На этом пути одним из немногих русских единомышленников Гомбровича мог быть автор повести «Распад атома» Георгий Иванов.
Примечания
Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т.1. С. 396.
Там же. Т.2. С. 36.
Там же. Т.2. С. 30.
Там же. Т.2. С. 42.
Там же. Т.2. С. 43.
Там же. Т.2. С.13−14.
Там же. Т.2. С.105−106.
Gombrowicz, W. Testament. Rozmowy z Dominique de Roux. Krakow, 2004. S.31−32. Перевод здесь и во всем тексте статьи Л.М.
Gombrowicz, W. Dziennik. Krakow, 2001. T.1. S.25.
Гуль, Р. Б. Георгий Иванов // НЖ. 1955. .№ 42. С.110−120. Согласие Москва. Интернетжурнал о культуре русского зарубежья. URL: http://soglasie .ioso.ru/library/works/26/.
Кундера, М. Нарушенные завещания. СПб., 2005. С. 256.
Markowski, М. P. Ze szkoly Montaigne’a // Gombrowicz W. Kurs filozofii w szesc godzin i kwadrans. Krakow, 2006. S.7.
Семенова, С. Г. Изнанка и лицо обезбоженного мира (экзистенциальное сознание в прозе Георгия Иванова и Владимира Набокова) // Семенова С. Г. Метафизика русской литературы. М., 2004. С. 164.
Бердяев, Н. А. Указ. изд. Т.2. С. 31.
Иванов, Г. Распад атома. URL: http://lib.ru/ RUSSLIT/IWANOWG/raspad.txt.
Гомбрович, В. Космос. СПб., 2001. С. 109.
Там же. С. 237.
Там же. С. 33.
Там же. С. 44.
Там же. С. 122.
Бердяев, Н. А. Указ. изд. Т.2. С. 401.
Там же. Т.2. С. 404.
Там же. Т.2. С. 411.
Там же. Т.2. С. 412.