Поэтико-философское своеобразие рассказов Татьяны Толстой: На материале сборника «Ночь»
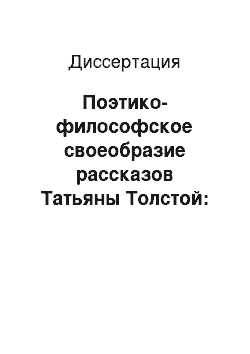
М. Золотоносов отмечает необычность литературной игры, которую ведет писательница. Суть ее — «необычайное сочетание безжалостности, пугающего всеведения о герое» со злой наблюдательностью спокойно-ледяного психологизма. А. Василевский, напротив, считает, что в рассказах Т. Толстой всегда присутствует «динамическое равновесие» беспощадной ироничности и дружелюбного юмора, жестокой правды… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РАССКАЗОВ СБОРНИКА ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ «НОЧЬ»
- 1. Философско-поэтический смысл названия сборника «Ночь»
- 2. Проблема разлада мечты и действительности в петербургских рассказах сборника «Ночь»
- 3. Библейская символика в петербургских рассказах сборника «Ночь»
- Татьяны Толстой
- 4. Антиномия «тьма — свет» в «московских» рассказах сборника Татьяны
- Толстой «Ночь»
- 5. Сюжетообразующий мотив игры в рассказах сборника «Ночь»
- ГЛАВА II. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАССКАЗОВ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ
- 1. Образ автора-повествователя в петербургских рассказах сборника «Ночь»
- 2. Функциональность пушкинского интертекста в рассказах сборника «Ночь»
- 3. Механизм интертекстуальности в рассказах Татьяны Толстой (Сборник «Ночь»)
- 4. Особенности хронотопических отношений в рассказах цикла «Ночь»
- 5. Метафоричность детали как доминанта поэтики рассказов сборника Т. Толстой «Ночь»
Поэтико-философское своеобразие рассказов Татьяны Толстой: На материале сборника «Ночь» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Татьяна Никитична Толстая — прозаик, эссеист, литературная деятельность которой началась в 1980;е годы. Широкую известность принесла ей первая книга рассказов «На золотом крыльце сидели.» (1987). Не менее известны последующие книги Татьяны Толстой «Любишь — не любишь» (1997), «Сестры» (1998), «Река Оккервиль» (1999), «Ночь» (2002), «День» (2003), «Не кысь» (2004), а также роман «Кысь» (2000).
Творчество Татьяны Толстой большинство критиков и литературоведов относят к постмодернизму. В монографии С. И. Тиминой «Русская литература XX века» утверждается: «В феномене „другой прозы“, в творчестве Л. Петрушевской, Т. Толстой, Е. Попова, Вяч. Пьецуха и др. также видны постмодернистские тенденции и черты новой поэтики: например, в отказе человека от социума, реабилитации быта, в „магнитофонной“, хаотической форме диалогов, в своеобразном эстетическом диссидентстве и шоковом, сенсационном воздействии на читателя» [1].
Татьяна Толстая сама идентифицирует себя как постмодернистского писателя. Для нее важно, что постмодернизм возродил «словесный артистизм», пристальное внимание к стилю и языку. Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий подчеркивают «демонстративную сказочность» поэтики писательницы, интерес к игре словом. Сказочность придает особую «праздничность» повествованию, выражающуюся прежде всего в неожиданных сравнениях и метафорах: «Сказочное мироотношение предстает в этих рассказах как универсальная модель созидания индивидуальной поэтической утопии в которой единственно и можно жить, спасаясь от одиночества, житейской неустроенности, кошмара коммуналок и т. д. и т. п.» [2].
По мнению этих исследователей, художественный мир Татьяны Толстой включает в себя также множество мифов, сказочных по своей семантике, поэтических и фантастических. «Относительную целостность этой калейдоскопически пестрой картине придают языки культуры, -тоже разные и противоречивые, но тем не менее основанные на некой единой логике творчества — с помощью которых эти сказки непрерывно создаются и воспроизводятся человеком, в каждый миг его жизни. Красота взаимных превращений и переливов этих сказок и позволяет благодарно улыбнуться жизни. Такая философия снимает модернистское противопоставление «одинокого творца живых индивидуальных реальностей — толпе, живущей безличными, а потому мертвыми стереотипами» [2, 45], справедливо утверждают H. JL Лейдерман и М. Н. Липовецкий.
Татьяна Толстая — наиболее «литературный и фольклорный» мастер слова в современной русской литературе. Ее оригинальный талант вызывает самые различные ассоциации в критике. Одни рецензенты вписывают творчество Т. Толстой в «женскую прозу» (В. Токарева, Л. Петрушевская, В. Нарбикова) [3]. Другие ставят автора «Кыси» в иной типологический ряд: В. Ерофеев, Вяч. Пьецух, В. Нарбикова, С. Каледин, В. Пелевин [4]. Вокруг имени Т. Толстой ведутся споры, звучат взаимоисключающие суждения о смысле аллюзий, роли автора, типах героев, выборе сюжетов и манере письма [5].
М. Золотоносов отмечает необычность литературной игры, которую ведет писательница. Суть ее — «необычайное сочетание безжалостности, пугающего всеведения о герое» со злой наблюдательностью спокойно-ледяного психологизма [6]. А. Василевский, напротив, считает, что в рассказах Т. Толстой всегда присутствует «динамическое равновесие» беспощадной ироничности и дружелюбного юмора, жестокой правды и милосердной снисходительности [7]. Убедительно суждение С. Пискуновой и В. Пискунова по проблеме авторского мировидения и, в частности, необычного соотношения «автор — герой». По мнению критиков, в прозе Т. Толстой происходит совмещение двух противоположных модусов авторского повествования: полная дистанцированность нарратора совмещается с максимальным вживанием в проблемы героя [8].
Сопоставляя рассказы Т. Толстой и JI. Петрушевской, исследователи Н. Медведева, А. Михайлов, И. Грекова подчеркивают, что в отличие от Петрушевской с ее перенасыщенной «негативной реальностью» проза Толстой гуманистична, сочувственна. Ее герои, не избавленные от бытовых неурядиц и нищеты, не утрачивают веры в жизнь, надежды на воплощение в реальность романтической мечты. Многие персонажи Татьяны Толстой похожи на праведников Н. С. Лескова и чудиков В. Шукшина. Хорошо образованная и щедро одаренная писательница обогатила жанр рассказа с помощью оригинальной поэтики, создавая «особое роскошество» текстов [9].
Выявлению функциональности литературных аллюзий в текстах Т. Толстой посвятил статью «В минус первом и минус втором зеркале: Т. Толстая, В. Ерофеев — ахматовиана и архетипы» А. Жолковский [10]. Исследователь дал интересный анализ интертекстуальных связей Толстой с творчеством А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Г. Флобера, В. Набокова, А. Платонова, А. Ахматовой, Б. Ахмадулиной на материале рассказа «Река Оккервиль». Интертекстуальность рассказов.
Татьяны Толстой обнаруживает себя повсеместно и в тематике произведений, и в поэтике (явная и скрытая цитация, реминисценциями, пародирование сюжетов), и выявление ее позволяет более глубоко интерпретировать проблематику прозы писательницы. Такие выводы делают Н. Иванова, И. Грекова и А. Генис в своих статьях о творчестве Татьяны Толстой [11].
Г. Г. Писаревская в работе «Реализация авторской позиции в современном рассказе о мечте» (по произведениям JI. Петрушевской, В. Токаревой, Т. Толстой) выявляет то, что роднит женскую прозу: мотивы одиночества, богооставленности, разлада мечты и действительности [12]. Автор подчеркивает, что герои всех трех писательниц живут в придуманном иллюзорном мире, не могут вырваться из раз и навсегда предначертанного судьбой замкнутого круга, бегства от действительности, поиска ложных идеалов, зависти и лжи.
В статье Т. П. Швец «Мотив круга в прозе Т. Толстой» творчество писательницы определяется как постромантическое, легко вписывающееся в орнаментальную прозу: «Практически любое из типологических свойств орнаментальной прозы можно без труда у Т. Толстой обнаружить, благо они лежат на поверхности, как не прячется у постмодернизма любой прием» [13].
Анализируя мотив круга как один из устойчивых мотивов романтизма и модернизма, Т. П. Швец выявляет мотивную структуру рассказов «Охота на мамонта», «Факир», «Спи спокойно, сынок», «Круг», делая вывод, что круг приобретает у Татьяны Толстой значение судьбы, которая не зависит от человека.
Действительно, в сюжетно-композиционной структуре произведений Толстой мотив круга важен, и реализуется он, как правило, в бесконечных попытках возвращения героя к своему истоку. Круг у писателя — это миф героя, его пространство-время, предельно сгущенные. Мотив этот является характеризующим.
А. Н. Неминущий исследовал другой мотив, входящий во многие рассказы Т. Толстой, — мотив смерти, обнаружив ряд его характерных вариантов, которые сопровождались особыми образными парадигмами [14]. Исследователь приходит к выводу, что «специфика художественного мира Т. Толстой видится как структурированная с опорой на тенденции реалистического типа мышления, разумеется, соотнесенного с опытом существования эстетики модерна (и постмодерна), но не сливающаяся с этим опытом, а обозначающая потенциальные возможности самообновляющегося реализма конца XX века» [14, 124].
Мотив игры представлен в статье Нины Ефимовой «Мотив игры в произведениях JI. Петрушевской и Т. Толстой» [15]. Исходя из того, что художественные миры JI. Петрушевской и Т. Толстой «диаметрально противоположны, автор статьи выявляет сходство и различия в мотивной структуре, в частности в мотиве игры».
Н. Ефимова утверждает, что в рассказах Петрушевской «Свой круг» и рассказе Толстой «Соня» мотив игры является основным композиционным элементом и ключом к пониманию образов героев.
Авторская речь, состоящая из множества чужих голосов, исследуется в статье Е. Невзглядовой «„Это прекрасная жизнь“. О рассказах Татьяны Толстой» [16]. Интертекстуальность Татьяны Толстой, как своеобразное «библиофильство» (А. Генис) подмечается в работах О. Богдановой, так как в текстах писательницы, действительно, множество перекличек с прозой JI. Толстого (Петере — Петр Безухов), Ф. Достоевского (Соня — Сонечка Мармеладова) [17].
Интертекстуальному игровому началу посвящена интересная работа В. В. Цуркан [18]. Автор ее рассматривает технику многослойной игры с читателем, которая становится сильнейшим средством построения характеров и стилистики повествования в произведениях Т. Толстой. В. В. Цуркан подчеркивает: «Воспринимая реальность как трагикомический театр, гротескную самопародию, зрелище уродств и абсурда, писательница пытается отменить безысходную ситуацию жизни «чисто художественными приемами» [18, 487]. То есть происходит некое бегство в замкнутый мир, отгороженный от суровой реальности прекрасной мечтой, вынесенной из детства. Так, в сборниках рассказов «На золотом крыльце сидели», «Любишь — не любишь», «Река Оккервиль» писательница разрушает «ненавистную концепцию реальности (социальной, физической, ментальной, литературной), создавая индивидуальную поэтическую утопию, соединяя утопию со своей противоположностью» — антиутопию в причудливом коктейле фантазии и повседневности, сатиры и социального анализа, юмора и гротеска. Здесь, по справедливому мнению В. В. Цуркан, «налицо опыт обретшей статус постмодернистского канона деконструкции, разрушение через использование, не отделимое от пересоздания» [18, 487].
Впервые об идейно-эстетическом единстве рассказов Татьяны Толстой поставила вопрос С. А. Песоцкая в статье «Художественный мир современного писателя и проблема коммуникации „писатель — читатель“ (на материале рассказов Т. Толстой)» [19]. Исследователь отмечает: «Своеобразие сборников рассказов Т. Толстой заключается в том, что их маленькие шедевры составляют единый художественный мир. Без учета этой особенности невозможно проникнуть в мастерскую писательницы. Рассказы объединены, прежде всего, интересом автора к необычному человеку и обусловленной этим интересом специфической типологией героев. Во-вторых, — своеобразием проблематики, экзистенциальной по своей природе. И, в-третьих, — этическим идеалом автора и единой художественной задачей, ради которой писательница творит свой уникальный мир. Эти три уровня анализа художественного текста взаимно обуславливают друг друга и, взятые вместе, раскрывают феномен Т. Толстой» [19, 257].
Концепту «память» в творчестве Т. Толстой уделяет внимание в своей работе С. Г. Шулежкова. Она пишет: «Наблюдения над семантическим полем вербализаторов концепта «Память» в произведениях любых жанров, особенно в текстах, отмеченных даром автора чутко реагировать на изменения в духовной жизни своих сограждан, могут дать объективное представление о состоянии этического и эстетического «здоровья нации» [20]. Т. Толстую, действительно, глубоко волнует тема исторической и культурной памяти в современной России.
Писательница делает вывод, что человеческая память избирательна, а культура и искусство, каких бы высот они ни достигли, бессильны перед людским невежеством, перед жестокостью и вандализмом. Это заключение вытекает из анализа концепта «память» в прозе Т. Толстой, в частности ее романа «Кысь».
Обзор имеющихся в арсенале отечественной критики и литературоведения откликов на прозу Татьяны Толстой показывает, что многие из них только намечают современные подходы к изучению оригинального талантливого творчества писательницы. Актуальность целостного рассмотрения ее прозы ощущается теми исследователями, которые затрагивают философско-этический, концептуальный и поэтический аспекты творчества Татьяны Толстой. Ждет ответа вопрос о месте писательницы в русской литературе конца XX — начала XXI века. Спорным остается вопрос принадлежности Т. Толстой к той или иной художественной системе. Ждут решения и проблемы жанрообразования, способов моделирования концепции мира в рассказах и романах писательницы. В русской литературе конца XX века происходит жанровый синтез с одновременным выходом за жанровые пределы произведения с обретением не свойственных ему ранее форм. Эти процессы особенно ярко отразились в прозе Т. Толстой.
Отношение к «другой прозе», то есть к потоку литературы, объединившему в 1980;е годы очень разных по стилистической манере и проблемно-тематической наполненности произведений таких авторов, как В. Пьецух, Вик. Ерофеев, С. Каледин, JI. Петрушевская, Евг. Попов, М. Кураев, не означает, что Татьяна Толстая полностью вписывается в это направление, так как большой талант — это всегда непохожесть, «особость». И определить эту «особость» можно только через целостный всесторонний анализ творчества писателя.
В связи с тем, что в литературоведении проза Татьяны Толстой рассмотрена в целом отрывочно и фрагментарно, представляется актуальной предпринимая на страницах настоящей работы попытка исследования художественного своеобразия рассказов, объединенных писательницей в сборник «Ночь».
Актуальность и значимость работы продиктованы сложившейся в современной науке приоритетной линией по изучению литературы конца XX — начала XXI века в ее жанровом аспекте. Выявление жанрово-поэтического своеобразия Татьяны Толстой представляет несомненный научный интерес.
В диссертации предпринимается попытка проанализировать авторский цикл произведений, маркируемый концептуальным заголовком «Ночь», и, определив его особенности в области жанрового содержания и жанровой формы, выявить и осмыслить основные концепты творчества Татьяны Толстой в целом, что позволяет, в свою очередь, глубже понять эстетическую сущность современных постмодернистских течений.
Кроме того, поскольку творчество Татьяны Толстой не рассмотрено в диссертационных исследованиях, предпринимается попытка интерпретационного и поэтического анализа прозы самобытного писателя современности.
Диссертация написана на материале прозы Татьяны Никитичны Толстой. Основной акцент сделан на рассказах, входящих в сборник «Ночь» с привлечением всей прозы писательницы. Этот широкий пласт творчества Т. Толстой и стал объектомдиссертационного изучения, а осмысление рассказов сборника «Ночь» с точки зрения их идейно-эстетического единства послужило основным предметом исследования нашей работы.
Цель исследования можно определить следующим образом: изучить идейно-тематическую основу рассказов Татьяны Толстой, входящих в сборник «Ночь" — выявить жанровое своеобразие рассказов Татьяны Толстойопределить их идейно-эстетическое единство и уяснить механизм цикличности, входящий в авторский замысел.
Из целей диссертации вытекают базовые задачи работы:
1. исследовать сквозной мотив прозы Т. Толстой «разлад мечты и действительности»;
2. выявить наиболее значимые художественные приемы сюжетосложения у писательницы на материале сборника «Ночь»;
3. проанализировать мифопоэтическую структуру рассказов, сочетающуюся с игровым интертекстуальным характером произведений Т. Толстой;
4. рассмотреть смысл заглавия, объединяющего все рассказы, входящие в цикл «Ночь" — обнаружить и объяснить взаимодействие всех элементов художественной системы Т. Толстой, их идейно-эстетическую цельность.
Метод исследования сочетает структурно-поэтический, рецептивно-эстетический, интертекстуальный и мифопоэтический подходы к изучению произведения.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Сборник Татьяны Толстой «Ночь» представляет собой циклическое гипертекстовое образование, объединенное символическим названием, которое подчеркивает искаженность духовного состояния современного общества, его опошление и ожесточение, пребывания во «мраке окаменелого нечувствия»;
2. Стержневой проблемой всех рассказов включенных в цикл «Ночь», является идущая от русской классической литературы мысль о драматическом разрыве «мечты и действительности», решаемая как неравная борьба «маленького человека» со стихией жизни, как трагический уход личности в область высокодуховного от хаоса повседневности;
3. Проблематика петербургских и московских рассказов Татьяны Толстой воплощается через сквозной библейский символ потерянного рая, который обретается человеком с рождением (детство — Эдемский сад), а вновь теряется по мере взросления в греховности земной жизни. В художественной философии писательницы концептосфера выражения «райский сад» предполагает антиномии «свет-тьма», «день-ночь», «духовное-материальное», «живое-мертвое», «вечное-сиюминутное», «доброе-злое», «воображаемое-реальное», «мечта-действительность». С помощью этого широкого спектра символических мотивов создается поэтическая картина мира в сборнике «Ночь»;
4. Оригинальная повествовательная структура сборника Татьяны Толстой «Ночь» формируется посредством метафоризации стиля, интертекстуальности, акцентирования мотивов игры, использования контрастного принципа архитектоники произведений, противопоставления сознания и подсознания, неоднозначности проявления авторской позиции по отношению к своим героям;
5. Важнейшим знаком в художественной системе сборника «Ночь» является пушкинский интертекст, позволяющий сквозь опошленный массовым сознанием авторитет русской культуры, символом которого выступает пушкинское слово, осознать национальный образ современного кризисного мира, увидеть его дисгармоничность;
6. Цикличность рассказов, входящих в сборник «Ночь», определяется единством пространственно-временных отношений, которые выполняют сюжетообразующие, характеризующие персонажей и выражающие авторское мироведение функции.
Научная новизна диссертации определяется тем, что предметом отдельного специального изучения становится идейно-художественное, проблемно-философское, мифопоэтическое, интертекстуальное и жанрообразующее содержание сборника рассказов Т. Толстой «Ночь». В диссертационном исследовании предпринимается попытка анализа рассказов, объединенных в цикл с символическим концептуальным названием «Ночь» как единый метарассказ, идейно-эстетическое единство со сходными жанрообразующими элементами.
Диссертация дает представление не только о важнейшей части самобытной прозы современной писательницы, но и выявляет концептуальные черты модификации лирического постмодернизма, в русле которого находится новеллистическое творчество Татьяны Толстой, что поможет в разрешении центральной задачи современной науки о литературе: разрушение стены непонимания между читателями и русским постмодернизмом с помощью изучения и дешифровки постмодернистского художественного кода «другой прозы», раскрытия своеобразия философии и эстетики новейшего русского искусства, в виде самого яркого его проявления — художественной прозы.
Научной новизной обусловлена и сущность гипотезы, выдвигаемой в настоящем диссертационном исследовании: цикл рассказов Татьяны Толстой «Ночь» скрепляется в метарассказ единой глобальной проблемой философско-этического плана «разрыв мечты и действительности», идущей от цикла Н. В. Гоголя «Петербургские повести» и имеющей глубокую традицию во всей последующей русской литературе.
Теоретико-методологической базой исследования являются труды теоретиков постмодернизма: И. П. Ильина, М. Н. Липовецкого, И. С. Скоропановой, О. Н. Николаевой и других. Кроме того, в работе осмыслен пласт современных литературно-критических изысканий таких авторов, как Т. Вайзер, А. Генис, И. Грекова, Н. Ефимова, А. Жолковский, Н. Иванова, В. Курицын, Н. Медведева, И. Шпаковский и др.
Диссертация является одной из попыток утверждения нового вектора исследований кафедры русской филологии Тамбовского государственного технического университета, связанного с изучением современной русской постмодернистской литературой.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что она способствует более глубокому пониманию эстетических процессов, происходящих в современной русской постмодернистской литературе в области такой модификации, как лирико-философский постмодернизм.
Анализ мифопоэтической структуры, интертекстуальной составляющей, теоретических аспектов проблемы повествования и выражения авторского повествования и выражения авторского сознания, воплощенных в конкретные художественные тексты, позволяют уточнить некоторые черты эстетики русского постмодернизма.
Практическое значение исследования связано с возможностью использования его результатов при разработке способов прочтения постмодернистского текста в курсе лекций по истории русской литературы XX века, при чтении спецкурсов по проблемам современной литературы на филологических факультетах, на факультативах школ с гуманитарным профилем.
Апробация исследования осуществлялась в рамках учебно-методических семинаров кафедры русской филологии Тамбовского государственного технического университета. Проблемы, затронутые в диссертации, обсуждались на Второй Всероссийской научной конференции в Липецком государственном педагогическом университете «Русская литература и философия: постижение человека» в 2003 годуна Международной научной конференции в Горловском пединституте (Украина) в 2003 годуна Международной конференции в Тольяттинском госуниверситете в 2004 году, а также на IX научной конференции Тамбовского государственного технического университета в 2004 году.
Основные положения работы отражены в трех публикациях.
Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из двух глав, введения, заключения и списка использованной литературы, состоящего из 122 наименований.
Заключение
.
В результате предпринятого исследования можно сделать следующие выводы.
В сборнике Татьяны Толстой «Ночь» выделяются рассказы «петербургские (тогда)» и «московские (сейчас)». Авторская циклизация учитывает не только место действия и «хронотоп» создания произведений, но прежде всего проблемно-тематическое единство. Рассказы «петербургские» («Соня», «Любишь не любишь», «На золотом крыльце сидели», «Свидание с птицей», «Вышел месяц из тумана», «Самая любимая», «Петере», «Река Оккервиль», «Йорик») содержат антиномию реальности и мечты. Их объединяет общий тип героя — маленького человека, «чудика», с тонкой душевной организацией и богатым внутренним миром, не умеющего приспособиться к дисгармоничному, абсурдному внешнему миру.
В петербургском цикле доминирует метафорический образ детства как райского сада, который «теряется» человеком по мере его взросления.
Московские" рассказы сборника «Ночь» («Милая Шура», «Факир», «Охота на мамонта», «Спи спокойно, сынок», «Круг», «Поэт и муза», «Огонь и пыль», «Пламень небесный», «Ночь») отмечаются преобладанием иного типа героя: человека, полностью утерявшего связь с райским садом детства, поэтому совершающего бесплодные попытки осуществить мечту в хронотопе «серой обыденности».
Сквозная антиномия «свет-тьма» («день» — «ночь») проходит через все рассказы московского цикла, в которых принцип контраста заложен на уровнях сюжетосложения, образно-тематическом, мотивном, стилевом, семантическом.
Циклизация «Москва — Петербург» обнаруживается в сборнике «Ночь» не только в художественном плане, но и в социально-философском, этнографическом, историко-философском, нравственно-психологическом, пафосном.
Заголовок сборника подчеркивает суть художественной философии авторского замысла, определяет его центральную идею, ориентированную на понимание добра и зла в современном мире: дисгармония мира обусловлена разладом между высоким предназначением человека и невозможностью воплотить его в жизнь, правильно определить и постичь смысл бытия. Одноименный рассказ «Ночь» маркирует и расшифровывает смысл названия всего цикла. Искаженное сознание больного мальчика в столкновении с злобным миром постигает его суть: люди пребывают в «тьме безлюбия», в «ночи безблагодатности», потому что разучились любить и понимать друг друга.
Проблема разрыва между духовными устремлениями человека и абсурдным миром решается во всех произведениях цикла как возможность достижения относительной гармонии только в уходе от грубой стихии жизни в область мечты. Воплощение проблемно-тематического комплекса сборника «Ночь» происходит с помощью библейской символики, где сквозной символ райского сада служит знаком духовной гармонии, возможной только в детском состоянии души. Полюсная символика «свет-тьма» в различных вариантах (жизнь-смерть, сиюминутное-вечное, доброе-злое, духовное-материальное) пронизывает рассказы сборника «Ночь». На ее контрасте зиждется сюжет, система образов, мотивная и поэтическая структуры. Рассказы «Милая Шура», «Круг», «Огонь и пыль», «Ночь», «Пламень небесный» воплощают авторскую идею дисгармонии мира через антиномические концепты «свет любви — тьма равнодушия».
В русле постмодернистской игровой поэтики (эстетическая игра семантикой слова, гротеск, стирание границ между фактами жизни и вымыслом, интертекстуальность, метафоризация стиля) Татьяна Толстая решает проблему абсурдизации бытия. Мотив игры используется как средство раскрытия образов на тематическом, композиционном, лексическом, метафорическом и психологическом уровнях. Писательница переносит игровые принципы в мир взрослых, где игра заменяет яркие душевные переживания, о которых мечтают герои в обыденной жизни («На золотом крыльце сидели», «Факир», «Охота на мамонта», «Соня», «Сомнамбула в тумане»).
В сборнике «Ночь» совмещаются два противоположных модуса авторского повествования: дистанцированность от изображаемого мира совмещается с полным «вживанием» в него. Изображая «маленького человека», человека толпы, автор обращается к философским проблемам бытия, к предопределенности человеческой судьбы, к драматизму жизни и смерти. Каждый рассказ посвящен жизни героя от его рождения и до земного конца, в которой ярко запечатлена внутренняя эволюция персонажа или его деградация, душевная борьба, проходящая через сознание и подсознание. Часто повествователь использует форму личного повествования, происходит открытое включение авторского голоса в текст или слияние его с голосами персонажей. Формы авторской оценки различны, но преобладает иронический подтекст.
Беспощадное авторское видение и понимание абсурда мира соединяется с верой в непреходящие ценности: в любовь и милосердие.
Татьяна Толстая демонстрирует в рассказах неиссякаемую прелесть и ценность «ужасно глупой» жизни. В этом ей помогает пушкинский интертекст. Слово и образ Пушкина становится знаком, гипертекстом всей русской культуры, сквозь который можно осознать до самых глубин сущность национальной картины мира.
Тема памяти, определяющая поэтико-философскую систему рассказов сборника «Ночь», выражается с помощью широкого спектра средств интертекстуальности. Доминантой образной аллюзивной системы становятся диалог с мировой литературой (Шекспир, Данте, Гете, Пушкин, Набоков, Пастернак и т. д.). Автор рассказов растворяет картину своего художественного мира в аллюзиях фольклора и литературы, выявляя двойственный характер бытия.
Время и пространство в произведениях сборника «Ночь» выполняют самые разнообразные функции, преобладающие среди них символическая и мифопоэтическая. Хронотопы героев Татьяны Толстой всегда связаны с их психологическим состоянием и обладают относительностью. Конкретное линейно-хронологическое время совмещается с циклической художественной темпоральностью и имеет символический статус.
Метафоричность и «роскошная образность» — главные приметы неповторимого стиля писательницы. Метафора у Т. Толстой или разворачивается в целые картины, или, наоборот, сворачивается, «редуцируется», рождаются из ассоциаций.
Заменяя строго объективное авторское повествование фразами с субъективными и эмоционально маркированными речевыми фигурами, автор сборника «Ночь» придает прозе сквозную лирическую метафорическую окрашенность. Огромное значение в плане структурно-композиционном имеют многочисленные детали-намеки, которые выступают как средство выражения подтекста.
Таким образом, сборник Татьяны Толстой «Ночь» представляет собой циклическое образование, объединенное сквозной философско-нравственной проблематикой, воплощаемой целостной системой поэтических средств и ярко отражающей оригинальную и значимую художественную картину мира.
Список литературы
- Толстая, Т.Н. Ночь: рассказы / Татьяна Толстая. М.: Подкова, 2002. -352 с.
- Толстая, Т.Н. День / Татьяна Толстая. М.: Подкова, 2002. — 367 с.
- Толстая, Н.Н., Толстая, Т.Н. Двое / Татьяна Толстая. М.: Подкова, 2002. -384 с.
- Толстая, Т.Н. Круг: рассказы / Татьяна Толстая. М.: Подкова, 2003. — 346 с.
- Толстая, Т.Н. Кысь: роман / Татьяна Толстая. М.: Эксмо, 2003. — 320 с.
- Толстая, Т.Н. Не кысь / Татьяна Толстая. М.: изд-во Эксмо, 2004. — 608 с.
- Толстая, Т.Н. Белые стены: рассказы / Татьяна Толстая. — М.: изд-во Эксмо, 2004. 587 с.
- Толстая, Т.Н. Это было так легко не учиться (Интервью с Т. Толстой) / Татьяна Толстая // Неделя, 1988. — № 21. — С. 10−11.
- Толстая, Т.Н. Народ хочет денег, но стесняется (Интервью с Т. Толстой) / Татьяна Толстая // Книжное обозрение, 2002. № 5. — С. 3.1.
- Агеносов, В.В. Феномен жизни и феномен времени. Толстая Т. Отплывающий остров / В. В. Агеносов // Московские новости, 1994. № 10.
- Александрова, А. На исходе реальности / А. Александрова // Грани, 1993. -№ 168.-С. 302−317.
- Баландина, Н.В. Молчит ли автор о сущности бытия? (Заметки о рассказе Толстой «Милая Шура») / Н. В. Баландина // Рус. речь, 2002. № 3. — С. 3541.
- Бахнов, Л. Человек со стороны / Л. Бахнов // Знамя, 1988. С. 226−229.
- Белова, Е. А.С. Пушкин в художественной рецепции Т. Толстой / Е. Белова // Пушкинский сборник: К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина.-Вильнюс, 1999.-С. 68−177.
- Беньяш, С. Дунин сарафан / С. Беньяш // Дружба народов, 2001. № 2. -С. 214−216.
- Ю.Берштейн, Е. Рецензия / Е. Берштейн // Новая русская книга. СПб., 2001. — № 2. — С. 54−56. Рецензия на книгу: Толстая Т. День: Личное, — М., 2001. -501 с.
- И.Булин, Е. Откройте книги молодых! / Е. Булин // «Молодая гвардия». -1989. -№ 3.- С. 237−248.
- Вайль, П., Генис, А. Городок в табакерке: Проза Т. Толстой / П. Вайль, А. Генис // Звезда. 1990. — № 8. — С. 147−150.
- Вайль, П., Генис, А. Принцип матрешки / П. Вайль, А. Генис // Новый мир.-1989.-№ 10.-С. 250.
- Василевский, А. Ночи холодны / А. Василевский //Дружба народов. -1988.-№ 7. С. 256−258.
- Веселая, Е. Кого спасать кошку или Рембранта? Беседа с Т. Толстой / Е. Веселая // Московские новости, 1991. — № 30. — 28 июля. — С. 14.
- Веселая, Е. Нежная женщина с книгой в руке / Е. Веселая // Московские новости, 1995. 10−17 сентября.
- Владимов, Г. Собр. соч. в 4-х т. Т.4 / Г. Владимов. М., 1998. — С. 440−441.
- Россия, 1987.-27 февраля.-С. 11.
- Гаврилов, А. Народ хочет денег, но стесняется. Беседа с автором о ее романе / А. Гаврилов // Книжное обозрение, 2002. С. 3.
- Гессен, Е. Интервью в жанре страданий: (По поводу интервью Т. Толстой «В большевики бы не пошла.» в журнале «Столица», 1991, № 33) / Е. Гессен // Столица, 1992. № 3.
- Грекова, И. Расточительность таланта / И. Грекова // Новый мир, 1988. -№ 1. С. 252−256.
- Давыдова, Т. Т. Роман Т. Толстой «Кысь»: проблемы, образы героев, жанр, повествование / Т. Т. Давыдова // Русская словесность. 2002. № 6. С. 2530.
- Дедков, И. Метаморфозы маленького человека, или Трагедия и фарс обыденности / И. Дедков // Последний этаж: Сб. современной прозы, 1989. -С. 417−429.
- Десятов, В. Клон Пушкина, или Русский человек через двести лет: (По страницам современной прозы) / В. Десятов // Звезда, СПб., 2000. № 2. -С. 198−202.
- Десятов, В.В. Набоков и русские постмодернисты / В. В. Десятов //
- Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2004. 359 с.
- Елисеев, Н. Кысь, Брысь, Рысь, Русь, Кис, Кыш! / Н. Елисеев // http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/l 1 .html
- Ерофеев, В. Русские цветы зла / В. Ерофеев // В лабиринте проклятых вопросов.-М., 1990.-321 с.
- Ефимова, Н. Мотив игры в произведениях Л. Петрушевской и Т. Толстой / Нина Ефимова // Вестник Московского университета. Сер.9. Филология.- 1998.-№ 3.-С. 60−71.
- Золотоносов, М. Татьянин день / М. Золотоносов // Молодые о молодых. — 1988. С. 105−118.
- Иванова, Н. Неопалимый голубок: «Пошлость» как эстетический феномен / Н. Иванова // Знамя. 1991. — № 8. — С. 80−82.
- Иванова, Н. И птицу паулин изрубил на каклеты / Н. Иванова // Знамя, 2001.-№ 3.-С. 219−221.
- Из беседы с Т. Толстой // Крестьянка. 1987. — № 4. — С. 32.
- Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И. П. Ильин. М.: Интрада, 1996. — 329 с.
- Казарина, Т.В. Татьяна Толстая. Мудрость глупцов, или лечение сказкой / Т. В. Казарина // Современная отечественная проза: Учебное пособие. -Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 2000. С. 167−176.
- Компаньон, Антуан. Демон теории / Антуан Компаньон. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. — 336 с.
- Кронгауз, К. Имидж ничто. О встрече Т. Толстой с журналистами / К. Кронгауз // Московские новости, 2001. № 34. — С. 19−20.
- Кузичева, А. Король, королевич, сапожник, портной. Кто ты такой? / А. Кузичева // Книжное обозрение, 1988. № 29. — 15 июля. — С. 6.
- Курицын, В. Четверо из поколения дворников и сторожей / В. Курицын // Урал, 1990. № 5. — С. 170−182.
- Кучина, О. Как написать человека / Ольга Кучина // Комсомольская правда. 1987. — 15 августа.
- Малыгин, А. Это было так легко не учиться: Беседа с Т. Толстой / А. Малыгин//Неделя, 1988. — № 21. — С. 10−11.
- Маньковская, Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма) / Н. Б. Маньковская. М.: ИФРАН, 1995. — 393 с.
- Мартыненко, О. Чтение 200 лет спустя после взрыва. Беседа корреспондента с Т. Толстой автором романа «Кысь» / О. Мартыненко // Московские новости, 2000. № 36. — С. 2−3.
- Мелерович, A.M., Фокина, М.А. К вопросу об отнологической сущности и функциях интертекста в художественном дискурсе / A.M. Мелерович, М. А. Фокина // Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе. Магнитогорск. — 2003. — С. 58−59.
- Михайлов, А. Рассказы Т. Толстой / А. Михайлов // Т. Толстая. На золотом крыльце сидели. М.: Молодая гвардия. — 1987. — С. 189−190.
- Насрутдинова, Л.Х. Пушкин проза «нового реализма» / Л. Х. Насрутдинова // Ученые записки Казанского университета. — 1998. — Т. 136.-С. 85−86.
- Насрутдинова, Л.Х. «Новый реализм» в русской прозе 1980−90-х годов (концепция человека и мира) / Л. Х. Насрутдинова // Автореферат кандидатской диссертации. Казань, 1999.— 21 с.
- Невзглядова, Е. Эта прекрасная жизнь (о рассказах Т. Толстой) / Е. Невзглядова // Аврора. 1986. — № 10. С. 111−120.
- Нефагина, Г. Л. Русская проза второй половины 80-х начала 90-х годов XX века / Г. Л. Нефагина //. — Минск, 1998. — 289 с.
- Ниточкина, А. В большевики бы не пошла. Беседа с Т. Толстой / А. Ниточкина // Столица, 1991. № 33. — С. 38−41.
- Новиков, В. Наедине с вечностью / Вл. Новиков // Толстая Т. Любишь не любишь. — М., 1997. — С. 5−8.81.0ванесян, Е. Творцы распада. На золотом крыльце сидели. / Е. Ованесян // Молодая гвардия, 1992. № 3−4. — С. 249−262.
- Ольшанский, Д. Спасибо нам: «День» эссеистический сборник Татьяны Толстой / Д. Ольшанский // Независимая газета, 2001. № 140. — С. 7.
- Парамонов, Б. Застой как культурная форма (О Т. Толстой) / Б. Парамонов // Звезда, 2000. № 4. — С. 234−238.
- Пелевин, В. Чапаев и пустота / Виктор Пелевин. М.: Вагриус, 1996. — 386 с.
- Песоцкая, С.А. Художественный мир современного писателя и проблема коммуникации «писатель-читатель» (на материале рассказов Т. Толстой) / С. А. Песоцкая // Коммуникативные аспекты языка и культуры. Томск, 2001.-С. 256−261.
- Петухова, Е.Н. Чехов и «другая проза» / Е. Н. Петухова // Чеховские чтения в Ялте: Чехов и XX век. М., 1997. — Вып. 9. — С. 71−80.
- Писаревская, Г. Г. Реализация авторской позиции в современном рассказе о мечте (по произведениям J1. Петрушевской, В. Токаревой, Т. Толстой) / Г. Г. Писаревская. М., 1992. — 24 с.
- Пискунова, С., Пискунов, В. Уроки зазеркалья / С. Пискунова, В. Пискунов // Октябрь. 1988. — № 8. — С. 188−198.
- Полянская, И. Игра / И. Полянская // Предлагаемые обстоятельства. М.: Молодая гвардия, 1988. — С. 7−8.
- Пронина, А.В. Наследство цивилизации / А. В. Пронина // Русская словесность, 2002. № 6. — С. 31−32.
- Прохорова, Т.Г. Пушкинские реминисценции в творчестве Т. Толстой / Т. Г. Прохорова // Ученые записки Казанского университета. — 1998. — Т. 136.-С. 89−96.
- Ремизова, М. Ирония вернейший друг души: (Рецензия на книгу Т. Толстой и Н. Толстой «Сестры», М., 1998) / М. Ремизова // Новый мир, 1999.-№ 4.-С. 193−195.
- Славникова, О. Пушкин с маленькой буквы. / О. Славникова // Новый мир, 2001.-№ 3. С. 177−183.
- Смирнова, Н.А. Механизм интертекстуальности: рассказ Татьяны Толстой «Йорик» сквозь призму шекспировской интертекстемы / Н. А. Смирнова // Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе. — Магнитогорск. Изд-во МаГУ, 2003. С. 449−453.
- Спивак, П. Во сне и наяву / П. Спивак // Октябрь. 1988. — № 2. — С. 201−203.
- Старцева, Н. Сто лет женского одиночества / Н. Старцева // Дон, 1989. -№ 3. С. 158−165.
- Сухих, И.Н. «Смерть героя» в мире Чехова / И. Н. Сухих // Чеховиана: Статьи: Публикации: Эссе. -М., 1990. С. 65−69.
- Тренева, Е. Татьяна Толстая: На телевидении не грех и позлословить / Е. Тренева // Российская газета, 2003. № 172. — С. 21.
- Трофимова, Е. Стилевые реминисценции в русском постмодерне 90-х годов / Е. Трофимова // Общественные науки и современность. 1999. № 4.-С. 28−31.
- Трыкова, О. Отечественная проза последней трети XX века: жанровое взаимодействие с фольклором / О. Трыкова // Автореферат докторской диссертации. М., 1999. — 24 с.
- Фрикке, Я.А. К вопросу о номинационно-синтаксической конверсии в художественном дискурсе (на материале языка прозы Т. Толстой) /Я.А. Фрикке // Вестник Пятигорского лингвистического университета, 2001. -№ 4.-С. 38−41.
- Чернов, А. Утаенный подвиг Натальи Крандиевской / А. Чернов // Крандиевская Н. Грозовой венок: Стихи и поэма. СПб, 1992. — С. 2−20.
- Шафранская, Э. Ф. Роман Т. Толстой «Кысь» глазами учителя и ученика: Мифологическая концепция романа I Э. Ф. Шафранская // Русская словесность. 2002. № 1. С. 36−41.
- Швец, Т.П. Мотив круга в прозе Т. Толстой / Т. П. Швец // Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и постмодернизма.
- Ульяновск, 1998. С. 27−33.
- Юдина, С.В. В потемках Бытия / С. В. Юдина // Приложение к газете «Первое сентября», 2002. № 48. — С. 4.