Политический экстремизм: Этнонациональная регионализация
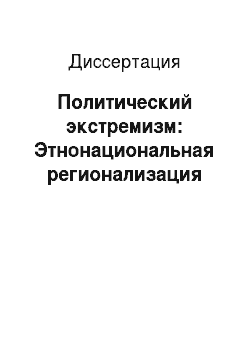
В зависимости от целевой направленности и субъектной деятельности экстремизм представляется его исследователями следующими тремя формами: политической, национальной, религиозной. Политический экстремизм трактуется как насильственные действия, направленные на изменение политического строя или государственной политики. Национальный экстремизм обосновывается как стремление политических субъектов… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Теоретические и методологические основы исследования политического экстремизма
- 1. Сущностные признаки и типология экстремизма
- 2. Политический экстремизм в контексте модернизации современной российской государственности
- Глава 2. Политический экстремизм как форма институционализации регионального этнонационального конфликта (на примере Северного Кавказа)
- 1. Субъекты регионального политического экстремизма: этнокультурные особенности и динамика
- 2. Политические технологии противодействия экстремизму в СевероКавказском регионе
- 3. Чеченский вооруженный сепаратизм: силовые способы обеспечения региональной безопасности
Политический экстремизм: Этнонациональная регионализация (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
исследования. Либерально-демократическое реформирование современной российской государственности, осуществляемое без учета ее национально-культурной самобытности, создало опасную напряженность в социокультурном и политико-правовом пространстве взаимодействия наций и этносов, проживавших столетиями на территории России в мире и согласии.
Принципы федерализма и самоопределения наций, этносов и народностей, проводимые в жизнь формально-правовым путем, начинают уже угрожать территориальной целостности и национальному суверенитету российского государства, а также «задают» конфликтогенность межнациональных отношений, противопоставляя в политическом и социально-экономическом плане титульные и нетитульные (коренные и некоренные) категории населения.
Особую значимость данные процессы приобрели на Северном Кавказе, где рядом веками жили в дружбе и взаимотерпимости десятки этносов и народностей, а ныне споры между некоторыми из них стали решаться вооруженным путем. Террористические акции, похищение мирных жителей, угон скота, автотранспорта стали обычными явлениями на территории Дагестана, Ставропольского края, Ингушетии и других субъектов федерации Южного федерального округа.
Кризис национально-государственной идентичности современного российского общества активизирует этнократическую мобилизационную стратегию в развитии федеративных отношений, институционализирующую экстремистские формы региональной политической субъектности и конфликтогенности. При этом многие региональные элиты в своих политических устремлениях и претензиях разрушают единое политико-правовое поле страны, поощряя местное нормотворчество, противоречащее федеральному законодательствувводя этническое представительство в органах власти и кадровой политике, лоббируя в избирательном процессе интересы одних этносов и их лидеров в ущерб другим и т. д.
Вместе с тем в условиях переходного периода развития современного российского общества к политическому экстремизму начинают относить деятельность по распространению идей, направленных на ликвидацию легального идеологического и политического плюрализма, установление единой государственно-правовой идеологии, отрицание абсолютной ценности прав человека, признание деления людей по имущественному, национальному и религиозному признакам и т. д.1.
Такая деятельность оценивается как экстремистская в силу своей антиконституционной направленности, хотя по многим своим параметрам она соответствует российской национальной политико-правовой традиции (единоличная власть как принцип государственного строениясамодержавие, православие, национальное самосознание и политический менталитет).
Отсюда, таким образом, вытекает исследовательская необходимость установления предметной определенности политического экстремизма, его генезиса и основных форм распространения, а также разработки.
Доклад о целях и средствах противодействия политическому экстремизму в России. М., 1999. С. 10. разноуровневых технологий противодействия экстремисткой деятельности.
Степень научной разработанности проблемы.
В отечественной литературе политический экстремизм еще не стал предметом систематического научного исследования во всех своих измерениях и концептуальных основаниях. Монография Грачева А. С. «Политический экстремизм», изданная в 1986 году, в основном базируется на идеологических интерпретациях марксизма-ленинизма в рамках принципа классовой борьбы с преимущественной ориентацией на анализ западных концепций международного терроризма.
Отдельные аспекты проблемы определения понятия политического экстремизма в плане его соотношения с терроризмом, радикализмом, сепаратизмом, политическими преступлениями затрагиваются в работах Баранова П. П., Вакулы И. М., Витюка В. В., Воронцова С. А., Дементьева И. В., Кабанова П. А., Кожушко Е. П., Ляхова Е. Г., Мальцева В. Н., Манацкова И. В., Мартыненко Б. К., Помазан С. В., Салимова К. А., Тиводара А. И., Хлобустова О. М., Эфирова С. А. и других.
В зарубежной литературе общеметодологические проблемы терроризма и экстремизма обсуждаются в работах Белла Дж., Дженкинса Б., Добсона Ч., Карлтона Д., Лакера У., Пейна Р., Шмидта А., Уилкинсона П. и других.
Этнонациональная, этноконфессиональная и конфликтологическая обусловленность политического экстремизма отмечается в трудах Абдулатипова Р. Г., Акаева В. Х., Денисовой Г. С., Дегтярева А. А., Добаева И. П., Жданова Ю. А., Запрудского Ю. Г., Несмеянова Е. Е.,.
Предвечного Г. П., Рябцева В. Н., Степанова Е. И., Хоперской JI. JL, Черноуса В. В., Шпака В.Ю.
Особое место занимают работы, касающиеся управления силами и средствами органов внутренних дел по противодействию политическому и религиозному экстремизму, подготовленные Бондаревским И. И., Козловым В. Б., Майдыковым А. Ф., Самойловым Г. В., Тагаевым Б. Л. и другими.
Кроме того, весомый вклад в осмысление политического экстремизма вносят научные дискуссии, организованные в рамках всероссийских научно-теоретических и научно-практических конференций «Политический экстремизм в Российской Федерации и конституционные меры борьбы с ним» (Москва, 1998), «Актуальные проблемы борьбы с терроризмом в Южном регионе России» (Ростов-на-Дону, 2000), «Круглого стола» по теме: «Государство. Этносы. Сепаратизм» (Москва, 1999) и других.
Вместе с тем проблема политического экстремизма еще не получила адекватного теоретического истолкования в политико-правовом, этнонациональном и социокультурном плане, а также в контексте конфликтологического моделирования и профилактики незаконного политического насилия, отличного от террористических методов достижения политических целей.
Об этом свидетельствует принятие правительством России федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе (2001;2005 годы), в рамках которой в итоге необходимо разработать и внедрить антиэкстремистские поведенческие установки во все слои реформируемого российского общества.
Объектом исследования выступает феномен политического экстремизма в единстве его субстанциальных и структурно-функциональных оснований, а предметом исследования является этнонациональная институционализация экстремизма с учетом его региональных особенностей (на примере Северного Кавказа).
Целью данного диссертационного исследования является теоретико-методологический и политологический анализ политического экстремизма в рамках его конфликтной природы и этнокультурной регионализации современного российского политического процесса.
Реализация поставленной цели достигается решением следующих задач:
— проанализировать основные понятийные трактовки экстремизма и дать рабочее определение политическому экстремизму;
— выявить основные экстремистские тенденции в контексте модернизации современного российского общества;
— обозначить этнокультурные особенности и динамику субъектов регионального политического экстремизмаобосновать этноконфликтогенную природу регионального политического экстремизма и технологию противодействия ее проявлениямдать экспертную политологическую оценку чеченскому вооруженному сепаратизму как крайней форме экстремистской деятельности, угрожающей национальной безопасности современной России и самобытному существованию чеченского этноса.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
— определены сущностные признаки экстремизма как политического феномена;
— выявлены основные экстремистские тенденции в контексте либерально-демократической трансформации современной российской государственности;
— обоснована интерпретация политического экстремизма как формы институционализации регионального этнонационального конфликтапредставлены политические технологии противодействия экстремистской деятельности в Северо-Кавказском регионе;
— дана характеристика чеченскому вооруженному сепаратизму как крайнему типу этнополитического регионального экстремизма.
Основные положения выносимые на защиту:
1. Политический экстремизм представляет собой вид протестной деятельности политических субъектов (партий, организаций, движений, этнонациональных группировок, региональных элит и их лидеров), осуществляемой с целью достижения публично-властных полномочий нелегитимными и деструктивными способами, включая насильственные действия и меры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Политический экстремизм как предмет политического анализа обнаруживает свои сущностные признаки в рамках деятельностного, конфликтологического и субъектного подходов, институируемые как формы экстремистской деятельности в ее типологических основаниях (религиозном, этнонациональном, политико-правовом).
В научной литературе системообразующие признаки экстремизма, как правило, выводятся с учетом двух критериев: идеологического (приверженность крайним взглядам и идейным ориентациям) и юридического (противоправные, антиконституционные действия, включая и насильственные). В первом случае экстремизм определяется как идеология, предусматривающая ее принудительное распространение, нетерпимость по отношению к оппонентам и инакомыслящим. Во второмкак антигосударственная деятельность, нарушающая установленный правовой демократический порядок.
В зависимости от целевой направленности и субъектной деятельности экстремизм представляется его исследователями следующими тремя формами: политической, национальной, религиозной. Политический экстремизм трактуется как насильственные действия, направленные на изменение политического строя или государственной политики. Национальный экстремизм обосновывается как стремление политических субъектов, общественных организаций и отдельных граждан утверждать любыми средствами доминирование интересов собственной нации или этноса в ущерб межнациональному единству, вплоть до нарушения прав и свобод человека и гражданина по признаку национальной принадлежности. Религиозный экстремизм интерпретируется как нетерпимость к другим конфессиям или утверждение преимуществ представителей одной из конфессий.
Авторское понимание экстремизма базируется на системной методологии, предполагающей его понятийное оформление с учетом единства трех составляющих: предметного конфликтогенного основания, субъектной деятельности и технологической целеориентированной властной иерархизации. Это означает, что экстремизм может проявляться в различных сферах деятельности (экономика, политика, право), отношениях (межнациональные, семейные, производственные), способах отстаивания интересов, прав, убеждений, а также методах достижения преимущества или доминирования в иерархических сообществах или субкультурах (тоталитарных, преступных, модернистских и т. д.).
Отсюда вытекает дефиниция политического экстремизма как определенного вида нелегитимной протестной деятельности политических субъектов по легализации своих целей, связанных с публичной властью, достигаемых любыми средствами, включая насильственные.
При этом проводится четкое различение политического экстремизма, политического терроризма, политической преступности, радикализма и сепаратизма. Политический терроризм сходен с экстремизмом по целям, конфликтологической природе и незаконному насилию, отличаясь от него действиями, направленными на физическое устранение политических противников (массовые жертвы, убийства) и вооруженный захват власти.
Политическая преступность включает в себя политический терроризм как одну из экстремистских форм ее проявления вместе с тоталитарной, бунтовской, международной политической преступностью, обозначенных в литературе понятием криминального политического экстремизма69.
Радикализм, по нашему мнению, зачастую употребляется как синоним политического экстремизма для характеристики политических интересов отдельных субъектов протестной и оппозиционной деятельности. Однако их различие очевидно и касается демократических и конституционно-нормативных средств разрешения этнополитических конфликтов. Радикализм предполагает изменение политической системы легитимно-нормативным путем.
И, наконец, сепаратизм как вид политического экстремизма представляет собой наиболее радикальную форму этнонационализма, разрушающую единую государственность требованием суверенной этнократической и государственно оформленной территориальной целостности, базирующемся на принципе самоопределения.
В целом, политический экстремизм имеет разные формы и механизмы институционализации властных притязаний нелегальных и нелегитимных субъектов политики.
Монетаристская парадигма модернизации российской государственности вызвала, по нашему мнению, системный кризис во всех областях жизнедеятельности российского народа, что стало причиной формирования различных экстремистких тенденций, разрушающих единое политико-правовое пространство. Радикализм реформаторов демократического толка, направленный на уничтожение советской государственности и социалистической системы, обернулся процессами.
69 Кабанов П. В. Политическая преступность: сущность, причины, предупреждение. Нижнекамск, 2001. С. 24−27. сепаратизма, этнонационального самоопределения и суверенизации полиэтнических территорий.
В диссертации обосновывается деструктивную значимость принципов федерализма и этнонационального самоопределения для современной российской государственности в том случае, когда они инициируют различные формы экстремистской деятельности в ходе их неадекватного политико-правового применения. Во-первых, возникает так называемый «модернизационный синдром» политического развития, объединяющий в себе кризисы идентичности, легитимности, участия, проникновения и распределения, которые требуют от государственно-управленческих и властных структур сознательного изменения политических институтов, обеспечивающих своевременное разрешен^ этнонациональной конфликтности, неизбежной в такой ситуации.
Для российской государственности ее современный федерализм должен был стать первоначальным институциональным механизмом регулирования конфликтов между федеральным центром и регионами, устанавливающим динамическое равновесие между общегражданской и этнической идентичностью.
Вместе с тем, принцип федерализма способствовал «параду суверенитетов», поскольку в Конституции Российской Федерации заложено противоречие национального (народного) и этнического начал суверенитета, которое продуцирует сепаратистские процессы, когда ряд республик настаивает на этнической основе собственной государственности.
Во-вторых, принцип самоопределения народов (ст. 5 Конституции РФ) в рамках этноцентризма трактуется как преимущественное право титульного этноса на национальный, языковой и культурный суверенитет, полностью отрицающий права и свободы других граждан демократического правового государства при формальном их провозглашении.
Этнические властные структуры, оправдывая нарушение прав человека необходимостью защиты суверенности прав наций, превращают самоопределение в политически взрывоопасный институт, претендуя на доведение его до крайнего предела, предусматривающего право на территориальное отделение.
Другими словами, принцип самоопределения в таком контексте становится источником политического сепаратизма, оправдывающего насильственные действия отдельного этноса по созданию собственной государственности в условиях неразвитого гражданского общества.
В-третьих, разрушается базовая структура политических институтов регионального взаимодействия как постоянного поиска согласования локальных и общих интересов. Заслуживает внимания гипотеза о том, что в ее состав входят следующие элементы: административно-территориальное деление государстваиерархический статус регионоввластная иерархическая вертикаль органов регионального управления с назначаемостью руководителей и выборностью самих органов управлениякруговая порука (единогласие) как форма ответственности территориальных общностейжалобы населения как регулятор деятельности региональных властно-управленческих органов70.
70 Кирдина С. Г. Политические институты регионального взаимодействия: пределы трансформации // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 42.
Данные институциональные формы сохраняют свое содержание при любых модернизационных проектах, обеспечивая производство и воспроизводство такой региональной политической элиты, которая будет свободна от экстремистских ориентаций любой направленности.
Вместе с тем, отказ от принципов федерализма и самоопределения народов в вышеуказанной трактовке как основных источников экстремизма не будет оправдан в целом, поскольку возможна иная интерпретация, более значимая для модернизационных проектов. Федерализм по своей природе является не этническим, а общегражданским институтом, утверждающим народный, а не этнический суверенитет.
В диссертации выявлены этнокультурные особенности субъектов регионального политического экстремизма, обоснована его этноконфликтогенная природа и определены технологические способы разрешения этнополитических конфликтов. Кроме того чеченский вооруженный сепаратизм представлен как крайняя форма регионального политического экстремизма, угрожающая национальной безопасности России.
Общая динамика субъектов экстремизма и их социокультурные особенности определяются разными факторами, под воздействием которых меняются специфические характеристики носителей экстремистских свойств, расширяется или сужается поле их политического влиянияпроисходит перерождение в политические институты, лишенные экстремистской направленностикорректируются объекты воздействия, налаживаются или прекращаются контакты с организованной преступностью и т. п.
Субъекты политического экстремизма в рамках современного российского федерализма имеют разную степень региональной специфичности и социокультурной обусловленности. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в контексте этнонациональной конфликтогенности характеризуется как основная причина экстремистской деятельности и сепаратизма в данном регионе. При этом отмечается следующая полифакторная детерминированность: наличие нескольких «центров политического влияния (национальных, региональных, межнациональных партий, движений, общественно-политических организаций взаимоисключающих властных ориентаций) — полиэтничность (свыше сорока коренных народов и этнических групп), поликонфессиональность (мировые религии и местные верования), демографические и миграционные процессы, территориальные споры репрессированных народов, чеченский вооруженный сепаратизм, наличие разноуровневых статусов субъектов Федерации (административно-территориальный и национально-государственный и т. д., требующая консенсусных форм разрешения возникающих этнонациональных и этнополитических конфликтов.
Дальнейшее исследование политического экстремизма должно выйти за рамки его этнонациональной конфликтогенной природы и представить теоретические модельные варианты консенсусной методологии нейтрализации всех его крайних форм.
Список литературы
- Абдулатипов Р.Г. Природа и парадоксы национального «Я». М., 1991.
- Абдулатипов Р.Г. Россия на пороге XXI века: состояние и перспективы федеративного устройства. М., 1996.
- Абдулатипов Р.Г. Федерация России и взаимосвязь региональной и национальной политики // Этнополитическое исследование. 1995.№ 1.
- Авксентьев А.В. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1973.
- Авксентьев А.В., Авкесеньтьев В. А. Этнические проблемы современности и культура межнационального общения. Ставрополь, 1993.
- Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. В 2-х частях. Ставрополь, 1996.
- Авраамова Е.М. Формирование новой российской макроидентичности // Общественные науки и современность. 1998. № 4.
- Акаев В.Х. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. М., 1999.
- Актуальные проблемы борьбы с терроризмом в Южном регионе России. Ростов-на-Дону, 2000.
- Александров И. Исламский фактор в подрывной стратегии. М., 1986.
- Антонян О.А. Терроризм. Криминологические и уголовно-правовые исследования. М., 1998.
- Артемов В.М. Социально-структурная ориентация правоохранительных органов // Социологические исследования. 2000. № 1.
- Арутюнов С.А. Этногенез, его формы и закономерности // Этнополитический вестник. 1993. № 1.
- Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. Махачкала, 1999.
- Ачкасов В.А., Елисеев С. М., Ланцов С. А. Легитимация власти в постсоветском российском обществе. М., 1996.
- Ашин Т.К. Формы рекрутирования политических элит // Общественные науки и современность. 1998. № 3.
- Бабаков В.Г., Матюнина Е. В., Семенов В. М. Межнациональные противоречия и конфликты в России // Социально-политический журнал. 1992. № 7.
- Барганджия Б.А. Российский федерализм: разграничение предметов ведения и полномочий // Социально-политический журнал. 1996. № 4.
- Барсамов В.А. Национальная ' политика в российских республиках: эволюция последних лет и перспективы // Общественные науки и современность. 1994. № 6.
- Барсамов В.А. Этнонациональная политика в борьбе за власть: стратегия и тактика в период общественной смуты. М., 1997.
- Батаев Т.В. Этнополитическая ситуация в постсоветской России // Россия и современный мир. 2000. № 1.
- Боров А.Х., Дзамихов К. Ф. Россия и Северный Кавказ (Современный политический опыт в историческом контексте). Политические исследования. М., 1999.
- Бунич И.Л. Хроника чеченской бойни и шесть дней в Буденновске. СПб., 1995.
- Веденеев Ю.А. Теория и практика переходных процессов в развитии российской государственности // Государство и право. 1995. № 1.
- Видовин В.И. Этнополитика и формирование новой государственности в России // Кентавр. 1994. № 1−2.
- Витюк В.В., Эфиров С. А. «Левый» терроризм на Западе. История и современность. М., 1987.
- Вьюницкий В. Кавказский синдром // Диалог. 1992. № 15−18.
- Гаман О.В. Региональные элиты современной России как субъекты политического процесса // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 1995. № 4.
- Гасанов Н.Н., Зачесов К. Я., Казимов А. К. Межнациональное согласие в Дагестане: проблемы и перспективы // Политические исследования. 1993.№ 3.
- Глухова А.В. Типология политических конфликтов. Воронеж, 1997.
- Головачев Б.В., Косова Л. Б., Хахулина Л. А. Формирование правящей элиты в России // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1996. № 1.
- Государство, этносы, сепаратизм и проблемы прав человека. М., 2000.
- Грачев А.С. Политический терроризм: корни проблемы. М., 1982.
- Грачев А.С. Политический экстремизм. М., 1986.
- Грехнев B.C. Феномен политического терроризма // Философия и общество. 1997. № 2.
- Губогло М.Н. В лабиринтах этнической мобилизации // Отечественная история. 2000. № 3.
- Гурьянов А. Трагедия «Чеченской войны» // Диалог. 1996. № 5−6.
- Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М., 2001.
- Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения // Политические исследования. 1996. № 3.
- Дилигенский Г. Г. Институциональные структуры и общественная трансформация // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 1.
- Дилигенский Г. Г. Политическая институционализация в России // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 7−8.
- Добаев И.П. Геополитика исламского мира на Кавказе // Кавказ: проблемы геополитики и национально-государственные интересы России. Ростов-на-Дону, 1998.
- Добаев И.П. Исламский радикализм в международной политике (на примере регионов Ближнего, Среднего Востока и Северного Кавказа). Ростов-на-Дону, 2000.
- Дробижева Л.М. Этнические конфликты // Политические исследования. 1994. № 2.
- Дука А.В. Трансформация местных элит: институционализация общественных движений: от протеста к участию // Мир России. 1995. № 2.
- Елемесов Р. Исламский фактор // Общественные науки и современность. 1992. № 4.
- Залиханова Л.И. Проявление национального и религиозного экстремизма в России // Северо-Кавказский юридический вестник. 1999. № 4.
- Зантрия Д. Дагестан: станет ли он новой горячей точкой? // Эксперт. 1998. № 2.
- Запад или человечество? Историософия балканского конфликта. СПб., 2000.
- Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. Ростов-на-Дону, 1992.
- Заурбеков Г. В. Сепаратисты в Чечне. М., 2000.
- Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1996.
- Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: Курс лекций. Ростов-на-Дону, 1998.
- Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. Ростов-на-Дону, 1996.
- Ислам и политика на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 2001.
- Ислам и этнополитика на Кавказе. Махачкала, 1999.
- Кабанов П.А. Политическая преступность: сущность, причины, предупреждение: Автореф. дисс. .докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2001.
- Кавказ: проблемы культурно-цивилизационного развития. Ростов-на-Дону, 2000.
- Кавказский регион: проблемы культурного развития и взаимодействия. Ростов-на-Дону, 2000.
- Каспэ С.И. Демократические шансы и этнополитические риски в современной России // Политические исследования. 1999. № 2.
- Кашироков З.К. Северный Кавказ в контексте Российского федерализма: политико-правовой аспект // Северо-Кавказский юридический вестник. 1998. № 1.
- Кива А.В. После социализма: некоторые закономерности переходного периода // Общественные науки и современность. 1992. № 4.
- Колобов О.А., Макарычев А. С. Российский регионализм в свете зарубежного опыта // Социологические исследования. 1999. № 2.
- Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М., 1990.
- Коротков В.Е. Чеченская модель этнополитических процессов // Общественные науки и современность. 1994. № 3.
- Косова Л.Б., Кларк Т. Субъективные оценки экономического благополучия и поддержка реформ // Социологические исследования. 1998. № 5.
- Котанджян Г. С. Этнополитология консенсуса-конфликта: Цивилизационные проблемы теории и практики. М., 1992.
- Крыштановская О.И. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // Общественные науки и современность. 1995. № 1.
- Крэстева А. Власть и элита в обществе без гражданского общества // Социологические исследования. 1996. № 4.
- Куколев И.В. Трансформация политических элит в России // Общественные науки и современность. 1997. № 4.
- Кцоева Г. У. Кавказский суперэтнос // Эхо Кавказа. 1994. № 2.
- Лапкин В.В., Пантин В. И. Политические ориентации и политические институты в современной России- проблемы коэволюции // Политические исследования. 1999. № 6.
- Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, технологии. М., 1997.
- Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998.
- Лэйн Д. Перемены в России: роль политической элиты // Социологические исследования. 1996. № 4.
- Ляхов Е.Г., Попов А. В. Терроризм: национальный, региональный, и международный контроль. М., Ростов-на-Дону, 1999.
- Макаренко В.П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат // Социологические исследования. 1996. № 11.
- Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности. СПб., 1996.
- Манацков И.В. Исламский фундаментализм как один из факторов этнической конфликтологии на Северном Кавказе // Серийные убийства и социальная агрессия. Ростов-на-Дону, 1998.
- Манацков И.В. Особенности российского политического терроризма: факторы, способствующие развитию (на материалах Северного Кавказа). Краснодар, 1997.
- Манацков И.В. Политический терроризм: Автореф. дисс. .канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 1998.
- Манацков И.В. Террор как политика криминального режима в Чечне // Проблемы борьбы с терроризмом в России на современном этапе. Владимир, 1996.
- Марченко Г. В. Региональные проблемы становления новой российской государственности. М., 1996.
- Массовое сознание россиян в период общественной трансформации // Мир России. 1996. № 2.
- Мацнев А.А. Регион и формирование федеративных отношений в России // Социально-политический журнал. 1998. № 1.
- Милованов Ю.Е. «Анклавизация» территорий СевероКавказского региона: содержание процесса и проблемы исследования // Насилие в современном мире. Ростов-на-Дону, 1999.
- Мнацаканян М.О. Об интегральной теории национально-этнической общности // Социологические исследования. 1999. № 9.
- Модернизация в России и конфликт ценностей. М., 1994.
- Мускаева А.И. Об обычаях и законах горцев. Нальчик, 1986.
- Мушакодзи К. Политическая и культурная подоплека конфликтов и глобальное управление // Политические исследования. 1991. № 3.
- На путях политической трансформации. М., 1997.
- Наука о Кавказе: проблемы и перспективы. Ростов-на-Дону, 2000.
- Национально-государственное строительство Российской Федерации: Северный Кавказ (1917−1941). Майкоп, 1995.
- Нухаев Х.-А. Ведено или Вашингтон? М., 2001.
- О целях и средствах противодействия политическому экстремизму в России. М., 1998.
- Основы национальных и федеративных отношений. М., 2001.
- Павлинов А. Чем незаконное вооруженное формирование отличается от банды // Российская юстиция. 2000. № 4.
- Палчаев А.Н. Место и роль Народного Собрания в структуре государственного устройства республики Дагестан // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2000. № 2.
- Политико-правовая культура и духовность. Ростов-на-Дону. 2001.
- Политические процессы в условиях современной России. Краснодар, 1999.
- Поляков JI.B. Исследование политической российской модернизации//Политические исследования. 1997. № 3.
- Помазан С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия терроризму: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М., 2001.
- Попов А. Причины возникновения и динамика развития межнациональных конфликтов // Идентичность и конфликты в постсоветских государствах. М., 1997.
- Предвечный Г. П. Основные условия и факторы, формулирующие состояние напряженности на Северном Кавказе. Межнациональные отношения сегодня. Ростов-на-Дону Донецк, 1994.
- Проблемы и перспективы федератизма в России // Российские регионы. 1999. № 1.
- Проблемы модернизации российского общества // Социально-политический журнал. 1998. № 1.
- Проблемы региональной безопасности и регионального экономического развития в условиях дифференцированной этнокультурной среды. Ростов-на-Дону, 2000.
- Проблемы современного общества. Ростов-на-Дону, 1996.
- Проблемы этнополитологии. Ростов-на-Дону, 1995.
- Психология национальной нетерпимости. Минск, 1998.
- Пугачев В.П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 1995.
- Реализация принципов федерализма (на примере Северного Кавказа). Ростов-на-Дону, 1997.
- Россия: риски и опасности «переходного» общества. М., 1998.
- Россия: социальная ситуация и межнациональные отношения в регионах. М., 1996.
- Русская философия права: основные проблемы и традиции. Ростов-на-Дону, 2000.
- Рябцев В.Н. Проблемы региональной безопасности на Кавказе: вопросы борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Тбилиси, 1999.
- Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М., 1999.
- Самойлов Г. В. Управление силами и средствами органов внутренних дел по противодействию политическому и религиозному экстремизму: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М., 2001.
- Северный Кавказ: национальные отношения. Майкоп, 1992.
- Севортян Р. Феномен политического терроризма в России // Служба безопасности: новости разведки и контрразведки. 1996. № 1−2.
- Скакунов Э.И. Политическая конкуренция в России // Социологические исследования. 2000. № 5.
- Скороходов В.А. Регионы и центр в реформируемой России // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 10.
- Смирнягин J1.B. Российский федерализм: парадоксы, противоречия, предрассудки. М., 1998.
- Смульский С.В. Идентификация военного конфликта И Политические исследования. 1995. № 4.
- Современный терроризм: состояние и перспективы. М., 2000.
- Социально-политические конфликты в российском обществе: проблемы урегулирования//Социологические исследования. 1999. № 3.
- Староверов В.И. Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества // Социологические исследования. 1998. № 4.
- Старушенко Г. Б. Самоопределение без сепаратизма // Международная жизнь. 1993. № 11.
- Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические, теоретические проблемы. М., 1996.
- Ступишин В.П. Самоопределение народов: традиции и действующее право // Общественные науки и современность. 1994. № 2.
- Тагаев М. Наша борьба, или Повстанческая Армия Имама. Киев, 1997.
- Татарников В. Чечня часть России. Другого не дано // Обозреватель. 2000. № 6.
- Тихонова Н.Е. Динамика социальной стратификации в постсоветском обществе // Общественные науки и современность. 1997. № 5.
- Тишков В.А. Война и мир на Северном Кавказе // Свободная мысль-XXI. 2001. № 1.
- Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.
- Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. М., 1999.
- Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества. М., 1998.
- Тутинас Е.В. Права личности и межнациональные конфликты. Ростов-на-Дону, 2000.
- Угроза ислама или угроза исламу? М., 2001.
- Фарукшин М.Х., Юртаев А. Н. От культуры конфронтации к культуре диалога//Политические исследования. 1992. № 3.
- Хлобустов О.М. Терроризм в современной России. М., 1996.
- Хоперская JI.В. Проблема правового статуса этносов // Проблемы этнополитологии. Ростов-на-Дону, 1995.
- Хоперская Л.Л. Технологии управления этнополитическими процессами в Северо-Кавказском регионе. Ростов-на-Дону, 1999.
- Хунагов Р.Д. Политическая субъектность. Ростов-на-Дону, 1994.
- Чечня: в пламени сепаратизма. Саратов, 1998.
- Чиркин В.Е. Правовое положение политических партий: Россия и зарубежный опыт // Общественные науки и современность. 1999. № 4.
- Чумиков А.Н. Управление конфликтами. М., 1995.
- Шамба Т.М. Этапы формирования и тенденции развития государственности народов Северного Кавказа // Северо-Кавказский юридический вестник. 1997. № 3.
- Шевцова Л. Политические зигзаги посткоммунистической России. М., 1997.
- Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе. М., 1975.
- Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1993.
- Эфиров С.А. Политический радикализм: возможность реставрации и его предотвращения. М., 1998.
- Юшенков С.Н. Война в Чечне и проблемы Российской государственности и демократии. М., 1995.
- Языкова А. Война в Чечне: неизвлеченные уроки // Открытая политика. 2000. № 3−4.
- Ярлыканов А.А. Проблема ваххабизма на Северном Кавказе. М., 2000.