Библейско-евангельская традиция в эстетике и поэзии русского романтизма
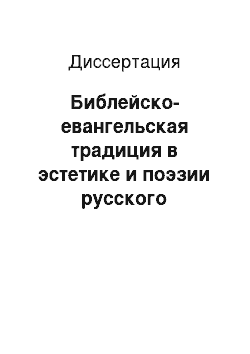
Наличие разных позиций на вопрос о взаимных отношениях религии и художественного творчества как раз, думается, свидетельствует о возможности диалога между светской и религиозной культурой и одновременно указывает на сложный и многоаспектный характер изучения этого диалога. Первый аспект, на наш взгляд, связан с проблемой церковности художника, взаимоотношением с Церковью и церковной культурой… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА II. ЕРВАЯ. О христианских корнях философскоэстетической мысли русских романтиков
- 1. Религиозный подтекст культурологических дискуссий в России первой трети XIX века
- 2. Религиозная идея — основа эстетических суждений русских теоретиков о природе романтического искусства
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Библейская символика в философской медитации В.А. Жуковского
- 1. «Бог» и «душа»
- 2. «Земля» и «небо»
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Псалом в поэтическом творчестве
- В.К. Кюхельбекера как лирическое осмысление сущностных начал в бытии человека и мира
- 1. Библия в творческом сознании В.К. Кюхельбекера
- 10−20-х гг
- 2. Концептуальный смысл художественного переложения Псалмов в поэме «Давид»
- 3. Характер псалмического слова в исповедальном пространстве крепостного Дневника
- ГЛАВА. ЧЕТВЕРТАЯ. Евангельская молитва в романтической интерпретации- исповедальность перед лицом традиции
- 1. Мистическая природа молитвенного канона
- 2. Молитва как жанр в лирике романтиков
- ГЛАВА II. ЯТАЯ. Библейский миф в поэзии романтизма («Агасвер» В. К. Кюхельбекера и «Агасвер, Вечный жид» В.А. Жуковского)
Библейско-евангельская традиция в эстетике и поэзии русского романтизма (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Разграничивают два значения слова «традиция». Во-первых, это опора на прошлый опыт в виде его повторения и варьирования, во-вторых, это инициативное и творческое (активно-избирательное и обогащающее) наследование культурного (и, в частности, словесно-художественного) опыта, «которое предполагает достраивание ценностей, составляющих достояние обгцества, народа, человечества» [399. С.353]. Предмет настояш-его исследования — традиция во втором значении слова. Известно, что эпоха романтизма осугцествила синтез культурных традиций — народной культуры (в основном отечественной), с одной стороны, и культуры образованного меньшинства (в большей степени международной) — с другой. По словам В. Ф. Одоевского, произошло «слияние народности с обгцей образованностью» [287. С.43]. Нам важно понять, как следование религиозной традиции определило национальную специфику романтизма и в то же время вписало его в мировой литературный процесс, насколько это было плодотворно для того или иного поэта в художественном плане. Заметим, о религиозных корнях романтизма писали и в немецкой, и в русской эстетике. Г. Гегель непосредственно связывал его происхождение с наступлением эпохи христианства и считал, что «первый круг романтического искусства образует религиозное как таковое, в котором центральным пунктом служит история искупления, жизни, смерти и воскресения Христа» [100. ХШ. С.97]. В. Г. Белинский, поддержанный целым рядом русских критиков, также возводил генезис романтизма к эпохе христианских средних веков [30. I. С. 154]. А. И. Герцен определил романтизм как «прелестную розу, выросшую у подножия распятия и обвившуюся вкруг него» [102. С.32]. Каким же образом религиозная основа романтизма сказалась затем в его эстетических теориях и художественной практике? В какой степени повлияла религиозная традиция на романтические представления о мире и человеке, на романтическую концепцию творчества? По нашему мнению, эти вопросы на сегодняшний день в науке до конца не прояснены. Двоемирие романтиков егце не свидетельство безоговорочного усвоения ими христианских воззрений на мир, как это чагце всего понимается исследователями, поскольку идея двух миров возникает в философии Платона задолго до христианства. Возвеличивание человеческой личности с акцентом на ее духовную сугцность сближает романтизм и христианство, но нельзя не видеть, что именно в романтическую эпоху завершается (начатый в период Реформации) процесс индивидуализации личности, а это уже не имеет к христианству прямого отношения. Романтическая концепция творчества, трактуюгцая искусство как апофеоз духа, скорее отдаляет романтизм от христианства, чем сближает с ним, так как искусство и его творцы занимают в романтической системе ценностей место посредника между небом и землей. Богом и человеком, что с точки зрения ортодоксального христианства недопустимо, «ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2.5−6).
За редким исключением [71- 155- 257] исследователи не рассматривают эти вопросы специально, а затрагивают мимоходом, в самых общих чертах, ограничиваясь констатацией того, что «романтическая религиозность содержит относительно мало церковно-клерикального смысла [120. С.18]. По сути дела нет ни одной серьезной работы, посвященной проблеме «Русский романтизм и религия», кроме небольших статей последних лет [190−192- 196−199]. Характе.
Курсив в тексте везде наш (В.А.Осанкина) ризуя мировоззренческую основу романтизма, большинство ученых считают его светским искусством, но сугцествует также взгляд на романтизм как «своеобразную форму мистического сознания» [143- 144]. Довольно распространено мнение о том, что романтизм, имея религиозную основу, являет собой психологическую и эстетическую реакцию на протестантизм. С точки зрения церковной религиозности, Эйхендорф изображает религиозные предчувствия и заблуждения немецких романтиков как различные испытания на обгцем пути воз-врап]-ения их от протестантизма к католичеству. «Поэзия, — пишет он, — привела их (романтиков) к преддверью католической церкви, к святилигцу, спрятанному в глубине леса и давно забытомуне удивительно поэтому, что они поняли свою задачу как эстетическую, в то время как она была на добрую половину нравственной, и что, вместо видимой, живой церкви, они нередко довольствовались пребыванием в сумеречных грезах простой поэтической символики этой церкви и новой христианской мифологии» [466. Р. 113]. Что же касается русского романтизма, то, по словам современного представителя духовенства, «он не имел религиозной основы, да и не мог ее иметь в православной среде, как бы к Православию ни относились иные литераторы». Русские поэты, пишет он, «заимствовали внешние особенности романтического восприятия, находя им поддержку в своих душевных переживаниях, но не в религиозных. Оттого им легче было освободиться от всего наносного, чему они поддавались в некоторые периоды своей художественной деятельности. Так сумел изжить свой мистицизм В. А. Жуковский, так освободился, как от возрастной болезни, от своего раннего байронизма A.C. Пушкин» [135. С.140−141].
Чем глубже постигаешь проблему, тем более отчетливо начинаешь понимать ее противоречивость и неоднозначность. С одной стороны, складывающееся в конце ХУХП века в европейских странах и в начале XIX века в России романтическое движение приходится на тот период развития русской истории, когда процесс создания новой, полностью секуляризованной культуры, начатой реформами Петра I, был практически завершен. Уже XVIII век, век Просвегцения и рационализма, являлся в господствующих своих тенденциях антирелигиозным периодом русской культуры, разрывавшим со средневековой религиозно-христианской традицией. Если в средневековой культуре, где выделялись религиозная и светская письменность, первая была автономна от мирской власти, считалась боговдохновенной и, следовательно, истинной, то в XVIII веке на первый план выходит светская литература, возникающая на основе русской светской культурной традиции, с одной стороны, и европейских влияний, с другой [435. С.365]. Версия о разрыве двух культур — религиозной и светской — в духовной жизни России XVIII и XIX вв. легла в основу многочисленных исторических и эстетических концепций, была подкреплена высказываниями видных мыслителей и историков культуры от A.M. Герцена до К. Н. Леонтьева и H.A. Бердяева. Новая мирская культура и в первую очередь литература, как отмечают исследователи, «рождалась как антитеза церковной жизни» [293. С.10]. Факт остается фактом: великие духовные подвижники XVIII и XIX вв. остались в светской культуре почти незамеченными: современники A.C. Пушкин и Серафим Саровский не знали друг друга. Полагая, что история Христианской духовности в России есть преимущественно «история неудач», Г. В. Флоровский имеет в виду в том числе и названную ситуацию [391. С. 147]. История многих национальных культур свидетельствует, что в обществах религиозных значение искусства крайне незначительно, а возрастание интереса к нему знаменует собой падение религиозности. Унижение Петром I русской Церкви и как косвенное следствие этого рост культурной ценности светского поэтического искусства XVIII века — убедительный тому пример. С другой стороны, в науке отмечено, что секуляризация русской культуры «не затронула глубоких структурных основ национальной модели, сложившихся в предшествуюЕцие века» [258. С.72], что «вся наша культура и жизнь выросли из церковных «средневековых основ» [379. С.207], что «Россия никогда не выходила окончательно из Средневековья, из сакральной эпохи» [32. С.51]. Действительно, в рамках секуляризованной литературы XVIII века религиозная тема — одна из основных. Духовной поэзии отдают дань и Г. Р. Державин (оды «Бог», «Христос»), и М. В. Ломоносов, рассуждающий в Утреннем и Вечернем размышлениях о Божием величестве. Центральное место в поэзии этого времени занимают переложения псалмов, в которых пробуют свои силы как поэты первой (В.К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, A.n. Сумароков, Г. Р. Державин и др.), так и второй (Н.П. Николаев, Е. И. Костров, Ф. Я. Козельский, И. П. Тургенев и др.) величины, выражая в ветхозаветных темах философские и религиозные взгляды на мир и человека. Придя из западноевропейской литературной традиции, этот жанр не знал там такого расцвета, а Ж.-Б. Руссо при всей его известности, никогда не входил в сознание современников в число первенствуюгцих поэтов своей эпохи.
Названная особенность тем более характерна для русской литературы XIX века. Светский характер этой литературы несомненен, он подтвержден авторитетами русской критической и эстетической мысли, начиная с В. Г. Белинского. Когда современный ученый пишет, что если в прошлом веке и сугцествовало творчески активное отношение русской литературы к русскому православию (отличное от отношений, например, французской литературы к католицизму) за счет одиноких усилий Н. С. Лескова и совершенно уникальной инициативы Ф. М. Достоевского, которые оба, каждый на свой лад, были отторгнуты современной им литературной жизнью [2. С. 123], то он выражает лишь устоявшуюся точку зрения на этот счет. Более того, в науке высказывается мнение, что кризис христианства в русской литературе достигает своего апогея именно в XIX веке. При всем интересе к религии, пишет Н. И. Либан [245. С.297], Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и П. С. Лесков становятся «ее комментаторами, дополни-телями, а иногда и создателями своего учения, якобы христианского». Несмотря на то, что «их произведения переполнены цитатами и ситуациями, восходящими к евангельским текстам», «в них столько же веры, сколько и неверия». Подчеркнуто, что желание теософов — С. Н. Булгакова, H.A. Бердяева, СЛ. Франка — открыть своим современникам истинное учение Иисуса и тем самым «спасти христианскую идею» привело к тому, что «они сделали из веры предмет философии, предмет социологии и истории, и это погубило саму идею» [245. С.296]. Но с этих позиций первыми разрушителями христианства в литературе XIX века вполне можно назвать романтиков, так как именно в их произведениях мы находим «столько же веры, сколько и неверия».
Другой исследователь отметит, что если к данному периоду европейской истории (конец XVIII и весь XIX вв.) подходить с религиозной точки зрения, то можно сказать, что это был «век секуляризации, обмирщения, модернизации христианства. Во всей Европе шел процесс преобразования религиозной энергии. Главным было не механическое отрицание религии на основании наиболее радикальных и упрощенных идей просветительского рационализма, а изменение христианской религиозной традиции. В прошлом, когда в традиционных обществах христианству в его церковных формах принадлежало центральное и неприкосновенное место, вокруг него шли споры, но в чисто религиозных формах внутри ересей, имевших огромное. значение. В XIX веке ереси отодвинуты. возникают философские системы, в первую очередь немецкий идеализм, развиваюпций. собственную спекулятивную христологию в параллель теологии. К тому же в культуре заявляет о себе. „христианский плюрализм“ — удивительное богатство христианской духовности и интеллектуальности в трех наиболее крупных конфессиональных выражениях (католическом, православном, протестантском), а также в бесконечном множестве других тенденций» [354. С. ЗОО]. Все это, по мнению ученого, модернизировало христианскую религиозную традицию, поскольку литература не просто усваивает христианство, но и размыгнляет о нем, делает проблемой с аргументами «за» и «против» [354. С.301].
Ряд исследователей [136- 137- 138- 203- 219- 283], напротив, особенно в последние годы, настойчиво пытаются доказать, что, будучи полностью светской по форме, новой по тематике и поэтическим средствам, русская литература XIX в (в отличие от новоевропейской) в глубинных тенденциях продолжала выражать средневековое миросозерцание, не отрываясь от средневековых (церковно-славянских) основ языка. Отмечено, что главные категории этого миросозерцания можно выявить, опираясь на проработку культурного материала европейского и русского Средневековья Й. Хейзингой, Л. П. Карсавиным, n.M. Бицилли, Р. Гуардини, Э. Р. Курциусом, Д. С. Лихачевым, А. Н. Робинсоном, A.M. Панченко, С. С. Аверинцевым и др. [221. С.5]. Тенденцию, характерную для многих национальных культур, анализирует М. Хайдеггер: «Не картина мира преврагцается из прежней средневековой в новоевропейскую, а мир вообгце становится картиной, и этим отличается сугцество нового времени. Для средневековья сугцее есть ens creatum, творение личного Бога-творца как высгней причины. Быть сущим здесь — значит принадлежать к определенной иерархической ступени сотворенного бытия и в таком подчинении отвечать творящей первопричине (analogia entis). Аналогия, понятая как основная черта бытия сущего, намечает совергаенно определенные возможности и способы произведения истины этого бытия внутри сущего. Художественное произведение средневековья и отсутствие картины мира в ту эпоху — две стороны одного целого» [397. С.49−50]. Ссылаясь на это высказывание М. Хайдеггера, В. А. Котельников отметит, что русская классика не участвует в новоевропейской картине мира, а продолжает действовать в «теоцентрическом речевом космосе», как действовал средневековый автор, всегда чувствовавший связь своего слова со Словом-Логосом, с логосами тварей и только в силу этой связанности осмеливавшийся говорить и отвечать за смысл и форму сказанного, ее творческая «аналогичность» творящей первопричине как раз и позволяет ей высказывать «истины бытия внутри сущего» [221. С. б]. Отсюда логично утверждение Т.М. Го-ричевой о том, что «дух иночества (инаковости), неотмирности, эсха-тологичности придал русской культуре совершенно особые свойства, как будто над всей русской стихией виднеется черный монашеский клобук» [110. С.48]. В оценке явления порой совпадают взгляды как светских ученых, так и представителей церковной науки. Философу и литературоведу И. А. Ильину, утверждающему, что русскую литературу «можно назвать в расширенном смысле нравственным богословием» [170. С.37], вторит преподаватель Московской Духовной Академии М. М. Дунаев, высказывая крайний взгляд на теоретические основания такого подхода к художественной классике. «Можно прямо утверждать, — пишет он, — в своих высших проявлениях русская литература становилась уже не просто искусством слова, но богословием в образах» [135. С.317].
Противоположные точки зрения на религиозный характер романтической эпохи и романтического искусства, как и литературы.
XIX века в целом, позволяют предположить (что уже и делается в литературоведческой науке), что разрыв в духовной жизни России двух культур (литератур) — светской и религиозной — был относительным [56- 222- 223], они обнажают более обгцую проблему — «искусство и религия», — которая возникла с начала Нового времени, когда произошло окончательное отделение светской культуры от Церкви. Конечно, мирская и церковная культуры — две различные системы организации духовного опыта человека. Как отмечено в науке [55. С.46], системы эти имеют качественно различный характер. Церковь как таинственная жизнь Тела Христова и ее ценности не имманентны нашему миру, имеют трансцендентную основу, в то время как культура имманентна человеческому сознанию. Лишь некоторой своей частью, открытой человечеству для Богопознания, Церковь оказывается в чем-то соотносимой с фактами культурной жизни. В святоотеческой традиции преобладает недоверие к искусству как к области искушений, уводягцих с истинного религиозного пути. Представляются интересными в этой связи высказывания духовных авторитетов Церкви XIX века, прежде всего святителя Игнатия (в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова), во-первых, потому, что он был тесно связан с миром русской культуры рассматриваемого нами периода, во-вторых, до принятия монашества он, блестяпдий выпускник Главного инженерного училигца (1826 г.), пансионер государыни-императрицы, любимец государя-императора, участник кружка президента Академии художеств А. И. Оленина, сам был поэтом, и его поэтические опыты вызывали одобрение A.C. Пушкина, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, Н. И. Гнедича [345. С. ЗО].
Опираясь в своих рассуждениях на многовековой святоотеческий опыт, святитель Игнатий видит в искусстве не что иное, как «лжеименный разум падшего человека и бесовский, горделиво и исключительно признающий себя и здравым, и просвещенным» [164. С.286]. По его мнению, мирская культура преуспела в изображении зла: «Зло в природе, особливо в человеке, так замаскировано, что болезненное наслаждение им очаровывает юного художника, и он придается лжи, прикрытой личиною истинного, со всею горячностию сердца». В изображении добра талант человеческий «вообще слаб, бледен, натянут» [166. С.169]. Неспособность мирской культуры отражать духовные реальности, говорит святитель, заключается в том, что светский художник не знает духовного, а о духовных предметах надо писать «из знания», содействуемого «духовным действием», т. е. действием Духа [161. С.20−21]. Светские же литераторы, пишущие о духовных предметах, «постоянно ниспадают в свое чувственное и святое духовное переделывают в свое чувственное» [162. С.29]. Примат чувственного над духовным в светском искусстве происходит, с точки зрения святителя, оттого, что художник не способен или не желает принять христианское мировоззрение, догматику, антропологию, подменяет их своими интерпретациями. В результате, и это особенно неприемлемо для церковного мыслителя, художник выступает демиургом, Творцом-соработником Бога, «сочиняя» действительность, вместо того, чтобы выражать мир Божий. «Как прекрасен стих в „Аббадоне“ В. А. Жуковского, — пишет святитель Игнатий, — и как натянуто чувство! Очевидно: в душе писателя не было ни правильного понимания описываемого предмета, ни истинного сочувствия ему. По причине неимения истины он сочинил ее для ума и для сердца, написал ложную мечту, не могущую найти сочувствия в душе. благочестивого читателя» [162. С.42].
Известно, что творчество в светской культуре — это всегда самовыражение. Имеет цену лишь то, что у художника «свое», и то, в каких оригинальных формах это «свое» выражено. Рассуждения святителя Игнатия прямо противоположны этой мысли: «Мы пали отвержением Божьего, оживлением своегоа свое у нас — ничтожество, небытие. Устранив из себя Божие, оживив в себе свое, мы родили смерть». Чтоб умертвить смерть, надо устранить из «себя все свое, приведшее и хранящее смерть: в самоумерщвленного проникает дух, и, как Создатель, дарует ему «пакибытие» [161. С.20].
Через все сочинения Владыки Игнатия проходит мысль о противопоставлении мирских и духовных ценностей, о той пропасти, которая разделяет путь художника и путь христианина. Он не приемлет, например, творческого вдохновения, т.к. источник его часто не божественный. Многочисленны вариации его мысли о «падшести» человеческой природы, о зараженности человека грехом, о светлом и темном началах в душе художника, о печати греха и страстей на его произведениях. Отсюда «. сперва очищение Истиною, а потом просвещение Духом. Если же человек прежде очищения Истиною будет руководствоваться своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но добро, смешанное со злом» [165. С.321]. Строгому суду Владыки подвергается воображение писателя, его субъективность — главные составляющие любого творческого акта. «Все чада Вселенской Церкви, — пишет он, — идут к святыне и чистоте. умерщвлением чувств, крови, воображения и даже „своих мнений“ .» [161. С.20]. Этих особенностей он не находит в произведениях секуляризованной культуры: «Мне очень не нравятся сочинения: ода „Бог“, преложения Псалмов, все, начиная с преложе-ний Симеона Полоцкого, преложения из Иова Ломоносова, все, все поэтические сочинения, заимствованные из Священного Писания и религии, написанные писателями светскими. Под именем светского разумею не того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом мира. Все эти сочинения написаны из „мнения“, оживлены „кровяным движением“. Оду „Бог“, слыхал я, с восторгом читывал один дюжий барин после обеда, за которым он отлично накугпивался и напивался. Бывало, читает и слюна брызжет изобильно на всех. Ода написана от движения крови — и мертвые занимаются украгпе-нием мертвецов своих! Не терпит душа моя смрада этих сочинений! Но мне уж лучше прочитать, с целью литературною, „Вадима“, „Кавказского пленника“, „Переход через Рейн“: там светские поэты говорят о своем — и в своем роде прекрасно. Благовестие же Бога да оставят эти мертвецы» [161. С.20]. Владыка Игнатий указывает и путь, по которому должен идти христианин-художник. Молитва, покаяние, путь аскезы — составляющие этого пути: «Истинный талант, познав, что Сугцественно — Изягцное — один Бог, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить из ума всякое лжеучение, стяжать для ума Евангельский образ мыслей, а для сердца — Евангельские опцугцения. Первое дается изучением Евангельских заповедей, а второе — исполнением их на самом деле. Когда усвоится таланту Евангельский характер — а это сначала сопряжено с трудом и внутреннею борьбою — тогда художник озаряется вдохновением свыше, тогда только он может говорить свято, петь свято, живописать свято. Чтоб мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу» [166. С. 169]. В науке отмечено [259. С.24], что именно так в средневековой культуре работал художник, когда «в слове, краске, звуке выражал не свое, но Божье», например, Андрей Рублев, «создававший иконы в посте и молитве, отражавший горний мир духовных реальностей, не привносягций ничего от себя, но бережно слушающий Вечность» [259. С.29]. Но можно ли сказать, что таким путем шли русские писатели XIX века, что, как отмечает исследователь, «литература XIX в. есть лишь средневековое высказывание о мире», что она «продолжает действовать в теоцентрическом речевом космосе», как действовал средневековой автор, что «она не участвует в новоевропейской картине «мира» (слова эти мы уже приводили в работе). Думается, нет. Воззрения Владыки Игнатия, считающего грехом «расположение к наукам и искусствам» [163. С. 168], разделяются другими духовными мыслителями 176- 384- 385]. Процитируем высказывания архимандрита Софрония (Сахарова), наглого современника, так как у него, как и святителя Игнатия, был личный опыт «светского искусства», и он на себе испытал муки выбора: творчество или Церковь. На протяжении нескольких лет в его жизни «два стремления — к искусству и молитве — подводили к грани безумия». Это была, пишет он, «борьба Духа Божия и духа человеческого. И Дух Божий победил: «. я понял, что через искусство ощущение Вечности не идет так глубоко, как в молитве. И я выбрал молитву» [174. С.219]. Молитва и стала для о. Софрония «нескончаемым творчеством», т.к. «дух не должен остановиться в своем движении к Богу» [174. С.220]. В результате своего духовного опыта он пришел к выводу, что искусство и молитва — это не только «две формы жизни, которые требуют всего человека», это две разных формы бытия. Культура светская и духовная в основе своей противоположны. Такие понятия, как творчество, вдохновение, воображение, и другие в духовной культуре имеют противоположный общепринятому в миру смысл.
Если в светской культуре «ценится оригинальность, индивидуальность артиста», то христианин «в своем обращении к Богу устремлен вперед, не обращаясь на самого себя» [174. С.219]. Задача аскета — бороться с воображением, т.к. оно «есть проводник демонической энергии» [349. С. 140], для светского художника без воображения нет творчества. «От гордости, — пишет о. Софроний, — усиливается действие воображения, а от смирения оно прекращается, гордость пыжится создать свой мир, а смирение воспринимает жизнь от Бога». Святое вдохновение отличается от художественного тем, что исходит свыгпе от Отца, «стяжается. подвигом в молитве» [349. С. 145]. Отсюда тот же вывод, к которому пришел святитель Игнатий более ста лет тому назад, — искусство, творчество должно исходить из религиозного опыта и жизни по заповедям, из покаяния, аскезы, молитвы. Естественно в этой связи задать вопрос, а не слишком ли это узкий путь, который Церковь предлагает светской культуре и человеку Нового времени?
О несовпадении путей художественных и религиозных говорили и люди, причастные к светской культуре: философы, теоретики, мыслители. H.A. Бердяев, понимавший искусство как «откровение человека, а не Бога» [34. С.284], писавший об омертвении современного христианства, парализующего творчество, считал: «Религиозная тенденция в искусстве такая же смерть искусству, как тенденция общественная или моральная. Художественное творчество не может быть и не должно быть специфически и намеренно религиозным» [34. С.285].
В том же русле развертываются идеи М. М. Бахтина относительно условий осуществления творческого акта. По его мнению, «нельзя творить непосредственно в Божьем мире», «специальная ответственность нужна (в автономной культурной области)» [29. С. 179]. В то же время он подчеркивает, что «эта специализация ответственности может зиждиться только на глубоком доверии к высшей инстанции, благословляющей культуру, доверии к тому, что за мою специальную ответственность отвечает другой — высший, что я действую не в ценностной пустоте. Вне этого доверия возможна только пустая претензия». И более определенно: «В абсолютной ценностной пустоте невозможно никакое высказывание, невозможно самое сознание. Вне Бога, вне доверия к абсолютной другости невозможно самоосознание и самовысказывание и не потому, конечно, что они были бы практически бессмысленны, но доверие к Богу — имманентный конститутивный момент чистого самосознания и самовыражения» [29. С.126].
Современный исследователь (И. Сурат), говоря о поэзии, по сути дела, разделяет эту же точку зрения: «Основу поэзии составляет личный духовный опыт, не осевший в душе, а только становящийся в ходе творчества, и потому она не может в тематике своей прямо воплощать завершенное конфессиональное сознание. Это противоречит самой природе лирики, которая не терпит готовых смыслов, заданных идей, которая рождается в недрах личности из индивидуального внутреннего события. Если смысл стихотворения существует до его создания в виде определенного религиозного, равно как и политического убеждения, знания, то тем неизбежно уничтожается самый акт творчества» [355. С.210]. Творчество, подчеркнуто далее, «легче совмещается с конфессиональным безразличием, чем с конфессиональной последовательностью. Духовная жажда, утоленная в Церкви, уже не томит и не требует выхода в творчестве, вера, облеченная в форму обряда, не ищет уже другой формы для себя, какой являются поэтические звуки и образы» [355. С.212]. И вывод: «когда искусство пытается служить не только Богу, но и религии, оно уходит в сторону от творчества, изменяет своей природе» [355. С.211]. Действительно, примеры из творческой практики русских и западноевропейских романтиков подтверждают, что уход художника в религию (поздние В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, Ф. Н. Глинка и др.) мало способствовал творчеству. Как пишет историк школы иенского романтизма Р. Гайм, творческое бесплодие Ф. В. Шеллинга и Фридриха Шлегеля было следствием того, что, «запутавшись в лабиринте фантастических от-влеченностей и мистического умничанья», «один из них сделался проповедником новой гностики», другой «перешел в католичество» [94. С.729].
В науке замечено, что «отрицание светской культуры, имеющее место в Церкви, не носит характера простого отвержения. Оно предполагает преодоление, перерастание границ искусства», когда искусство воспринимается «как низший уровень духовного восхождения» в «движении человека к Свету» [55. С.48]. Подобные мысли находим у современного духовного деятеля: «. гармония обладания небесными дарами искусству и вообще неподвластна. Искусство чувствует себя свободным и всесильным лишь в стихии противоречий и конфликтов. Мы должны ясно осознавать: сфера художественного творчества ограничена областью души — в системе христианской трихотомии: тело, душа, дух. Это вовсе не оскорбляет и не принижает искусство, но лишь точно определяет границы его возможностей» [135. С. 12.
Сторонники противоположной точки зрения — духовные лица: архимандрит Феодор (Бухарев), игумен Иоанн (Экономцев) и др.- религиозные философы: И. А. Ильин, Г. П. Федотов и др.- представители Церкви, имеющие высочайший духовный авторитет (преп. Амвросий Оптинский, другие оптинские старцы), признают за искусством великие возможности Богопознания, ибо «в самой природе человека творческие силы и идеи. составляют не что иное, как отсвет того же Бога Слова» [383. С.94], ибо «истинное творение всегда от Бога» [175. С.180].
Наличие разных позиций на вопрос о взаимных отношениях религии и художественного творчества как раз, думается, свидетельствует о возможности диалога между светской и религиозной культурой и одновременно указывает на сложный и многоаспектный характер изучения этого диалога. Первый аспект, на наш взгляд, связан с проблемой церковности художника, взаимоотношением с Церковью и церковной культурой, конфессиональной принадлежностью. Второй — с проблемой религиозности творчества, отражением в произведениях искусства многовековой религиозной традиции. Взаимодействие и соотношение этих аспектов у разных художников различно. Христианские воззрения писателей, адекватно отразившиеся (а порой и никак не присутствуюгцие) в их творчестве, егце не означают обязательной их церковности. Скорее наоборот. Одни из русских романтиков, например, были связаны с Церковью непосредственно (поздний В.А. Жуковский), другие занимали позицию достаточно нейтральную (декабристы до 1825 года), у третьих эти отношения были очень сложны (М.Ю. Лермонтов). По словам Г. П. Федотова, «. круг христианского вдохновения остается шире — если не мистической Церкви, то церковных институтов. Современный человек часто сам не подозревает, откуда доносится к нему веяние духа, ос-вежаюгцее и животворящее его в пустыне» [381. С.69]. Научные исследования последних лет [26- 114- 126- 127] показывают, что с христианством в культуре часто связано то, что к Церкви не имеет никакого отношения, например, аскетические темы и настроения у большинства писателей XIX века, в том числе и у тех (H.A. Некрасов, Н.Г. Чернышевский), кто был далек от церковного сознания. Рассматривая влияние христианства на литературу, отмечает ученый [55], «мы имеем дело с реализацией в искусстве христианских по своему происхождению образов, тем, мифологем». При этом «следует говорить об отношении, а не о взаимоотношении, так как христианство с литературой обратной связи не имеет. Заимствуя от первого темы, идеи и категории, усваивая их и разрабатывая художественными средствами, belleslettres сама христианству, понимаемому как откровение Бога человеку, ничего не дает, да и не может дать. Абсурдно полагать, что творчество, например, Ф. М. Достоевского, воздействовало на основы христианства. А вот на церковную жизнь и на церковную культуру оно могло наложить, да и наложило определенный отпечаток» [55. С.44]. Необходимо учитывать, по мнению другого исследователя, «опыт религиозной философии и эстетики конца XIX века, который. показал, что факт использования в культуре, философии, литературе какой-либо христианской идеи или христианского образа еще совсем не означает реального вхождения в круг истинно христианских категорий и смыслов. Это стало особенно очевидно в XX веке на фоне разнообразных модернистских и постмодернистских экспериментов с религиозными символами и знаками, в результате которых возникло глубокое сомнение в том, возможно ли вообще истинное, не искаженное, адекватное самому себе существование религии в культуре и литературе» [283. С. 5.
Обращает на себя внимание и то, что религиозность художника понимается в науке порой не как использование им религиозных тем и сюжетов, а как его служение средствами искусства высшей Истине [320- 394- 398]. Когда С. Н. Булгаков пишет о Пушкине, что он «знал Бога», но особым знанием художника, что ему был свойствен свой личный путь и особый удел — предстояние пред Богом в служении поэта" [50. С. 120], он выражает взгляд на творчество как особое религиозное призвание. Но думается, что в таком случае Дух Божий можно найти в произведениях большинства крупных художников слова XIX века.
Объектом нашего исследования является романтическая эстетика и поэзия первой трети XIX векапредметом — характер бытования библейско-евангельского текста как текста канонического в художественной практике поэтов, принадлежащих к разным видам русского романтизма (психологическому, декабристскому, гражданскому, философскому). Черты мировоззрения, умственного склада, литературного вкуса налагают печать на восприятие библейско-евангельской традиции каждым поэтом. У одних художников преобладает гармонически примиряющее звучание (В.А. Жуковский), у других — драматически обостряется противостояние истины и лжи, веры и безверия (декабристы, М.Ю. Лермонтов). Это же проявляется и в жанровом предпочтении. В лирике В. А. Жуковского основной жанр — философская медитация религиозного плана, у декабристов — псалом, в гражданском и философском романтизме — молитва. При всей условности терминов (психологический, декабристский, гражданский, философский), характеризующих разные ветви русского романтизма, они используются современным литературоведением. В каждом течении романтизма мы рассматриваем творчество тех художников, у которых библейско-евангельская традиция выражена наиболее ярко — в психологическом романтизме — лирику В. А. Жуковского, И. И. Козлова, в декабристском — лирику Ф. Н. Глинки, В. К. Кюхельбекера, в гражданском и философском — лирику Н. М. Языкова, П. А. Вяземского, Д. В. Веневитинова, Е. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова, A.A. Григорьева. В последней главе работы анализируются две поэмы о Христе В. А. Жуковского и В. К. Кюхельбекера. Хронологически они выходят за рамки исследования (40-е годы), но интересны по другим соображениям. Если в период расцвета романтизма оба художника занимали крайне противоположные позиции и эстетика их была, по сути дела, несовместима, то в 30−40-е гг. в их творчестве зарождаются и развиваются духовно близкие тенденции. Художественное преломление религиозных исканий В. А. Жуковского и В. К. Кюхельбекера в поэмах о Христе связано не только с логикой их собственного развития, но и с нравственно-философскими исканиями временив таком же отноп1ении к христианству находим И. И. Козлова и позднего A.C. Пушкина, в иных аспектах — М. Ю. Лермонтова и Е. А. Баратынского, Ф. Н. Глинку, Н. В. Гоголя. Подчеркнем: рассматривается лирическая светская поэзия. Отдельные произведения с религиозной окраской, а также религиозные жанры здесь — лишь часть светской психологической и философской романтической поэзии. Совсем иной род творчества представляет поэзия, религиозная по своему служебному предназначению (духовные оды, гимны, церковные песнопения), по теме, в которой воплопдено конфессиональное сознание, когда смысл произведения сундествует до его создания в виде определенного религиозного убеждения.
Целью работы является концептуальное осмысление религиозной основы мыслительных интенций романтизма как мировоззренческой системы, характеристика религиозной составляюгцей в эстетических суждениях романтиков (чему посвящена теоретическая глава исследования) и анализ важнейших форм ее существования в русской романтической поэзии. Интерес будет сконцентрирован главным образом, на художественной природе трактовок поэтами-романтиками библейских по своему происхождению символов, жанров, мифов как способов воплощения философского и мировоззренческого смысла произведений.
Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих исследовательских задач:
1. Выявление и сравнительный анализ противоположных научных суждений о религиозном характере романтической эпохи и литературы XIX века в целом, а также различных позиций духовных авторитетов Церкви и светских деятелей на природу искусства.
2. Рассмотрение философско-эстетического творчества идейных предтеч русской эстетики — немецких теоретиков и практиков романтизма — с целью определения своеобразия русской эстетической мысли.
3. Концептуальный анализ философских, критических, публицистических работ теоретиков русского романтизма с точки зрения вычленения религиозной идеи в их суждениях о мире и искусстве, о миссии и назначении поэта, о сугцности, истоках, своеобразии романтической поэзииреконструирование этой идеи в логико-исторической последовательности.
4. Изучение романтической символики в ее соотнесенности с религиозной библейской символикой на примере лирического творчества В. А. Жуковского — «самого христианского» (В.Г. Белинский) поэта из всех русских романтиков.
5. Определение природы религиозных жанров — псалма и молитвырассмотрение этих жанров в свете библейской и литературной традицииизучение своеобразия переложения библейских подлинников в художественной романтической практике.
6. Характеристика места, роли и значения библейского мифа в поэзии позднего романтизма.
Названная проблема, в сугцности, не была предметом специального и всестороннего научного рассмотрения. В обобщающих работах дореволюционного литературоведения о русском литературном движении XIX века [225- 303- 313- 339] ей уделяется крайне незначительное внимание. Отмечается, что романтикам, «сообразно с общим характером эпохи, не чуждо было сближение поэзии с религией», религия мыслилась «как ближайшее соседство искусства», а искусство — как «средство к усвоению религиозного состояния». Однако в понятие религии романтики вносили свои представления. С их точки зрения, религия есть не что иное, как «род поэтического чувства или настроения, притом чувства личного» [154. С.99]. Указано, что поскольку большое влияние на русский романтизм оказала западноевропейская литературная традиция, то русские романтики, как и западноевропейские, считали основой религиозного состояния «поэтическое субъективное созерцание, вне которого, по их мнению, нет религии». Но если «в поисках за религией чувства и поэтического созерцания» немецкие и французские романтики обращаются к разным формам религиозных верований, например к католицизму (Новалис, A.B. Шлегель, Ф.Р. Шатобриан), пантеизму (И.В. Гете, П.-Б. П1елли, отчасти В. Гюго), к религиозной фантастике древней Индии (Фр. Шлегель), то русские романтики не были ни католиками, ни пантеистами, ни буддистами. Тем не менее, подчеркивается, поэтической религии отдали дань все поэты русского романтизма, в большей степени, например, В. А. Жуковский, посвятивший состоянию «духовного созерцания» многие страницы своих произведений, в меньшей, например, A.C. Пушкин и М. Ю. Лермонтов [154. С.100].
В работах общего характера о русском романтическом движении эта проблема рассматривается с большей или меньшей полнотою [42- 155- 156- 177−179- 212]. Так, исследователи проводят прямую параллель между романтизмом и христианством по тому типу настроений, которое определяется понятием «мировая скорбь», отмечая в то же время антисоциальные, резко эгоистические тенденции, внесенные в скорбь о мире новым временем эпохи романтизма. «Пессимизм античного мира, — пишет H.A. Котляревский, — был следствием юного пристрастия к радостям и удовольствиям жизни. Античный человек как будто требовал от жизни, чтобы она была вечным праздникомон туго мирился с естественным и неизбежным страданием, с которым мы легко миримся. Мучений неудовлетворенного интеллектуального голода, скорби о бессилии своего разума, равно как и того страдания, которое вытекает из неудовлетворенности очень чуткого нравственного чувства, он не знал почти вовсе. В силу своего разума он верили эту силу он даже преувеличивал, а его нравственное чувство было далеко не столь требовательно, каким оно стало позже.
Христианская печаль — та, при всей ее глубине, носила сама в себе поправку и исцеление. Она коренилась в тоске по небесному царству, она готова была даже радоваться страданиям мира, так как видела в них залог более прочного блаженства. Дугпа томилась в земных оковах, но в мечте предвкупхала уже иной мир, настоягцая, истинная жизнь для нее не кончалась могилой, а только начиналась за ее пределами. Такая надежда на загробное вознаграждение, на окончательное и вечное торжество справедливости на небе исчезала вместе с религиозной верой, которая с веками становилась все слабее и слабее в человеческом сердце. Вера в опеку свыше покидала человека и сменялась иной верой, тоже глубокой и страстной, но более уязвимой. Человек привыкал смотреть на себя и на ближнего, как на единственные силы, способные придать жизни желанный облик. Герой заступил для него место Бога, и сила человеческого чувства и разума должна была, как он думал, продолжать то дело, которое раньше вершил Божий Промысел. Просчет был неизбежен. Когда в конце ХУП! века была сделана решительная попытка к немедленному осугцествлению гуманного идеала на земле. человек мог убедиться, как изменяются надежды и как падают идеалы. Насколько была безгранична в нем недавняя вера в себя и в ближнего, настолько безгранично теперь стало его отчаяние" [227. С. 17]. Такая скорбь, по мнению автора, более глубока и безотрадна, чем любая из прежних скорбей человека о мире, так как она выражается «в чувствах антигуманных, которые гуманный человек стал питать к ближнему, в самопрезрении, с каким он стал относиться к себе самому, наконец, в том холодном и черством индифферентизме, который сменял в его сердце недавний порыв любви и самопожертвования» [227. С. 18]. В своем литературном наследстве, заключает ученый, эта эпоха заве-нцала нам «откровенную исповедь разочарованного и озлобленного героя-идеалиста», яркое воплощение которого мы находим в поэзии Дж.-Г. Байрона [227. С.19].
Лучгне обстоит дело с изучением религиозных тенденций в творческой практике того или иного художника [9- 16- 80- 101- 228]. Отмечается, что романтики, в том числе и русские, заново открыли для современников и последующих поколений не только античную мифологию, литературу Возрождения, но и Библию. Однако какие формы принимает библейская традиция в русском романтизмеформу художественного истолкования лиц и сюжетов из Библии, форму отображения живой религиозной жизни наций, ее религиозно-мистического опыта, нравственных и эстетических идеалов, воспринятых русским сознанием из православия — этих вопросов ученые пока не ставили. Советское литературоведение если и обращало внимание на связь романтиков с религией, то это относилось чаще всего к немецкой и французской гнколам [65. С. 180−185], реже — к школе В. А. Жуковского, при этом подчеркивалось, что религиозная тема встречается у В. А. Жуковского чрезвычайно редко, что если поэт и «говорит о своей надежде на бессмертье духа и добра», то эта надежда — «еще не совсем религиозное утверждение», что Бог В. А. Жуковского живет в его душе, «но есть ли Бог вне его души. Бог сам по себе, — этого он не знает и этой темы не касается» [119. 0.11 .
Каким же должен быть методологический подход к названной проблеме? Размышление современного ученого [441. С.94] о том, что история русской литературы как наука в конце XX века методологически ориентирована на синтез (и это «насущная потребность актуализации идей исторической поэтики. идей русской религиозной философии»), на наш взгляд, не может быть оспорено. В нашей работе методология имеет комплексный характер. Используются такие исследовательские принципы, как объективность, когда основные теоретические положения проверены несколькими методами, а ве-душ-ие детерминации романтического мышления изучаются не только в эстетической, но в практической и религиозной плоскостяхцелостность — когда используется как типологическая, так и конкретно-историческая методология, позволяюпдая раскрыть полиструктурность проблемы «русский романтизм и религия», ее важнейшие детерминации, внутренние противоречияисторизм — при котором логически выявляется этапность присутствия религиозной составляющей в эстетике и художественной практике романтизма. Применены конкретные методы философско-эстетической реконструкции, концептуально-сравнительного и структурно-семантического анализа, текстуально-герменевтической аналитики.
Осмысляя методологические основы изучения взаимодействия религиозного и эстетического, мы опираемся на ряд исследований русских [1- 55−56- 218−223- 138] и зарубежных ученых [447- 448- 457]. Подход к Библии как явлению эстетическому в этих работах видится насущно необходимым, адекватным культуре и науке рубежа XX—XXI вв. Именно с эстетической точки зрения рассматривается наследие Отцов Церкви в недавно вышедшей монографии современного историка классических культур В. В. Бычкова [59]. Но допустимо ли, корректно ли анализировать Слово Божие, как и любой сакральный текст, с точки зрения науки о литературе? Не обесценивает ли такой подход его божественный авторитет? Как замечает известный американский филолог-библеист Роберт Альтер в своей книге «Искусство библейского повествования» [444], для многих ученых связать религиозное и эстетическое в Библии «не просто даже на словах». Ведь если «говорить, например, «о поэтике библейского повествования, -пишет он, — значит предполагать, что Библия — это литературное произведение. Не просто произведение искусства, не нечто с характерными для него эстетическими свойствами, не произведение, использующее так называемые литературные приемы. но именно литературное произведение». А это, по мнению ученого, конечно, не так [449. С.100]. Американский богослов Кеннет Дж. Форман полагает, что хотя «Библия — литературное произведение, то есть творчество. ни один из ее авторов не ставил красоту выше истины. Главным для них было четко излагать весть, а литературный стиль стоял далеко на втором месте» [392. С.4]. Безусловно, библейский мир — это особый художественный мир, существующий по своим собственным законам, и правы те ученые, которые считают, что нельзя модернизировать библейский текст, навязывая ему современные эстетические представления и каноны [450. Р.312]. Однако Библия, принадлежащая, по словам Я. Парандовского, «к высочайшим взлетам словесного искусства» [296. С.27], это не только Слово Божие, но и слово человека, наделенного художническим даром, осененного свыше благодатью. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно» (Еккл., 12.10). В этой связи хотя Священное Писание не является литературным произведением как таковым, его символику, жанры, сюжеты все-таки можно осмысливать с эстетических позиций. Кроме того, категория «текст», на которую мы будем опираться в анализе, — это то общее, что есть в художественной литературе и Библии.
Литература
осуществляется как письменный текст. Церковь хранит священный текст — Библию, свод ветхозаветных и новозаветных книг, определенных в канон. По словам М. М. Бахтина, «текст (письменный и устный) <. > первичная данность <. > всего гуманитарно-филологического мышления <. > в том числе <. > богословского и философского мышления в его истоках» [29. С.281].
Нас будет интересовать характер бытования библейского текста как текста канонического в русской романтической поэзии, его взаимодействия с поэтическим контекстом. Наша задача — посмотреть, как в светской поэзии преломляется библейская традиция, каким содержанием наполняются религиозные символы, жанры, сюжеты, обладают ли они только эстетической ценностью или сохраняют и первоначальное религиозное значение, относятся ли русские поэты-романтики к Библии как сугубо эстетическому арсеналу или на них также большое влияние оказывает духовный мир Свягценного Писания, насколько сильны в их поэзии романтические аллюзии и параллели, связывающие Библию со злободневностью.
Основными теоретическими источниками явились:
— оригинальные труды философов, эстетиков, деятелей культуры Европы и России, оказавших наибольшее влияние на формирование романтического типа мышления и романтической эстетики, прежде всего И. Канта, И. Г. Фихте, Ф.В. П1еллинга, И. В. Гете, В. Г. Вакенродера, Ф. Д. Шлейермахера, Г. Гейне, В. Гюго, Д. Г. Байрона, Ф. Р. Шатобриана, Новалиса, Г. Ф. Гегеля, П. Б. Шелли, А. И. Галича, Д. В. Веневитинова, В. А. Жуковского, В. К. Кюхельбекера, В. Ф. Одоевского, A.A. Бестужева, Н. И. Надеждина, В. Г. Белинского;
— творения Отцов Церкви, ряд аскетических творений: свв. Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Лествичникановейших русских духовных писателей: еп. Феофана Затворника, еп. Игнатия (Брян-чанинова), св. еп. Тихона, прот. И. Кронштадского, арх. Софрония (Сахарова) и др.;
— сочинения русских религиозных философов: B.C. Соловьева, КН. Леонтьева, В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, СП. Булгакова, СЛ. Франка, H.A. Бердяева, — посвященные вопросу взаимоотношений искусства и религии.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественной историко-литературоведческой науке предпринята попытка рассмотреть религиозную основу русского романтизма в качестве единого генетического концептуально-теоретического ядра его эстетики и поэзиив выдвижении концепции, согласно которой романтизм как художественно-эстетическая мировоззренческая система принципиально отличается от христианства как религиозной мировоззренческой системы и в то же время, имея христианские истоки и оставаясь явлением христианской художественной культуры, близок ему в своих интенциях, имеет с ним немало обгцих черт и обгцей терминологиив концептуальном осмыслении нетрадиционной романтической религиозностив характеристике романтизма как особой формы Богопознания, неразрывно связанной с трагическим самопознанием человеческой личностив утверждении, что путь к этому самопознанию в поэтической практике романтиков гнел через переосмысление религиозной символики, трансформацию канонических религиозных жанров — псалмов и молитв, — модификацию религиозных мифов и создание неомифов. Концептуально-сравнительный анализ показывает, что, хотя религиозная и светская системы организации духовного опыта человека находятся в принципиально разных сферах, разрыв между ними относительный и потому библейско-евангельская традиция (используемая романтиками для утверждения новой религии), преломляясь в романтической поэзии и приобретая качественно иной характер (не просто «вливаютъ вина нова в мехи ветхи» — Мф. 9:17, а старые мехи, оказавшись в романтическом контексте, становятся отчасти новыми), сохраняет в то же время религиозную основу библейских первообразов.
Диссертация вносит супдественный концептуально-организующий вклад в рассмотрение проблемы «Русский романтизм и религия». Авторские выводы и положения могут инициировать последующие исследования в этой неисчерпаемой для научных разысканий области. Возможно дальнейшее углубление в первоисточники, обоснование темы, расширение круга имен, произведений поэтов так называемой «второй величины».
Материалы диссертационного исследования возможно использовать для концептуальной перестройки сложившихся ценностных ориентиров романтизма, для понимания феномена светской романтической религиозности. Теоретические и практические положения работы могут быть введены в программы вузовских курсов преподавания истории и теории литературы, спецкурсов по проблемам литературы XIX века, по методике литературоведческого анализа, в подготовку цикла спецкурсов, посвященных проблеме «Русская литература и христианство» и т. д.
Основные положения диссертации и полученные результаты обсуждались на кафедре истории литературы ЧелГУ (1992, 1994, 1997), на кафедре литературы МГИК (г. Москва, 1992), на кафедре литературы и русского языка ЧГАКИ (1989;2000), на кафедре русской литературы УрГУ им. A.M. Горького (2000).
Отдельные фрагменты и идеи исследования получили освещение и обсуждались на конференциях:
— международных («Россия и Восток: проблемы взаимодействия» -Челябинск, 1995; «Россия в истории мировой цивилизации» -Челябинск, 1997; «Человек на рубеже нового тысячелетия» -Челябинск, 1997; «Русская литература: национальное развитие и региональные особенности» — Екатеринбург, 1998;
— 15-ти всероссийских («Культура — источник возрождения духовности народа» — Омск, 1993; «Духовность и культура» — Екатеринбург, 1994; «Кармановские чтения» — Ижевск, 1995; «Судьба России: духовные ценности и национальные интересы» — Екатеринбург, 1996; «Место и значение фольклора и фольклоризма в национальных культурах: история и современность» — Челябинск, 1998; «Дергачевские чтения» — Екатеринбург, 2000 и др);
— на всесоюзном семинаре в МГИКе (г. Москва, 1992);
— межвузовских и региональных («Проблема характера в литературе» — Челябинск, 1990; «Бирюковские чтения» — Челябинск, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998; Проблемы русской духовности и современности" - Хабаровск, 1993; «Проблемы духовности человека в раскрываюгцихся горизонтах отечественной философии» — Челябинск, 1993; «Проблемы адаптации социально-культурной сферы к рыночной модели хозяйства» — Челябинск, 1996; «Лермонтовские чтения» — Екатеринбург, 1999 и других);
— итоговых научных конференциях ЧГАКИ (1990;2000).
Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора: «Религиозные истоки эстетики и поэзии русского романтизма: Монография» (Челябинск, 2000. — 12 п.л.) — в статьях и тезисах (25 названий общим объемом 20,5).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, девяти параграфов, заключения и списка использованной литературы, содержащего 466 наименований. Общий объем работы составляет 312 страниц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Таким образом, библейско-евангельская традиция преломляется в русском романтизме как в эстетических теориях, где она питает философско-эстетическую мысль романтиков, так и в художественной практике, где она принимает различные формы: форму лирического переживания религиозных состояний и настроений, форму поэтического воплогцения идей о Боге и мироздании, форму художественного переосмысления религиозных символов, жанров, мифов для раскрытия эмоционального и душевного строя личности, ее умонастроения, осмысления и видения мира. Религиозные формы самовыражения романтического автора дали нам основание предположить, что романтики пытались в своей художественной практике создать своеобразную религию — религию личности.
Конечно, об особой роли личности как объекта и субъекта творчества в романтическом искусстве сказано давно. Еще И. В. Гете видел основу байронической, т. е. романтической поэзии в неодолимом стремлении «к беспредельной личной свободе» при полном «конфликте с человечеством» [426. С. 153]. Говоря о желании романтиков создать синтетическое искусство, которое бы вобрало в себя характерные особенности всех прежних художественных систем, де Ла-Барт писал: «Такой силой, которая сможет объединить эти различные начала, претворить и переработать их, романтики считают творческую деятельность гениального «я» [124. С. 139]. А. Н. Веселовский, определяя романтизм как «либерализм», связал его с идеей «свободного самовыражения человеческой личности» [73. С.517]. В романтизме, писал М. И. Хоффман, «только отдельный индивид-субъект имеет значение. Мир, противостоящий ему, объект находится в его власти, является игрушкой в его руках» [454. Р. 122].
Однако признаваемое большинством теоретиков искусства положение об особом статусе личности как методологической основе романтизма послужило аргументом для различных, порой прямо противоположных интерпретаций. Исходя из того, что дух христианства есть «дух овнутрения» («Царство Божие внутрь вас есть», Лк. 17:21) и апелляция к «внутреннему человеку» характерна как для учения Христа и христианской экзегетики, так и для романтического искусства (поскольку, как говорил Г. Гегель, «подлинным содержанием романтизма служит абсолютная внутренняя жизнь» [100. XIII. С.81], а В. Г. Белинский отмечал, что для романтика «внутренний мир его огцугцений и видений интереснее всех фактов действительности» [30. IX. С.519]), одни ученые именно в этом видели близость романтизма к христианству и романтической личности к Богу. В такого рода исследованиях романтический автор и его герой давали решение коренных жизненных противоречий в духе христианского смирения и сострадания (анализ К. К. Зейдлицем позиции В. А. Жуковского в его лирике) [159. С.257]. В этом же ряду нужно рассматривать точку зрения о типологическом родстве между романтическим героем и «идеальным человеком христианства», которое находят в универсализме (понимаемом как пространственная необъятность и глубина внутреннего мира личности, ее протеизм и многогранность), глобальности добровольно возложенного на себя бремени, принадлежности двум мирам и т. д. [205. С.28]. Авторы другой точки зрения, доказывая мысль об абсолютно самоценной, внутренне независимой человеческой личности, которая в романтическом универсуме, по сути дела, заменяет Бога (и опираясь при этом также на авторитет Г. Гегеля, утверждавшего, что романтическое «искусство отбрасывает от себя всякое прочное ограничение определенным кругом содержания и постижения и делает своим новым святым Человека» [100. XIII. С. 167−168]), выдвигали тезис об отлучении романтизма от религии, а романтической личности как ни в чем неограниченной, свободной индивидуальности — от Бога [273. С.47−58] (на этом построена, например, концепция И. И. Замотина, который называет основным мотивом романтизма «индивидуализм, доведенный. до высокого культа личности» [155. С.75]). А. Ф. Лосев также подчеркнет, что романтизм как «одно из самых крупных направлений. эстетики Нового времени» и как «фокус всех главнейШИХ течений эстетической мысли, исходивгпих от Баумгартена и Вин-кельмана», «был той новой исторической ступенью, на которой главную роль стал играть сам человеческий субъект, сама человеческая личность, или, как тогда предпочитали выражаться, само «я» или «дух». «Это я, — пишет ученый, — стало трактоваться и как основа всего бытия, и как стихия величайшего, гениального человеческого творчества, и как бесконечность, и, в конце концов, как единое и подлинное божество» [253. С.141]. Обе научные тенденции имеют длительную историю, восходят, как мы отметили выше, к дореволюционным фундаментальным трудам, и если в первую легко вписывается романтический герой В. А. Жуковского и И. И. Козлова, то во вторую — в русской литературе, в основном, герой М. Ю. Лермонтова.
Мы в своем исследовании пришли к выводу, что романтизм как художественно-эстетическая система в своих интенциях одновременно и близок к христианству, как системе религиозной, и принципиально отличается от нее (поскольку она покоится на догматах и обусловлена символом веры). Все меняется на уровне мировоззрения. Религиозные истины осмысляются у романтиков более в категориях земного бытия, чем в догматической форме. Происходит некоторое' изменение в понимании Замысла о мире, перенесение акцентов в рамках религиозного в своих истоках миропонимания. В анализе нами показано, что романтики, переосмысляя, например, религиозную идею двоемирия, которая лежит в основании их представлений о мире и искусстве, создают в своих эстетических теориях (гл. 1) и художественной практике (гл. 2−5) совершенно иную, чем в христианстве, картину мира. Также они переосмысляют и религиозное понятие личностного начала. Романтики признают человека важнейшей ценностью земного бытия, мерою всех вегцей. «При мысли великой, что я человек. Всегда возвышаюсь душою», — под этими словами В. А. Жуковского мог бы подписаться любой художник романтического искусства. В таком понимании личности романтики — продолжатели идей Ренессанса и Возрождения. Это не противоречит и христианству, которое ставит человека очень высоко: «Я сказал: вы Боги» (Ин. 10:34). Отличия заключаются в том, как обосновывается непреложность такого понимания. Гуманизм ренессанского типа объявляет человека высшей ценностью, поскольку он самое совершенное творение природы, «венец всего живущего» (Шекспир), Просвегцение возносит человеческий разум, поскольку лишь он выделяет человека среди всех одушевленных тварей. В христианстве может быть принято лишь одно: человек есть высшая мера всех вегцей, ибо он создан по образцу и подобию Божьему. По самому Замыслу Создателя о мире человек поставлен в центр бытия, сделан средоточием всего творения, и в то же время он немыслим без связи с Богом. Единственное, что возвышает его над всеми тварями, — это возможность обрести утраченное в первородном грехе после жертвы Спасителя. «Остается вечной истиной, — писал H.A. Бердяев, — что человек в том лишь случае сохраняет свою высшую ценность, свою свободу и независимость от власти природы и обгцества, если есть Бог и Богочеловечество» [34. С.278]. Романтическое восприятие мира, христианское в своих истоках, в то же время, как мы отметили, есть следствие торжества гуманистических идей Ренессанса и Возрождения, лежагцих в основе идеологии Нового времени. Отсюда религиозная трактовка человека в романтизме приглушается, идеал личности здесь связан с индивидуальной неповторимостью, с сильной волей в стремлении к поставленной цели. Христианское сознание не отвергает неповторимости личности, но идеалом признает для себя нечто иное: подлинная личность должна нести в себе любовь и сострадание к ближнему, способность сознавать свое несовершенство, устыдиться его, склонность к покаянию в первородном грехе, готовность к самопожертвованию. Если в христианстве личность получает значение в силу принадлежности к универсальному миропорядку, в романтизме сама становится ипостасью мира (это и сближает творческие позиции В. А. Жуковского и М.Ю. Лермонтова). Страдание и скорбь личности в христианстве объясняются отпадением от Бога, прерванной с ним связью в результате первородного греха, в романтизме — оторванностью от неопределенного, неясного для самого художника идеала, в христианстве смирение личности — путь к Богу, в романтизме — как смирение личности, так и ее бунт — неприятие мира, в котором нет идеала. Провозглашая «я говорю истину», человек Нового времени (это в том числе и романтик), по мнению представителя духовенства [135. С.63], весь упор делает на «я», так что истина порой заслоняется претендуюгцим на абсолютную самореализацию личным началом. В крайних формах это ведет к самообожествлению, противопоставлению себя Создателю. Действительно, в творчестве романтиков (гл. 2−5) мы наблюдаем порой нарушение предусмотренной христианством иерархии ценностей: не человек изображается, мыслится, оценивается по критериям богоподобия, а к Богу прилагаются человеческие по природе своей мерки, не человек уподобляется Богу, но Бог — человеку. Бог начинает осмысливаться в чисто человеческих категориях, к горнему прилагаются мерки мира дольнего. Хотя, например, поэтическое богоборчество М. Ю. Лермонтова могло иметь отправной точкой библейскую легенду о единоборстве Иакова с Богом («. я видел Бога лицом к лицу — и сохранилась душа моя», Быт. 32:30), несомненно, что оно порождено сознанием человека Нового времени, уравниваюгцего человеческое «я» с божественным Промыслом и именно этим отличаюгцегося от библейского прообраза.
В то же время равное положение личности и Бога в романтической системе ценностей вовсе не означает, что связь между ними нарушена полностью. Человек в романтизме, на наш взгляд, не является самодовлеюш-ей ценностью (как, например, в деизме, где он абсолютно автономен и для его духовной жизни не требуется никакого обгцения с Богом), его бытие получает свое осмысление именно через связь с Богом. Об этом свидетельствует и жанр молитвы (гл. 5) в творчестве поэтов-романтиков. И хотя в литературной молитве романтизма Бог чаще всего, как мы показали, не может стать верховным очистителем от греха, так как молящемуся не дано полноты веры, необходимой для христианской молитвы, реальность предстояния пред Богом лирического «я» романтика не вызывает сомнения. Это и дает нам основание говорить о романтической религии. Конечно, это не традиционная религия (то есть определенное отношение человека к Богу, при котором человек безоговорочно признает примат Бога). Мы назвали ее экзистенциональной религией, найдя такое же отношение личности к Богу, как в романтическом искусстве, в философии предшественника экзистенциализма С. Кьеркегора (1813 -1855), датского теолога, философа-идеалиста и писателя, воззрения которого сложились под влиянием немецкого романтизма, а также антирационалистической реакции на гегелевскую философию [390. С.296]. Провозгласив примат личности над обществом и государством, С. Кьеркегор возвел человека до уровня Бога: мир человека — это мир Бога, а мир Бога — это мир человека. «Ничто так не вечно, как личность», — пишет он [132. С.5]. В то же время субъективная («экзистенциальная») диалектика С. Кьеркегора, которую он, как отмечено в науке [390. С.296], пытается принципиально противопоставить гегелевской объективной диалектике, «оказывается средством сохранить отношения личности к Богу» [132. С.5]. «Необходимости, — подчеркивает ученый, — С. Кьеркегор противопоставляет свободу и возможность, греху — веру, а не добродетель, счастью — отчаяние, банальным ценностям повседневной жизни (социальному положению, богатству, славе и т. д.) — напряженную внутреннюю духовную жизнь, всем видам традиционного героизма — героизм «рыцаря веры» [132. С.6]. Тот путь к Богу, который С. Кьеркегор намечает для личности (от эстетического начала через этическое — человек может и должен прийти к началу религиозному: предстать «перед лицом Бога»: вступить с ним в личный контакт [132. С.6]), напоминает нам движение лирического «я» к Богу в литературной молитве романтизма (гл. 5).
Идея создания своеобразной «религии человека» оказалась утопией, что для романтизма в какой-то степени закономерно. Приведя мнение Г. Гегеля о романтической эстетике как «духовном приключенчестве», А. Ф. Лосев заключает: «Если Гегель прав, то делается вполне понятным то обстоятельство, что романтики, несмотря на всю свою глубину и гениальность, за 50 лет не создали ни одной монолитной эстетической системы и не выразили себя ни в одной выдержанной до конца школе» [253. С.144]. В то же время, на наш взгляд, нельзя не признать плодотворность этой утопии, давшей импульс творческой разработке актуальных и для XIX, и для XX века идей, открывшей «эру экзистенциального сознания», которой была сужде-на долгая жизнь. Но это уже тема другого исследования.
Мы пытались показать в своей работе, что библейско-еван-гельская традиция приобретает в романтической поэзии качественно иной характер: библейский символ — переосмысляется, библейский Псалом и евангельская молитва — модифицируются, библейский миф преврагцается в неомиф. Однако при всей эстетизации библейских первообразов, преображении их в свете индивидуального мировосприятия поэтов, подчинении порой религиозного смысла чисто художественным задачам религиозная основа этих первообразов в поэтической системе романтизма сохраняет свое значение.
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 1. Проведенное исследование позволяет заключить: несмотря на то, что религиозная и светская культуры — две качественно различные формы отражения бытия, и такие понятия, как творчество, вдохновение, воображение, духовное делание, имеют в святоотеческой традиции противоположный общепринятому в миру смысл, определенная близость между ними, как системами организации духовного опыта человека, существует. Факт использования светской культурой какой-либо религиозной идеи, образа или знака не может не означать реального вхождения этой культуры в круг истинно религиозных категорий и смыслов, поскольку если в двух разных системах обнаруживается формальное сходство, то можно, в конечном счете, говорить о наличии диалога между ними. Кроме того, «для описания именно русской культуры, где процесс рас-церковления жизни не был завергнен и к началу нагпего века, сами границы между светской и духовной сферами не только могут, но и должны пониматься в бахтинском смысле слова: как сое-диняющиг различные явления национальной жизни в существенном единстве определенного типа культуры» (И. Есаулов). В связи с этим представляется, как кажется, актуальной и теоретически оправданной попытка, предпринятая в данном исследовании по тщательному изучению религиозной основы мыслительных интенций романтизма и выявлению того, каким образом эта основа проявилась в его эстетических теориях и художественной практике, повлияла на представления о мире и человеке, на концепцию творчества.
Анализ философско-эстетического наследия русских теоретиков романтизма показал, что истоки религиозной идеи двоемирия, лежащей в основе их эстетической системы, заключены в христианстве, а не в философии Платона, как считают современные исследователи (Е.В. Грекова), или в философии Канта (В.В. Ванслов). Выявлено, что, переосмысляя христианскую идею двоемирия с помощью новейгпей философии, романтики создают в своих теориях (гл.1) и художественной практике (гл.2−5) принципиально иную картину мира, чем в христианстве (где она покоится на религиозных догматах и обусловлена символом веры). В романтизме происходит обмирщение картины мира, но это не значит, что здесь начисто исключается религиозность, поскольку священный статус романтики придают искусству, понимаемому как форма постижения абсолютного духа, личности художника, выступающего посредником между двумя мирами, человеческой личности вообще. На основе проведенного анализа можно утверждать, что равное положение личности и Бога в романтической системе ценностей вовсе не означает, что связь между ними нарушена полностью. Человек в романтизме, на наш взгляд, не является самодовлеющей ценностью (как, например, в деизме, где он абсолютно автономен, и для его духовной жизни не требуется никакого общения с Богом), его бытие получает свое осмысление именно через связь с Богом. Об этом свидетельствует и жанр молитвы (гл.4) в творчестве поэтов-романтиков. И хотя в литературной молитве романтизма Бог чаще всего, как показано, не может стать верховным очистителем от греха, поскольку молягцемуся не дано полноты веры, необходимой для христианской молитвы, реальность предстояния пред Богом лирического «я» романтика не вызывает сомнения. Это и дает основание говорить о романтизме как особой форме Богопознания и назвать романтическую религию, в отличие от конфессиональной, экзистенциальной, найдя такое же отногнение личности к Богу, как в романтическом искусстве, в философии предшественника экзистенциализма Кьеркегора. При этом для утверждения новой религии романтики используют вполне традиционные религиозные категории (как и в христианстве, основным предметом созерцания для них является отношение конечного к бесконечному, художник выступает в роли демиурга, эстетическое созерцание уподобляется молитве, творческий акт приобретает значение обрядового действа и т. д.), а также библейские символы, жанры, мифы.
4. Изучение характера бытования библейского текста как текста канонического в светской поэзии позволяет сделать вывод, что библейская символика, легко входя в романтическую эстетику и сливаясь с ключевыми символами романтического мироощугце-ния, приобретает, однако, в романтической системе ценностей качественно иной характер. Художник-романтик (в нашем примере В.А. Жуковский), переосмысляя библейскую символику и наполняя ее мирскими смыслами, интерпретирует, в основном, второй уровень смыслового пласта Библии — уровень души (в системе христианской трихотомии: тело, душа, дух), оставляя в тени духовные библейские смыслы, в результате чего библейские понятия («Бог», «душа», «земля», «небо»), обогагценные в его поэтической практике эмоционально-психологическим содержанием и функционируюгцие в качестве символов определенных душевных состояний поэта и его героя, начинают выступать в то же время.
ПО отношению к библейской культурной традиции лишь в качестве аллегорийпри этом за «узорами» символических оттенков угадывается прочная основа религиозной тканибиблейские жанры — псалом и молитва, где человек предстает частью целого, рода прежде всего, по-новому интерпретированные и трансформированные в системе романтизма, модифицируются, становятся лирической исповедью индивидуума, характеризующей его отношение к миру (псалом В.К. Кюхельбекера), его умонастроение (лирическая молитва Д. В. Веневитинова, М. Ю. Лермонтова и др.), и в то же время органично усваивающей универсальную основу библейского источникабиблейский миф, из которого вырастает романтический миф о человеке («Агасвер» В. К. Кюхельбекера и «Агасвер, Вечный жид» В.А. Жуковского), субъективируется и превращается в неомиф, воспроизводя одновременно изначальные смыслы библейского образа.
Список литературы
- Аверинцев С.С. Поэты. М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1996. — 364 с
- Аверинцев С.С. Примечание // Контекст 1972: Лит.-теорет. исслед. М., 1973. — С.373
- Азаренко CA. О некоторых особенностях библейского символизма // Бытие культуры: сакральное и светское. Екатеринбург, 1994. -С.216−232
- Аксаков И.О. Сборник стихотворений. Ж: И. Д Сытин, 1886. — 107 с.
- Алексеев A.A. Текстология славянской Библии. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. — 256 с.
- Анненкова Е.И. Гоголь и декабристы: Творчество H.A. Гоголя в контексте лит. движения 30−40 гг. XIX в. М.: Прометей, 1989. — 172 с
- Аристотель. Об искусстве поэзии. М.: Гослитиздат, 1957. — 183 с.
- Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1986.1. Т.4. С.645−680
- Архангельский А. Огнь бо есть // Новьгй мир. 1994. — N2. — С. 230−242
- Архимандрит Феодор (A.M. Бухарев): pro et contra: лргчность И творчество архимандрита Феодора (Бухарева) в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. — 831 с.
- Асмус М.В. Творчество Романа Сладкопевца (конец V в. ок. 560 г) // Вести. Рос. гуманитар, науч. фонда. — 2000. — N3. — С. 189−210
- Астафьев H.A. Опыт истории Библии в России. СПб.: А. Ф. Маркс, 1889. — 523 с.
- Ахрамович В. Школа молитвы // Наука и религия. 1991. — N10. — С. 14−20
- Базанов В.Г. В.К. Кюхельбекер // Поэты-декабристы. М.- Л., 1950. -С.34−37
- Базанов В.Г. Элегический псалом // Глинка Ф. Н. Избранное. -Петрозаводск, 1949. С.341−465
- Базаров И., св. Воспоминания о Василии Андреевиче Жуковском // Изв. Второго Отд-ния имп. Акад. наук. 1853. — Т. П, вьш.4. — С.3−4
- Бальбуров Э.А. Русский космизм: философия, наука, поэзия, миф // Гуманитарные науки в Сибири. 1995. — N4. — С. 10−17
- Баратынский Е.А. Стихотворения и поэмы. М.: Худож.лит., 1971.- 222 с.
- Барт К. Очерк догматики: Лекции: Пер. с нем. М.: Алетейя, 1997. — 271 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. М.: Прогресс-Универс, 1994. — 616 с.
- Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1989. — Т.2.:
- Из записных книжек. Письма. 718 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества: Сб. избр. тр. / Прим. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова. М.: Искусство, 1972. — 423 с.
- Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1959. — Т.1−13. Ссылки даются на это издание с указанием в тексте тома и страницы.
- Бердяев Н.А. Воля к жизни и воля к культуре // Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. — С.162−174
- Бердяев Н.А. Новое средневековье: Размыгиления о судьбе России и Европы. М.: Феникс- ХДС-Пресс, 1991.-81 с.
- Бердяев Н.А. Русская идея: Основные пробл. рус. мысли XIX в. и нач. XX в. // О России и русской философской культуре: Философы рус. послеокт. зарубежья: Сборник. М., 1990. — С.43−271
- Бердяев Н.А. Философия свободы- Смысл творчества / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Л. В. Полякова. М.: Правда, 1989. — 607 с.
- Борковский Н.Я. Романтизм в Германии / Вступ. ст. А. Аникста. -Л.: Худож. лит., 1973. 567 с.
- Библейский богословский словарь. М.: Изд-во Свято-Владимир. Братства, 1995. — 567 с.
- Библия: Книги Свянценного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. USA: West-Germany, 1990. — 1217 с.
- Бог есть Слово, полное благодати и истины. Пермь: Обгц-во духов, просвегцения, 1994. — 220 с.
- Бодянский О. О словацких песнях. Ст. 2 // Моск. наблюдатель. -1835. 4.4. Критика. — С.23−24
- Бондарь СВ. Философско-мировоззренческое содержание «Изборников» 1073 и 1076 годов / АН УССР. Ин-т философии. Киев:1. Наук, думка, 1990. 149 с.
- Брандес Г. Новые веяния: Лит. портреты и критические очерки: Пер. с нем. СПб.: Пантеон лит., 1889. — 338 с.
- Буало Н. Поэтическое искусство. М.: Гослитиздат, 1957. — 231 с.
- Бужаков СП. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения / Ассоц. со-вмест. предприятий междунар. об-ний и орг. Сергиев Посад, 1917. — 315с
- Булгаков С.Н. Догматическое обоснование культуры // Вести. Рус. Студен. Христиан. Движения. 1930. — N7. — С. 19−27
- Булгаков С.Н. Жребий Пушкина // Булгаков С. Н. Тихие думы. -М., 1996. С.251−269
- Булгаков С.Н. Православие: Очерки учения православ. церкви. -М.: Терра, 1991. 413 с.
- Буслаев Ф.И. Народная поэзия: Истор. очерки Ф. И. Буслаева. -СПб.: Тип. ими. Акад. наук, 1887. 501 с.
- Буткевич П.И. Религиозные убеждения декабристов // Вера и разум. 1899. — N3. — С.7−25
- Бытие культуры: сакральное и светское: Сб. ст. / Урал. гос. ун-т- Отв. ред. А. В. Медведев. Екатеринбург, 1994. — 254 с.
- Бытие человека в культуре: Опыт онтол. подхода / АН Украины. Ин-т философии. Киев: Наук, думка, 1992. — 173 с. 59. бычков В.В. AESTETIKA PATRUM: Эстетика Отцов Церкви. 1. Апологеты. Блаженный Августин. М.: Ладомир. — 593 с.
- В.А. Жуковский критик: Ст. и письма. — М.: Сов. Россия, 1985. — 317 с.
- Вайнп1тейн О. Деррида и Платон: Деконструкция Логоса // Мировое древо. 1992. — N1. — С.50−72
- Вайнштейн О. Язык романтической мысли: О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. М.: Изд-во РГТУ, 1994. — 79 с.
- Вайнштейн С. Госпожа де Сталь мыслитель переходной эпохи. -СПб.: Ильин, 1902. — 382 с.
- Вакенродер В.Г. Достопримечательная музыкальная жизнь композитора Иосифа Берглингера / / Немецкая романтическая повесть. М.- Л., 1935. — С.85−98бб.Ванслов В. В. Эстетика романтизма М.: Искусство, 1966. — 402 с.
- Вейдле В.В. Умирание искусства: Размышления о судьбе лит. и худож. творчества. СПб.: Аксиома, 1996. — 332 с.
- Веневитинов Д.В. Избранное. М.: Гослитиздат, 1956. — 259 с.
- Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений: В 2 т. М.- Л.: Academia, 1934. — Т.1. — 535 с.
- Веневитинов Д.В. Стихотворения. Поэмы. Драмы. М.: Худож.лит., 1976. 125 с.
- Веселовский А.Н. В.А. Жуковский: Поэзия чувства и сердечного воображения. Петроград: Науч. дело, 1918. — 550 с.
- Веселовский А.Н. Избранные статьи / Под общ. ред. М. П. Алексеева. Л.: Гослитиздат, 1939. — XXIV, 572 с.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высгп.шк., 1989. — 404 с.
- Вестник Европы. 1811. — N12. — С.34−38
- Вестник Европы. 1816. — N19−20. — С.8−1577.вилкко Э. Философско-эстетические идеи французского Просвещения в русском романтизме в 20-е гг. XIX века: Автореф. дис. .д-ра филол. наук. Хельсинки, 1991. — 57 с.
- Виноградов И.А. Гоголь художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания. — М.: Наследие, 2000. — 275 с.
- Власенко Т.Л. Религиозное сознание в драме (A.A. Шаховской, В. К. Кюхельбекер, А.Н. Островский) // Кормановские чтения: Материалы межвуз. науч. конф. Ижевск, 1995. — Вып.2. — С.36−48
- ЗО.Вороницын И. Н. Декабристы и религия. 2-е изд. — М.: Гослитиздат, 1928. — 53 с.
- Воропаев В.А. Малоизвестная часть творческого наследия Н.В. Гоголя: выписки из творений святых отцов и богослужебных книг // Вести. Рос. гуманитар, науч. фонда. 2000. — N3. — С. 120−127
- Всемирное писание: Сравнительный анализ священных текстов: Пер. с англ. / Под общ. ред. П. С. Гуревича. М.: Республика, 1995. — 590 с.
- Вып1еславцев Б. Этика преображенного Эроса. М.: Республика, 1994. — 367 с.
- Вяземский П.А. Вместо Предисловия к Бахчисарайскому фонтану. // Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.: В 2 т.- M, 1974. T.2. — C.148−154
- Вяземский П.А. Полное собрание сочинений: В 3 т. СПб.: С.Д.
- Шереметьев, 1880. Т.З. — 426 с. Зб. Габитова P.M. Философия немецкого романтизма: Фр. Шлегель,
- Новалис. М.: Наука, 1982. — 288 с. 8 7. Габон Г. Обгцественно-политические и философские взгляды декабристов. — М.: Знание, 1953. — 40 с.
- Гавриил, арх. История философии. Казань: Вести. Европы, 1840.- 4.6. 321 с.
- Гавриил, арх. Руководство по литургике или наука о православном богослужении. Тверь: Б.и., 1886. — 107 с.
- Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного: Пер. с нем. М.: Искусство, 1991. — 366 с.
- Гайденко П.П. Рациональность на перепутье: В 2 кн. М.: РОС-СПЭН, 1999. — Кн.1. — 367 с- Кн.2. — 463 с.
- Гайденко П.П. Трагедия эстетизма: Опыт характеристики миросозерцания Кьеркегора. М.: Искусство, 1970. — 247 с.
- Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. М.: Мысль, 1979. — 288 с.
- Гайм Р. Романтическая школа: Вклад в историю немецкого ума / Пер. с нем. М.: К. Т. Солдатенков, 1891. — 774 с.
- Галактионов А.А., Никандров П. Р. Русская философия XI-XIX в.: В 2 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. — Т.2. — 651 с.
- Галич А.И. Опыт науки изягцного // Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.: В 2 т. М., 1974. — Т.2. — С.205−276
- Гароди Р. О реализме без берегов: Пикассо. Сен-Джонс Перс. Кафка: Пер. с фр. / Предисл. Л. К. Аргона. М.: Прогресс, 1966. — 203 с.
- Гаспаров Б.М. Очерк истории русского стиха. М.: Наука, 1989. — 302 с
- Гегель Г. Сочинения: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1940. — Т.1−30. Ссылки даются на это издание с указанием в тексте тома и страницы
- Гейзер М.М. Библия в творчестве русских поэтов XIX начала XX вв. (A.C. Пушкин, С.Я. Маршак): Автореф. дис. .канд. филол. наук. — М., 1996. — 18 с.
- Герцен А.И. Сочинения: В 9 т. М.: Гослитиздат, 1955. — Т.2. — 516 с
- Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве / Под ред. A.C. Гущина. Л.- М.: Искусство, 1936. — 410 с.
- Гиллельсон М.М. Молодой Пушкин и арзамасское братство / АН СССР. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. — 226 с.
- Глинка Ф.Н. Избранное. Петрозаводск: Б.и., 1949. — 489 с.
- Глинка Ф.Н. Сочинения. М.: Сов. Россия, 1986. — 349 с.
- Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 12: Письма 1842−1845 / Ред. Г. М. Фридлендер. — 720 с.
- Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Рус. кн., 1994. — Т.8.: Исторические наброски. Выписки из творений святых отцов. — 860 с.
- Горбунова Л. Г. Творчество В.К. Кюхельбекера: Проблемы фантастики и мифологии: Пособие по спецкурсу. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. — 127 с.
- Грекова Е.В. Концепция уровневого развития в русском романтизме // Романтизм: эстетика и творчество. Тверь, 1994. — С.52−61
- Григорьев А. Воспоминания. М.: Наука, 1998. — 437 с.
- Григорьев А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1937. — 277 с.
- Григорьева E.H. Тема судьбы в русской лирике первой трети XIX века: Дис.. д-ра филол. наук в форме науч. докл. СПб., 1994. — 50 с.
- Григорьева Н.И. Жанровый синтез на рубеже эпох: «Исповедь»
- Громов М.Н. Максим Грек. М.: Мысль, 1983. — 199 с.
- Громов М.Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X—XVII вв.. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. — 285 с.
- Гуковский Г. А. Пугнкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965. — 354 с.
- Гуляев H.A. Системность в романтизме и ее основа // Миропонимание и творчество романтиков: Сб. тр. / Калинин, гос. ун-т. -Калинин, 1986. С.3−26
- Гуревич А.Я. Средневековый мир: Культура безмолвствующего больгнинства. М.: Искусство, 1990. — 395 с.
- Данилевский Р.Ю. Людвиг Тик и русский романтизм // Эпоха романтизма: Из истории междунар. связей рус. лит. М., 1975. — С. И3−121
- Дашков В.Д. О легчайшем способе возражать на критики. -СПб.: Вест. Европы, 1811. 48 с.
- Денисов Л.И. Житие, подвиги, чудеса, духовные наставления и открытия св. могцей преп. Серафима Саровского-чудотворца. М.: б.и., 1904. — 482 с.
- Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук: Пер. с фр. // Вести. Моск. ун-та. Сер.9, Филология. 1995. — N5. — С.170−189
- Дмитриев A.C. Религиозно-философские взгляды иенских романтиков и философские идеи Фихте // Вести. Моск. ун-та. Сер.9, Филология, 1976. N4. — С.19−32
- Дмитриев A.C. Романтизм и Просвещение борьба или взаимодействие // Вопр. лит. — 1972. — N10. — С.117−130
- Дмитриевский И. Историческое, догматическое и тагшственное изъяснение Божественной литургии. СПб.: И. П. Перевозников, 1897. — 213 с.
- Добротолюбие: В 12 т. М.: Рус. духов, центр, 1993. — Т. 1−12. Ссылки даются на это издание с указанием в тексте тома и страницы.
- Долгов K.M. От Кьеркегора до Камю: Философия. Эстетика. Культура. М.: Искусство, 1990. — 379 с.
- Долгов K.M. Парадоксы и антиномии современной эстетики и искусства // Эстетические исследования: Методы и критерии. М., 1996. — С.3−45
- Доусон К. Прогресс и религия. Брюссель: Б.и., — 1991. — 412 с.
- Ефрем Сирин. Творения: В 6 ч. 4-е изд. — Б.и.: Св. Троицкая Сергиева Лавра, 1900. — 4.4. — 430 с.
- Жадовская Ю.В. Полное собрание сочинений: В 4 т. 2-е изд., исп. и доп. — СПб.: И. П. Перевозников, 1894. — Т.1. — 372 с.
- Жак Деррида в Москве: Деконструкция путешествия: Пер. с фр., англ. М.: Культура, 1993. — 208 с.
- Живов В.М. Когцунственная поэзия в системе русской культуры конца ХУш- начала XIX века // Учен. зап. Тартус. гос. ун-т. -1981. Вып. 546. — С.85−97
- Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: И. П. Перевозников, 1914. — 256 с.
- Жирмунский В.М. Религиозное отречение в истории романтизма: Материалы для характеристики К. Брентано и гейдельберг. романтиков. М.: И. Д. Сытин, 1919. — 234 с.
- Жуковский В.А. Агасвер, Вечный жид. СПб.: И.П. Перевозни-ков, 1910. — 81 с.
- Жуковский В.А. Дневники / Примеч. И. А. Бычкова. СПб.: А. Ф. Маркс, 1901. — 535 с.
- Жуковский В.А. Нечто о привидениях // Жуковский В. А. Поли, собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. — Т.Ю. — С.48−61
- Жуковский В.А. О меланхолии в жизни и поэзии // В. А. Жуковский критик. — М., 1985. — С. 135−148
- Жуковский В.А. Собрание сочинений: В 4 т. М.- Л.: Искусство, 1959. — Т.1−4. Ссылки даются на это издание с указанием в тексте тома и страницы.
- Жуковский В.А. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1985. — 431 с.
- Замалеев А. Декабристы и христианство // Наука и религия. -1975. N12. — С.34−42.
- Зарубежные концепции истории и эволюции христианства: Реф. сб. М.: ИПИОН, 1990. — 169 с.
- Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия Жуковского 1773−1852: По неизд. источникам и лич. воспоминаниям. СПб.: Вест. Европы, 1883. — 257 с.
- Зеньковский В.В. История русской философии: Введение / / О России и русской философской культуре. М., 1990. — С.379−399
- Игнатий (Брянчанинов), еп. Из неизданных писем // Вести. Рус. Христиан, движения. 1977. — N121.-С. 17−2 5.
- Игнатий (Брянчанинов), еп. Письма Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского к Антонию Бочкову, игумену Череменецкову. М.: Б.и., 1875. — 140 с.
- Игнатий (Брянчанинов), св. Аскетические опыты: В 2 т. М.: Правило веры, 1993. — Т.1. — 568 с.
- Игнатий (Брянчанинов), св. Слово о человеке // Богослов, тр. -М., 1989. Сб.29. — С.275−298
- Игнатий (Брянчанинов), св. Сочинения: В 9 т. М.: Правило веры, 1993. — Т.7. Письма. — 345 с.
- Игнатий (Брянчанинов), св. Христианский пастырь и христианский художник // Москва. 1993. — N9. — С. 165−174
- Идейно-философское наследие Иллариона Киевского: Ч.1−2. -М.: Правило веры, 1986. 438 с.
- Из воспоминаний Ольги Н. // Рус. вести. 1887. — Ноябрь. — С.166−172
- Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. — 255 с.
- Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: Исслед.: В 2 т. М.: Рарогъ, 1993. — Т.2. — 448 с.
- Ильин И.А. Одинокий художник: Ст., речи, лекции. М.: Искусство, 1993. — 347 с.
- Ильюнина Л.А. Искусство и молитва: По материалам наследия старца Софрония (Сахарова) // Рус. лит. 1995. — N1. — С.218−225
- Иоанн (Экономцев), игумен. Православие. Византия. Россия. -М.: Христиан, лит., 1992. 230 с.
- Иоанн Кронштадский. Из слова в неделю по Просвепдению // Кронштад. пастырь. 1914. — N2 (11 янв.). — С.8−38
- История русской поэзии: В 2 т. / Отв. ред. Б. П. Городецкий. -Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. Т.1. — 560 с.
- История русской словесности: древней и новой: Соч. А. Галахо-ва. СПб.: А. Ф. Маркс, 1880. — 430 с.
- История эстетики: В 5 т. М.: Искусство, 1969. — Т.4, 1-й полутом: Русск. эстетика XIX в. / Ред-сост. В. В. Ванслов и др. — 783 с — Т.4, 2-й полутом: Эстетич. идеи народов России / Ред. сост. B.C. Мейлах и др. — 587 с
- Их вечен с вольностью союз: Лит. критика и публицистика декабристов / Сост. и коммент. С. С. Волка. М.: Современник, 1983. — 368 с.
- Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Ст. по философии рус. истории и культуры. М.: Правда, 1988. — 653 с.
- Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — 384 с.
- Каждая А.П. Византийская культура (Х-ХП вв.). М.: Наука, 1968. — 232 с.
- Каменский З.А. Н.И. Надеждин: Очерк философ, и эстетич. взглядов (1828−1836). М.: Искусство, 1984. — 208 с.
- Каменский З.А. Примечания // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2 т. М., 1974. — Т.2. — С.593−647
- Камчатнов A.M. История и герменевтика славянской Библии. -М.: Наука, 1998. 220 с.
- Канунова Ф.З. Нравственно-философские искания русского романтизма (30−40 гг) и религия: К постановке проблемы // Проблемы метода и жанра. Томск, 1997. — Вьш.19. — С.3−19
- Канунова Ф.З. Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия // Вести. Рос. гуманитар, науч. фонда. 2000. — N3. — С.114−120
- Канунова Ф.З., Слепцова Е.В. Библейские мотивы в «Агасвере»
- Карамзин Н.М. История Государства Российского. СПб.: Вести. Европы, 1816.- 483 с.
- Карпушин И.И. Искусство и религия: Истоки и грани взаимодействия. М.: Педагогика, 1991. — 159 с.
- Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности XII—XIII вв.еков. СПб.: Алетейя, 1996. — 342 с.
- Картагпова И.В. Взгляд на романтизм в канун XXI века // Романтизм и его исторические судьбы: Материалы междунар. науч. конф. (VII Гуляевские чтения): В 2 ч. Тверь, 1998. — 4.1. — С.4−8
- Картагпова И.В. Об эстетических и художественных открытиях раннего романтизма // Романтизм: эстетика и творчество. -Тверь, 1994. С.4−11
- Картапюва И.В., Семенов Л. Е. Романтизм и христианство// Романтизм: Вопр. эстетики и худож. практики. Тверь, 1994. — С.103−110
- Катенин П.А. Размышления и разборы // Лит. газ. 1830. — 21 янв. — С.7−8
- Киселева Л. Байроновский контекст замысла Жуковского об Агасфере // Новое лит. обозрение. 2000. — N42. — С.245−254
- Ключевский В.О. Очерки и речи. М.: М. и С. Сабашниковы, 1913. — 515 с.
- Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М.: АН СССР, 1968. — 372 с.
- Книга псалмов (Псалтырь) / Пер. в стихах П. Гребнева. М.: Вост. лит.- Шк-пресс, 1994. — 252 с.
- Коган ЛА Из истории гегельянства в России. М.: Наука, 1974. — 260 с
- Козлов И.И. Стихотворения. М.: Сов. Россия, 1979. — 175 с.
- Козлов И.И. Стихотворения. СПб.: А. Ф. Маркс, 1892. — 344 с.
- Козьмин П. Очерки из истории русского романтизма. СПб.: Вест. Европы, 1909. — 147 с.
- Комаров Ю.С. Обгцество и личность в православной философии.- Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1991. 188 с.
- Континент: Лит., публицист, и религиоз. Журн. / Редкол.: И. Виноградов и др. Париж: Б.и., — 1998. — 349 с.
- Корсунский И.Н. Труды Московской академии по переводу Св. Писания на русский язык // Прибавления к творениям Св. Отцов.- Сергиев Посад, 1889. С.327−415
- Косиков Г. К. Жан-Поль Сартр: Искусство как способ экзистенциальной коммуникации // Вести. Моск. ун-та. Сер.9, Филология.- 1995. N3. — С.163−168
- Котельников В.А. «Покой» в религиозно-философских и художественных контекстах // Рус. лит. 1994. — N1. — С.3−43
- Котельников В.А. О религиозно-нравственном отношении к слову у русских поэтов // Пушкинская эпоха и христианская культура: По материалам традиц. христиан. Пушкин, чтений. СПб., 1994. -Вьш.5. — С.9−26
- Котляревский H.A. М.Ю. Лермонтов: Личность поэта и его произведения. Петроград: Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. — 435 с.
- Котляревский H.A. Мировая скорбь в конце XVIII нач. XIX вв.- 2-е изд., испр. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1910. — 409 с.
- Котляревский H.A. Старинные портреты. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1907. — 457 с.
- Кошелев В.А. Батюшков Константин: Странствия и страсти. -М.: Современник, 1987. 349 с.
- Круг чтения: Лит. альм. Вьш. 6 / Ред. колл. С. С. Аверинцев и др. М.: Фортуна лимитед: Междунар. ассоц. творч. интеллигенции, 1998. — 125 с.
- Культурно-исторический диалог: Традиция и текст: Межвуз. сб. / С.-Петерб. гос. ун-т- Под ред. А. Б. Муратовой, CA. Адоньевой. —
- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993. 142 с.
- Кызласова И.Л. История изучения византийского и древнерусского искусства в России. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 183 с.
- Кэмпбелл Дж. Маски Бога: Созидательная мифология: Пер. с англ. М.: Золотой век, 1997. — Кн.1. — 332 с.
- Кюнг Г. Религия на переломе времен (тринадцать тезисов): О соотношении модерна и постмодерна: Пер. с нем. // Мировое древо. 1993. — N2. — С.65−76
- Кюхельбекер В. Избранные произведения: В 2 т. М., Л.: Сов. писатель, 1967. — Т.1. — 666 с.
- Кюхельбекер В.К. Избранные произведения: В 2 т. М., Л.: Сов. писатель, 1967. — Т.2. — 785 с.
- Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. — 789 с.
- Кюхельбекер В.К. Сочинения. Л.: Худож. лит., 1989. — 577 с.
- Лагутина И.Н. «Все преходягцее только подобие.»: (Романтический символ и Гете) // Романтизм и его исторические судьбы: Материалы междунар. науч. конф. (VII Гуляевские чтения). 4.1. -Тверь, 1998. С.51−56
- Ладушкин И.А. Исповедальное пространство псалмов // Осмысление духовной целостности. Екатеринбург, 1992. — С.233−248
- Леви-Строс К. Первобытное мышление / Пер. с фр. М.: Республика, 1994. — 382 с.
- Леви-Строс К. Структура мифов // Вопр. философии. 1970. -N7. — С.152−164
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Худож. лит., 1975. — Т.1. — 647 с- Т.2. — 598 с.
- Лермонтовская энциклопедия / Гл. ред. В. А. Мануйлов. М.: Сов. энцикл., 1981. — 784 с.
- Логачев К.И. Русская Библия вчера, сегодня и завтра // Лит. учеба. 1990. — N1. — С.91−97
- Лосев А.Ф. Конспект лекций по эстетике Нового времени: Романтизм // Лит. учеба. 1990. — N6. — С. 139−145
- Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. — 959 с.
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. — 524 с.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви: Догматическое богословие. М.: Мысль, 1991. — 287 с.
- Лотман Ю.М. О соотношении поэтической лексики русского романтизма и церковнославянской традиции // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: 1996. — С.754−756
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Л.: Искусство, 1970. — 384 с.
- Маковский М.М. Язык-миф-культура: Символы жизни и жизнь символов / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. Ж: Наука, 1996. — 329 с.
- Мальчукова Т.Г. «Тайно светит.» // Пугпкинская эпоха и христианская культура: По материалам традиц. христиан, пугакин. чтений. СПб., 1995. — Вып.7. — С.34−50
- Мальчукова Т.Г. Парафразы псалмов в русской поэзии 1820-х годов // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиц. христиан. Пушкин, чтений. СПб., 1996. — Вьш.10. — С.64−86
- Мамардашвили Н.К. Как я понимаю философию: Сборник / Предисл. Ю. П. Сенокосова. М.: Прогресс, 1990. — 365 с.
- Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. М.: Наука, 1976. — 372 с.
- Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М.: Искусство, 1969. — 304 с
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Вост. лит.- П1к. «Яз. рус. культуры», 1995. — 406 с.
- Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений: В 20 т. М.: Н. И. Сытин, 1914. — Т.16. — 205 с.
- Милютина Е.Г. Романтизм мифа и мифы романтизма // Романтизм и его исторические судьбы. 4.1. Тверь, 1998. — С. 16−23
- Милюков п. Главные течения русской исторической мьюли. 2-е изд. — М.: И. Д. Сытин, 1898. — 302 с.
- Мисюров H.H. Бог в романтическом универсуме (о принц-ипиальной «мифологеме» иенской гпколы) // Человек. Культура. Слово: Мифо-поэтика древняя и современная. Омск, 1994. — Вып.1. — С.47−58
- Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Редкол.: CA. Токарев (гл. ред.) и др. 2-е изд. — М.: Большая Рос. экцикл.: Олимп, 1998. — Т.1: А-К. — 671 с.
- Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. CA. Токарев. М.: Сов. энцикл., — Т.2: К-Я. — 1988. — 719 с.
- Михайлов A.B. Античность как идеал и культурная реальность XVIH-XIX вв. // Античность как тип культуры / Отв. ред. Лосев
- A. Ф. М., 1988. — С.308−324
- Московский Меркурий. 1803. — N12. — С.7−10
- Мочульский КВ. Гоголь. Соловьев. Достоевский: Сборник /Сост.
- B. М. Толмачев. М.: Республика, 1995. — 606 с.
- Наливайко Д. Романтизм как эстетическая система // Вопр. лит. 1982. — N11. — С.157−194
- Невидимая брань: Рус. православ. сб. / Сост. А. Морозов. М.: АИС «Весы», 1991. — 59 с.
- Немецкая романтическая повесть М.- Л: Academia, 1935. — 465 с.
- Новикова Е. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангельский текст и художественный контекст: Монография / Том. гос. ун-т. Томск, 1999. — 365 с.
- О России и русской философской культуре: Философы рус. после-окт. зарубежья: H.A. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский, П. А. Сорокин, Г. П. Федотов, Г. В. Флоровский. М.: Наука, 1990. — 528 с.
- Общественная мысль: Исследования и публикации: Сборник. -Вып.4. М.: Наука, 1993.- 253 с.
- Огарев Н.П. Избранные стихотворения и поэмы. М.: Гослитиздат, 1938. — 193 с.
- Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. — 317 с.
- Орехов СИ., Федяев Д. М. Необходимость антихриста // Бытие культуры: сакральное и светское. Екатеринбург, 1994. — С.249−260
- Ориген. О началах / Соч. Оригена, учителя Александрийского (П1 в.). Новосибирск: Центр дух. культуры, 1993. — 317 с.
- Орловский В.А. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Тверь: Булат, 1999. — 624 с.
- Осанкина В.А. Религиозные истоки эстетики и поэзии русского романтизма: Монография / Челяб. гос. пед. ун-т, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. Челябинск, 2000. — 264 с.
- Острецов В. Великая ложь романтизма // Слово. 1991. — N6. — С.9−14
- Панченко A.M. Книжная поэзия Древней Руси // История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968. — Т.1. — С.26−52
- Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни: Пер. с пол. М.: Правда, 1990. — 651 с.
- Пейчев Б. Философский трактат в Симеоновском сборнике.
- Киев: Наук, думка, 1983. 152 с.
- Переписка A.C. Пушкина: В 2 т. М.: Худож. лит., 1982. — Т.2. — 575 с.
- Письмо христианки о трех молчаниях // Сион, вести. 1817. -авт. — С.5−6
- Платон. Сочинения: В 3 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. М.: Мысль, 1970. — Т.2. — 611.
- Платонов Г. В. Сочинения: В 24 т. М.-Пг.: ГИЗ, 1923. — Т.23. — 459 с.
- Плетнев H.A. Сочинения и переписка: В 2 т. СПб.: Кн. изд., 1885. — Т.1. — 577 с.
- Полное собрание псалмов Давида, собранные А. Решетниковым: В 2 т. М.: И. Д. Сытин, 1809−1811. — Т.1. — 520 с.
- Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. СПб.: О-во духов, культуры, 1913. — 732 с.
- Полонский Я.П. Полное собрание сочинений: В 10 т. СПб.: Кн. изд., 1886. — Т.З. — 491 с.
- Пролог в поучениях: В 2 ч. / Сост. В. Гурьев. М.: Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 1992. — 4.1. — 432 с.
- Проскурин О. Новый Арзамас Новый Иерусалим. Лит. игра в культ.-истор. контексте // Новое лит. обозрение. — 1996. — N19. — С.73−128
- Пушкин A.C. Полное собрание сочинений: В 10 т. 2-е изд. -М.: Изд-во АН СССР, 1958. — Т.Ю. — 902 с.
- Пушкинская эпоха и христианская культура: По материалам традиц. христиан. Пушкин, чтений / Сост. Э. С. Лебедева. СПб.: Центр православ. культуры, 1993. — Вьш.З. — 80 с.
- Пьшин A.n. Масонство в России: XVIII и первая четверть XIX
- ВВ. М.: Век, 1997. — 486 с.
- Пятигорский А.М. Мифологические размышления: Лекции по феноменологии мифа: Пер. с англ. М.: ГИК «Яз. рус. культуры», 1996. — 280 с
- Ранк О. Миф о рождении героя: Пер. с англ. М.: Рефл.-бук.- Киев: Ваклер, 1997. — 249 с.
- Рижский М.И. История переводов Библии в России. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. — 208 с.
- Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: Моск. лекции и интервью: Пер. с фр. М.: KAMI- ACADEMIA, 1995. — 160 с.
- Рогачевская Е.Б. «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья»: Православная молитва глазами нашего современника // Художественный текст и языковая система: Сб. науч. тр. Тверь, 1996. — С.4−11
- Рогачевская Е.Б. Молитвословное творчество Кирилла Туровского: Проблемы текстологии и поэтики: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1993. — 31 с.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: В 2 т. / Под обгц. ред. А. Н. Николюка. М.: Республика, 1994. — Т.2. — 476 с.
- Розанов В.В. Сумерки просвегцения. М.: Педагогика, 1990. — 624 с.
- Романов Б. Поэты, пророки, цари: Ветхий Завет в рус. поэзии // Лепта. 1994. — N20. — С. 154−168
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1999. — 381 с.
- Рус. архив. 1866. — Вьш.6. — Стб.869
- Рус. архив. 1868. — Вьш.11. — Стб.1701
- Руссерль Э. Амстердамские доклады: Феноменологическая психология // Логос. 1992. — N3. — С.62−80
- Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: История эстетики в памятниках и документах: В 2 т. / Сост., вступ. ст. к прим. З. А. Каменского. М.: Искусство, 1974. — Т.2: Романтизм. — 647 с.
- Русский романтизм: Сб. ст. / Отв. ред. К. Н. Григорьян. Л.: Наука, 1978. — 285 с.
- Сакулин H.H. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель писатель: В 2 т. — М.: М. и С. Сабагпниковы, 1913. — Т.1., 4.1. — 616 с- Т.2., ч.2. — 479 с.
- Сакулин П.Н. Филология и культурология. М: Выспг Шк., 1990. — 240 с.
- Сборник суточных церковных служб, песнопений, главнейгпих праздников и частных молитвословий. Н. Новгород: Духов, центр, 1926. — 342 с.
- Семенко И.А. В.А. Жуковский // Жуковский В.А. Баллады. -М., 1987. С.435−470
- Семенов Л.Е. Романтизм и русская религиозно-философская мысль (Флоренский) // Культура и творчество. Тверь, 1995. — С.111−120
- Семенов Л.Е. Романтизм на рубеже тысячелетий: Размышление о воззрениях на романтизм в гуманитарном знании // Горизонты культуры накануне XXI века. Тверь, 1997. — С.78−90
- Семенова Е.В. Высокие жанры: стихотворное переложение псалмов, оды в русской поэзии XVIII—XIX вв.: Автореф. дис.канд. филол. наук. М., 1996. — 19 с.
- Сионский вестник. 1817. — дек. — С.31−32
- Скабичевский А. Сочинения. Критика, этюды, публицист, очерки, лит. характеристики: В 2 т. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1903. — Т.2. — 940 с.
- Слова преподобного Симеона Нового Богослова. 2-е изд. — М.: М. и С. Сабашниковы, 1890. — Вып.2. — 259 с.
- Соболев П.В. Очерки русской эстетики первой половины XIX в.: В 2 ч. / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. Л., 1972. — 4.1. — 264 с.
- Современные зарубежные исследования по романтизму: Реф. сб. М.: Изд-во АН СССР, 1976. — 234 с.
- Соколов Л.А. Епископ Игнатий Брянчанинов: Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения: В 2 ч. Киев: Б.и., 1915. — 4.1. -520 с.
- Соловьев B.C. Собрание сочинений: В 9 т. СПб.: Обгцеств. польза, 1906. — Т.5. — 552 с.
- Соловьев СМ. Об истории Древней России / Сост., авт. предисл. и примеч. А. И. Самсонов. М.: Просвегцение, 1992. — 544 с.
- Софроний (Сахаров), арх. О молитве. М.: Гнозис, 1996. — 127 с.
- Сочинения барона A.A. Дельвига. СПб.: А. Ф. Маркс, 1903. — 235 с.
- Спивак P.C. Русская философская лирика: Проблемы типологии жанров / Краснояр. гос. ун-т Красноярск, 1985. — 140 с.
- Сталь Жермена де. О Германии // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1967.- Т.З. — С.521−525
- Старец Силуан Афонский / Сост. Перомонит Софроний. М.: Подворье Рус. монастыря, 1996. — 462 с.
- Сурат М. Пушкин как религиозная проблема // Новый мир. -1994. N1. — С.207−222
- Сухов И. Феномен русской философии // Общественная мысль: Исслед. и публ. М., 1993. — Вьш.4. — С.40−52
- Сухонрша С. Поэзия декабристов // Всемир. вести. 1903. — N8. — С. 15−43
- Творения аввы Исаака Сириянина. Сергиев Посад: Духов, центр, 1911. — 342 с.
- Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. 3-е изд.: В 3 ч. — М.: Типо-литография Ефимова, 1891. — 4.2. — 311 с.
- Творения св. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского: В 3 ч. М.: Слово, 1989. — Ч.З. — 242 с.
- Творения св. отца нашего Ефрема Сирина. 4-е изд.: В 3 ч. -Сергиев Посад- Дух. центр, 1895. — 4.1. — 341 с.
- Тертерян И. Романтизм как целостное явление // Вопр. лит. -1983. N4. — С.151−181
- Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX века. М.: Индрик, 1997. — 456 с.
- Топоров В.Н. Миф, ритуал, символ, образ. М.: Прогресс: Культура, 1995. — 621 с.
- Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре: В 2 т. Т.1.: Первый век христианства на Руси. М.: Гнозис, 1995. — 74 с.
- Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре: В 2 т. Т.2.: Три века христианства на Руси. М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1998. 863 с.
- Традиции и наследие христианского Востока. Материалы меж-дунар. конф. / Отв. ред. Д. Е. Афиногенов, A.B. Муравьев. М.: Ин-дриг, 1996. — 245 с.
- Тредьяковский В. Сочинения: В 2 т. СПб.: Вести. Европы, 1849. — Т.1. — 280 с.
- Туманский В.И. Стиховторения и письма. СПб.: А. Ф. Маркс, 1912. — 217 с.
- Тургенев А.И. Хроника русского: Дневники. М.- Л.: Просвещение, 1964. — 343 с.
- Тьшянов Ю.Н. Пугпкргн и его современники. М.: Наука, 1969. — 424 с.
- Тысячелетие введения христианства на Руси. М.: ЮНЕСКО, 1993. — 240 с.
- Тэн И. Философия искусства: Италия. Нидерланды. Греция: Об идеале в искусстве / Пер. с фр. М.: Республика, 1996. — 350 с.
- Тютчев Ф. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1985. — 334 с.
- Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. М.: Гослитиздат, 1957. — 626 с.
- Тютюников A.A. Философско-эстетические основания художественной формы: (Романтич. тип мышления и проблема романной формы): Автореф. дис. канд. филос. наук. Екатеринбург, 1997. — 23 с.
- Федосенок И.В. Символика и аллегория в творчестве Н. Готорна // Романтизм и его исторические судьбы: Материалы междунар. науч. конф. Тверь 1998. — С. 119−122
- Федотов Г. П. О Св. духе в природе и культуре // Вопр. лит. -1990. N2. — С.205−212
- Федотов Г. П. Святые древней Руси. М.: Моск. рабочий, 1980. — 268 с.
- Федотов Г. П. Судьба и грехи России: Избр. ст. по философии и рус. истории и культуры: В 2 т. СПб.: София, 1991. — Т.1. — 350 с.
- Федяев Д.М. Гносеология греха: отклонение от идеала // Бытиекультуры: сакральное и светское. Екатеринбург, 1994. — С.80−101
- Феодор (A.M. Бухарев), арх. О духовных потребностях жизни. -М.: Столица, 1991. 316 с.
- Феофан (Говоров), еп. По поводу издания Священных книг Ветхого Завета в русском переводе // Дугпеполезное чтение. 1975. -N11. — С.17−23
- Феофан Затворник, еп. Путь ко спасению: (Краткий очерк аске-тики). М.: Типо-литография Ефимова, 1908. — 346 с.
- Феофан Затворник, еп. Собрание писем. М.: Типо-литография Ефимова, 1899. — Вып.5. — 284 с.
- Философия любви: Сб. ст. В 2 т. М.: Политиздат, 1990. — Т.1. — 508 с.
- Философия русского религиозного искусства XVI—XX вв.: Антология. М.: Прогресс: Культура, 1993. — 399 с.
- Философия Шеллинга в России / Под обгцей ред. В.Ф. Пустар-накова. СПб.: Паука, 1998. — 526 с.
- Философский энциклопедический словарь / Ред. кол.: С.С. Аве-ринцев и др. 2-е изд. — М.: Сов. энцикл., 1982. — 814 с.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Киев: Паук, думка, 1991. — 598 с.
- Форман К. Дж. Введение в Библию: Коммент. к кн. Ветхого Завета. Б.И.: ВСБ, 1992. — 170 с.
- Франк С. Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1998. — С.215−235
- Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура: Пер. с нем. М.: Ренессанс, 1992. — 296 с.
- Фрейд 3. Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии: Пер. с нем. СПб.: Алетейя, 1997. — 222 с.
- Хайдеггер М. Время и бытие: Ст. и выступления. М.: Республика, 1993. — 445 с.
- Хейзинга Й. Homo Ludens: В тени завтрашнего дня: Пер. с ни-дерл. М.: Прогресс, 1992. — 458 с.
- Ходанен Л.А., Афанасьева Э. М. Жанровая форма молитвы в русской романтической поэзии: К постановке пробл. // Современные проблемы гуманитарных дисциплин. Кемерово, 1996. -Вьш.2. — С.162−165
- Хопко Ф. Основы православия. Минск: Полифакт, 1991. — 338 с.
- Цикл молитв Кирилла Туровского: Тексты и исследования. -М.: Изд-во ЯРК, 1999. 135 с.
- Чаадаев П.А. Полное собрание сочинений: В 4 т. М.: Наука, 1991. — Т.1. — 798 с.
- Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М.: Гослитиздат, 1947. — Т.З. — 884 с.
- Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. 2-е изд. — М.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. — 347 с.
- Шавров М. Иов и друзья его: По поводу произведения Ф. Н. Глинки «Иов, свободное подражание Священной Книге Иова». -СПб.: Вести. Европы, 1859. 107 с.
- Шамаева CE. Жанр молитвы в лирике М.Ю. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Тез. межвуз. науч. конф. Ставрополь, 1994. — С.17−19
- Шамбинаго С. Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь). М.: Б.и., 1911. — 158 с.
- Шатобриан де Ф.-Р. Гений христианства // Эстетика раннего французского романтизма: Сборник. М., 1982. — С.94−220
- Шатров Н. Стихотворения. СПб.: Вести. Европы, 1831. — 103 с.
- Шевырев СП. История русской словесности. СПб.: Тип. имп. Акад. наук, 1887. — 4.1. — 214 с.
- Шевырев СП. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. М.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1853. — 217 с.
- Шевырев СП. Отрывок из междудействия к Фаусту: Елена, классич. романтич. фантасмагория // Моск. вести. 1827. — N21, 4.6. — С.87−91
- Шеллинг Ф.В. Введение в историю мифологии // Шеллинг Ф. Соч.: В 2 т. М., 1989. — Т.2. — С.159−374
- Шеллинг Ф.В. Система трансцендентального идеализма: Пер. с нем. Л.: Соцэкгиз, 1936. — 479 с.
- Шеллинг Ф.В. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1987. — Т.1. — 637 с- Т.2. — 720 с.
- Шеллинг Ф.В. Философия искусства. СПб.: Алетейя, 1996. — 496 с.
- ШиЕнков A.C. Записки, мнения и переписка адмирала A.C. Шишкова. В 2 т. СПб.: А. Ф. Маркса, 1885. — Т.1. — 485 с.
- Шишков A.C. Перевод двух статей из Лагарпа, с примечаниями переводчика. СПб.: Вести. Европы, 1808. — 105 с.
- Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим: Монологи: Пер. с нем. М.: REFL-book- Киев: WCA, 1994.-416 с.
- Шпет Г. Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. — 601 с.
- Шувалов СВ. Религия Лермонтова // Венок Лермонтову. -СПб., 1914. С.117−175
- Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни: Пер. с нем. М.: Худож. лит., 1981. — 687 с.
- Элиаде М. Аспекты миф: Пер. с фр. М.: Инвест-ППП, 1995. — 328 с.
- Элиаде М. Миф о вечном возврагцении: Архетипы и повторяемость: Пер. с фр. СПб.: Алетейя, 1998. — 249 с.
- Элиаде М. Священное и мирское: Пер. с фр. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 144 с.
- Эмирсуинова Н.К. Русская поэзия первой трети XIX века и религиозное сознание // Романтизм и его исторические судьбы.-Тверь, 1998. 4.2. — С.18−23
- Эпоха романтизма: Из истории междунар. связей рус. лит.: Сб. ст. / Отв. ред. М. И. Алексеев. Л.: Наука, 1975. — 284 с.
- Эстетика немецких романтиков: Пер. с нем. / Сост. А. В. Михайлов. М.: Искусство, 1987. — 733 с.
- Эстетика раннего французского романтизма: Сборник: Пер. с фр. М.: Искусство, 1982. — 480 с.
- Эстетические исследования: Методы и критерии / Рос. Акад. наук. Ин-т философии- Отв. ред. Н. М. Долгов. М.: ИФРАН, 1996. — 234 с.
- Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. Сборник / Сост. А. Д. Кошелев. М.: Гнозис, 1994. — 547 с.
- Юнг К. Г. Душа и миф: Шесть архетипов: Пер. с англ. М.- Киев: Port-Royal, 1997. — 383 с.
- Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени: Пер. с нем. М.: Прогресс: Универс-Пресс, 1994. — 329 с.
- Яворская Н.В. Романтизм и реализм во Франции в XIX веке. -М.: Изогиз- Полиграфтехникум, 1938. 208 с.
- Язвицкий Н. Об оде // Сын Отечества. 1815. — N23. — С. 131−132
- Языков Н.М. Полное собрание сочинений. М.- Л.: Сов. писатель, 1964. — 706 с.
- Януп1евич А. Жажда синтеза, или «Ах, если бы.» // Вопр. лит. -1998. Янв.-февр. — С.82−95
- Abrams М.Н. Natural supernaturalism: tradition and revolution in romantic literature. New lork: SGP. — 1973. — 189 p.
- Alter R. The Art of Biblical Narrative. New York: SGP, 1981. -295 p.
- Arendt D. Der «poetische Nihilismus» in der Romantik. Studien zum Verhдltnis von Dichtung und Wirklichkeit in der Fruhromantik. Bd. 12. Tubingen: Nimeyer, 1972. — Bd.I.XXI. — 238 s.- Bd.2. — 566 s.
- Barberis P. Lectures du reel. Paris: Ed. sociales, 1973. — 304 p.
- Barton G.A. The International Critical Commentary: A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ecclesiastes. Edinburgh: W.s., 1980. — 197 p.
- Bloom H. The ringers in the tower. Studies in romantic tradition. -Chicago-London: Kennikat press, 1971. 215 p.
- Buell L. Literary transcendentalism. Style and vision in the American Renaissance. Ithaca — London: Cornell univ. press, 1973. VIII. — 336 p.
- Collier L. L’epopee humanitaire et les grands myt hes romantigue. -Paris: Cedes, 1971. 372 p.
- Dauglas W.W. The Meanings of «Myth» in Modern Criticism // Modern Philology. 1952−1953. — V.50. — P.232−242
- Decottignies I. Essai sur la poetigue du cauchemar en France б lepogue romantigue. These: Univ. de Lille, 1973. — 632 p.
- Hajek I Konzept der sozialistisch en Literatur // Tagebuch. lanner, 1966. — S.11−12
- Krasuski I. Wielkie grzechy Romantyzmu. Prowokacja do diskusji // Kultura, W-wa. 1974.- 19 maja. — S. 1−5
- Leighton L.G. By way of a preface: On the state of Russian romantic studies // Ganad. Amer. Slavic studies = Rev. canad. d’etudes slavec. -Irvine (Cal.), 1995. Vol.29, N¾. — P.211−219
- Mucha B. «Panie, ratuj nas, bo giniemy!» Biblia w zyciu i tworczosci pisarzy rosyjskich pierwszej polowy XIX wieku // Biblia w literaturze i folklorze narodow wschodnios-towianskich. Krakow, 1998. — S. 183−205
- Peyre H. Qu’est ce gue le romantisme? — Paris: Presses univ de France, 1971. — 307 p.
- Piwowarska D. Symbolika biblijna w rosyjskiej poezji romantycz-nej. Obraz poety-proroka / / Biblia w litera turze i folklorze narodow wschodniosto-wianskich. Krakow, 1998. — S.207−229
- Roy C. Les soleils du romantisme. Descriptions critigues, XIX siecle (Essais). Paris: Gallimard, 1974. — 356 p.
- Semon M. Pujbkin, lefils prodigue transfigure // Rev. des etudes slaves. P., 1995. — T.67, fase 2−3. — P.337−352
- Smirnov I.P. Criptum sub specie sovietica // Rus. Language lourn. -1987. BdXLL — P.115−138
- Spengler O. Der Untergang des Alendlandes. Umrisse liner Morphologie der Weltgeschichte. Munchen: W.s., 1922. — Bd.2. — 362 s.
- Walicki A. Wodpowiedzi na prowokacje // Kultura, W-wa, 1974, 16 czerm. S.7−13
- Weimann R. Literatur-geschichte und Mythologie: Methodo-logische und historische Studien. Auf bau-Verlag Berlin und Weimar, 1971. 341 p.