Языковая структура образа рассказчика в жанре non-fiction
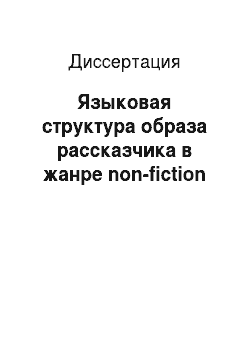
Сергей Беляков, проводя дискуссию на страницах журнала «Урал», пишет, что «нон-фикшн давно уже перестал быть приправой к толстожурнальной прозе. Теперь это едва ли не основное блюдо. А что же проза? А проза тем временем все больше мимикрирует, прикидываясь то дневником, то перепиской, то мемуаром. Современные писатели, изверившись в возможностях сочинительства, сами пришли к особому сорту… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Текст жанра non-fiction: языковая композиция и архитектоника
- 1. 1. Композиционно-языковой аспект жанра non-fiction
- 1. 2. Языковая композиция текста жанра поп-fiction
- 1. 3. Приемы архитектоники как элемент стиля текста жанра non-fiction
- Выводы
- Глава 2. Образ рассказчика в жанре non-fiction: языковой аспект
- 2. 1. Автобиографичность как важнейший композиционно-языковой принцип организации образа рассказчика в тексте жанра non-fiction
- 2. 2. Межтекстовые связи как организующий принцип построения образа рассказчика в тексте жанра non-fiction
- 2. 3. Взаимодействие элементов разных стилей в языковой структуре образа рассказчика
- Выводы
Языковая структура образа рассказчика в жанре non-fiction (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Диссертационное исследование посвящено анализу языковой структуры образа рассказчика в тексте жанра non-fiction на материале автобиографической прозы А. Рекемчука.
Одним из наиболее продуктивных направлений в развитии современного языкознания, по мнению исследователей, является антропоцентризм, ведь в нем, по словам Е. С. Кубряковой, «человек, языковая личность становится точкой отсчета для исследования языковых явлений» [Кубрякова 1995: 28]. В языкознании существует два понимания антропоцентризма: представители антрополингвистики понимают антропоцентризм как субъективизм [Антропологическая лингвистика. 2003: 58]- Л. М. Скрелина пишет, что антропоцентризм представляет собой «объединение внутренней и внешней лингвистики (имманентности и трансцендентности)» [Скрелина 1998: 39−40].
В тексте антропоцентрический уклон зависит в первую очередь от идиостиля писателя и его отношения к жизни. Как отмечает Е. А. Пескова: «Образ автора является организующим началом, фокусом всей лингвостилистической системы произведения. Писатель создает свое произведение для выражения самого себя, своего отношения к жизни. Самое „Я“ — эмоционально. Эмоции, чувства, побуждения, желания, стремлениявсе то, что составляет нашу духовную жизнь, что так или иначе отражается на деятельности нашего физического существа, все, что стимулирует нас к действию, все из чего складывается не зависящие от рассудка темперамент и характер человека, отражается в речи» [Пескова 2003: 31].
Присутствие в художественном тексте конструктивного личностного начала изучается исследователями с двух сторон: со стороны языковой и литературоведческой, которые, в свою очередь, объединены в стилистике.
Еще Б. В. Томашевский подчеркивал, что «связующей дисциплиной между языкознанием и литературоведением является стилистика» [Томашевский 1959: 5]. С позиции исследования языка художественного текста проблема существования авторской личности разрабатывается в рамках стилистики текста, ведь именно в ней осуществляется синтезирующий подход к тексту в единстве его содержательных, формальных элементов и с учетом целевой установки автора и условий общения.
Г. Я. Солганик отмечает, что в стилистике текста важными являются оба компонента: стилистика и текст: «Первый предполагает стилистический подход ко всем явлениям текста, второй обозначает предмет изучения и в соответствии с этим специфику стилистического изучения (изучаются не традиционные языковые единицы, а тексты)» [Солганик 1997: 3].
Наиболее перспективным в данный момент представляется развитие стилистики текста в коммуникативно-жанровом аспекте [Кайда 2011: 44]. Что касается проблемы жанра, нам кажется справедливой точка зрения В. И. Тюпы, который считает, что «литература рубежа веков стала периодом обновления самых разных видов и жанров художественного творчества, периодом рождения новых форм» [Тюпа 2006: 14].
Жанр — одно из наиболее сложных понятий в лингвистике и функциональной стилистике. Длительное время ведутся научные споры о его природе и сущности. Нет четкого и развернутого определения того, что следует называть жанром в языковом аспекте. А. Н. Кожин определяет жанр как «выделяемый в рамках того или иного функционального стиля вид речевого произведения, характеризующийся единством конструктивного принципа, своеобразием композиционной организации материала и используемых стилистических структур» [Кожин 1982: 59]. Л. Г. Кайда отмечает, что «жанр — это сигнал о том, где, в каких условиях и с какой целью использованы определенные языковые реалии» [Кайда 2011: 21].
В работах М. М. Бахтина показано, что литературные жанры в процессе формирования «вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в процессе речевого общения» [Бахтин 1986: 217]. В. К. Харченко отмечает, что исследование М. М. Бахтина «привело к созданию особого перспективного • направления, области антропоцентрического языкознания — жанроведения (генристики)» [Харченко 2009: 17].
Каждый литературный жанр имеет свои языковые и стилистические особенности, свою тематику, словарь, композицию и т. п. Эти особенности входят в художественный текст через первичные речевые жанры. Каждый первичный речевой жанр определяется тремя важнейшими моментами: тематическим содержанием, стилем и композиционным построением. Отметим, что границы между первичными и вторичными жанрами зачастую бывают размыты. Первичные жанры также могут отличаться сложностью внутреннего построения.
Анализируя язык русской прозы конца XX — начала XXI вв., Г. Д. Ахметова говорит о модификации направлений, стилей и жанров литературы, которая привела к следующим языковым процессам: метафоризация языка («уход в метафору»), активизация окказионально-авторского словообразования, модификация приемов субъективации (их взаимодействие и взаимоналожение), условность грамматического лица, появление невыделенной прямой речи и диалога-повествования, композиционные изменения (композиционные обрывы и вставки, повторы-рефрены и т. д.), усиление роли межтекстовых связей, феномен публицистической прозы, усиление средств графической изобразительности, явление грамматических «сдвигов» в художественных текстах [Ахметова 2006: 46].
Кроме того, в стилистике текста важным является вопрос о языковой организации художественных и нехудожественных текстов. А. И. Горшков отмечает, что «при всем своеобразии художественных текстов присущие им свойства и категории в большинстве своем обнаруживаются и в нехудожественных текстах. Например, такая, казалось бы, специфическая для художественных текстов категория, как образ автора, достаточно явственно обнаруживается и в научных текстах, не говоря уже о публицистических» [Горшков 2001: 66].
Л.Г. Кайда подчеркивает, что «в центре теоретических споров о приоритетах стилистики текста — функциональное исследование композиции как в художественном, так и в нехудожественном тексте» [Кайда 2000: 50].
Язык русской прозы конца XX начала XXI веков вызывает много споров. Н. Д. Тамарченко пишет: «Постмодернизм, будучи периодом глубочайшего кризиса уединенного сознания как культурообразующей ментальности, новой парадигмы художественности, как представляется, не выдвинул. Искусство постмодерна состоит в смешении („микст“, коллажность), в парадоксальном совмещении перечисленных коммуникативных стратегий, в метапозиционной игре с ними и может рассматриваться в лучшем случае как субпарадигмальное явление художественной культуры новейшего времени» [Тамарченко 2004: 103]. Г. Д. Ахметова указывает на сочетание в современной прозе традиций реализма и новых исканий, что позволяет «говорить о феномене постреализма (ср.: новый реализм, психологический реализм и др.), который вобрал в себя как особенности реализма, так и постмодернизма» [Ахметова 2006: 40]. М. Эпштейн отмечает: «На исходе XX века опять главенствует тема конца: Нового века и Просвещения, истории и прогресса, идеологии и рационализма, субъективности и объективности. Конец века воистину располагает себя в конце всего: после авангарда и реализма, после индустриализации и империализма. Смерть Бога, объявленная Ницше в конце XIX века, откликнулась в конце XX века целой серией смертей и самоубийств: смерть автора, смерть человека, смерть реальности, смерть истины» [Эпштейн 2001: 54].
Актуализирующееся в литературе последнего десятилетия активное личностное начало привело к усилению документальности, публицистичности, ослаблению сюжетной линии и появлению в тексте, писателя-творца (хотя это вопрос достаточно спорный). Так, по мнению.
Т.Г. Кучиной, в литературе XX — XXI вв. вопрос об аутентичности прочтения собственной жизни и понимания собственного «я» уже не задается [Кучина 2008: 8−18].
Н.Б. Анциферова в диссертационном исследовании говорит о модификации языковой композиции исповедальных текстов, так как происходит «смещение канала коммуникации «Я — Я» в сторону линии «Я — Он». При этом интимность и приватность дневника сменяются публицистичностью, установкой на массовое прочтение и открытостью [Анциферова 2010: 6].
Внимание ученых привлекает появление и широкое распространение жанра non-fiction. Существуют разные подходы к определению этого жанра. В словарях отмечается, что non-fiction / нон-фикшн (от англ. поп — не, fiction — беллетристикафикция) — прозаическое литературное произведение, не являющееся ни романом, ни повестью, ни рассказомлитература, не относящаяся к художественной [Фикция 2011].
Е.Г. Местергази пишет о множестве подходов к определению литературы non-fiction: «Можно выделить, по меньшей мере, три смысловых поля, на которые оно распространяется:
— «интеллектуальная литература» (понятие носит скорее коммерческий, чем научный характер). Такое значение склонны вкладывать в «non-fiction», например, организаторы ежегодной «Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non-Fiction» в Москве;
— есть также попытки применить его к низовой, массовой литературе, с одной стороны, а с другой, — разного рода практическим руководствам и пособиям, будь то психология поведения, диагностика кармы или кулинарные рецепты, а также многочисленным опытам в жанре расследования секретных материалов и пр.;
— литература, воспроизводящая реальность без участия вымысла. Легко отличается читателем от той, что принято называть художественной. В этом своем значении термин наиболее близок литературе факта, документальной литературе и пр. Используется также в других сферах искусства, и особенно в кинематографе" [Местергази 2007: 36].
Мы согласны с формулировкой Н. Б. Ивановой, которая в статье «По ту сторону вымысла» характеризует non-fiction так: «это самая настоящая изящная словесность, но без вымысла», которую «можно определить через свободное движение и сопряжение авторских мыслей и ассоциаций, управляемое искусством. Non-fiction есть все, что не fiction, но остающееся в пределах художественного письма (в пределах интеллектуально-художественного дискурса). Я отношу non-fiction к изящной словесности — а не просто к книгам как таковым, среди которых могут быть и пособия по математике и советы ветеринара» [Иванова 2005: 6−7].
К литературе non-fiction можно отнести автобиографическую прозу: дневники, мемуары, записки, зарисовки, а также повести и романы в письмах — это именно те жанры, в которых активно проявляется исповедальность.
По мнению исследователей [Садовникова 2004; Уваров 2011], у истоков исповедальной литературы находятся церковные традиции. Т. В. Садовникова отмечает, что «именно религиозная исповедь положила начало исповеди как литературному феномену. <. .> Впервые исповедь как литературный жанр проявила себя в „Исповеди“ Августина Блаженного, одного из наиболее почитаемых отцов церкви. <.> Русская традиция исповедально-биографической литературы ведет свое начало от Древней Руси. Особенно значительными произведениями того времени, написанными в жанре исповеди, можно считать „Житие протопопа Аввакума“ и „Житие Епифания Премудрого“. В русской литературе конца XIX — начала XX века исповедальное начало наиболее ярко проявлялось в „Исповедях“ JI.H. Толстого и М. Горького» [Садовникова 2004: 8−14].
В своем диссертационном исследовании Т. В. Садовникова указывает на то, что «понятие исповедальности оказывается шире собственно исповеди, поскольку исповедальность может быть свойственна произведениям как художественной, так и нехудожественной прозы, относящимся к самым разным жанрам» [там же: 15].
Об интересе к литературе, основанной на исповедальности и фактах, говорит С. Есин: «Современный читатель серьёзной литературы давно понял вторичность сюжета для собственных переживаний. <.> Следовательно, задача современного романиста и повествователя заключается в том, чтобы выдуманный мир как можно плотнее прилегал к настоящему, существующему. Написать роман так, чтобы было неясно, кто же его пишет — автор, один из героев или издатель» [Есин 2005: 152].
В. Шаламов определил новые каноны в развитии современной литературы и назвал ее «новой прозой»: «Огромный личный опыт: право дающий — писать. Где, автор — свидетель и, непосредственный участник. В силу этого в „новой прозе“, такие важные принципы, как форма и содержаниевидоизменяются и несут совершенно иные функциональные нагрузки, отпадает изживший себя вопрос о „характере в развитии“. На первое место выходит метод индивидуализации автора, его особый, художественный почерк, т. е. личная причастность к месту и действу. Новая проза должна иметь и новую форму. Это не что иное, как документ. Новая проза — это неопровержимое свидетельство существующего» [Шаламов 1998: 116].
Сергей Беляков, проводя дискуссию на страницах журнала «Урал», пишет, что «нон-фикшн давно уже перестал быть приправой к толстожурнальной прозе. Теперь это едва ли не основное блюдо. А что же проза? А проза тем временем все больше мимикрирует, прикидываясь то дневником, то перепиской, то мемуаром. Современные писатели, изверившись в возможностях сочинительства, сами пришли к особому сорту литературы — подражанию нон-фикшн. Добрую половину авторов объединяет именно стремление копировать действительность. Их интересует не столько окружающий мир, сколько они сами. Рефлективность и автобиографичность современной прозы бросаются в глаза даже самому неискушенному читателю. Современную прозу все труднее отличить от воспоминаний даже, подчас, от дневника. Впрочем, и дневник (хорошенько отредактированный и слегка беллетризованный) теперь мало отличается от иной „повести“, „рассказа“, или даже „романа“.» [Беляков 2006: 14].
Отметим, что вопрос о языковой организации текста жанра non-fiction остается нерешенным: объективные теоретические положения могут быть сформулированы на основе тщательного анализа большого количества текстов. Результаты этих исследований дадут большее представление о I языковых процессах в прозе рубежа XX — XXI вв. Именно в этом аспекте и следует рассматривать наше исследование, основанное на анализе языковой структуры образа рассказчика в автобиографической прозе А. Рекемчука.
Александр Евсеевич Рекемчук — один из писателей-прозаиков России второй половины XX — начала XXI века. Он родился 25 декабря 1927 года в Одессе. Детские годы прошли в Харькове. Окончил артиллерийское училище (1946) и заочно Литературный институт им. М. Горького (1952). Дебютировал как поэт в 1937 году. В 1964;67 годах был главным редактором киностудии «Мосфильм». С 1975 года ведет семинар прозы в Литинституте (профессор с 1988 г.), являясь одновременно президентом издательского дома «ПиК».
А. Рекемчук издал более двадцати книг: сборники рассказов «Стужа» (1956), «Берега» (1958), «Время летних отпусков» (1959) «Молодо-зелено» (1962) — повести «Товарищ Ганс» (1965), «Мальчики» (2001), «Пир в Одессе после холеры. Повести» (2003) — романы «Скудный материк» (1968), «Нежный возраст» (1979), «Тридцать шесть и шесть» (1984), «Мамонты» (2006) и др. По его, сценариям сняты кинофильмы «Время летних отпусков» (1960), «Молодо-зелено» (1962), «Они не пройдут» (1965), «Товарищ Ганс» (1966). А. Рекемчук дважды награжден премией еженедельника «Литературная Россия» (1986, 2000).
Из множества произведений А. Рекемчука мы остановились на его повести «Пир в Одессе после холеры» и романе «Мамонты», которые, по и нашему мнению, можно отнести к жанру non-fiction. На жанр non-fiction указывает и сам автор: «Моя книга не имеет никакого отношения к жанру fiction („фикшн“, „фикция“ — этот уничижительный термин применяется на западе ко всей художественной литературе), и повсюду, где будет хотя бы малейшая возможность опереться на документ, или печатный текст, я не упущу шанса сделать это, и лишь в тех случаях, когда у меня под рукой не окажется никаких доказательств, вам придется поверить мне на слово.» [Рекемчук 2006: 8: в данном исследовании ссылка дается на это же произведение]- «Суровые правила повествования non-fiction требуют полноты свидетельства и не допускают замены подлинных имен даже сходными по звучанию» [Рекемчук 2003: 147].
В автобиографической прозе А. Рекемчука находим следующие композиционно-языковые приемы организации текста: нетипичный для языка художественной прозы образ рассказчика, организующий повествованиеусложненная архитектоникамодификация стиляусловность грамматического лица (термин Г. Д. Ахметовой) — усиление межтекстовых связей.
Перечисленные процессы обнаруживают себя в языковой структуре текста жанра non-fiction, что отражается на языковой композиции и, соответственно, изменяет организующий ее центр — образ рассказчика. О возможности подобных модификаций писал В. В. Виноградов: «В стилевые и композиционные формы литературно-художественных жанров включаются разнообразные по своему стилистическому характеру социально-речевые средства, и тогда соотношение между литературными жанрами и стилями языка делается новым, необычным. И всё это сказывается и отражается в структуре образа автора» [Виноградов 1980: 107].
В прозе non-fiction тексты подписаны фамилией автора — творца произведения, который, в то же время, является героемповествование наполнено автобиографическими и документальными фактами (письма, фотографии). Это приводит к тому, что в сознании адресата текста стираются границы между образом автора / рассказчика и автором — творцом произведения.
Проблема смешения «автора-творца», «образа рассказчика» и «образа автора» на протяжении долгого времени является актуальной.
Текстообразующая категория «образ автора» на протяжении длительного времени привлекала внимание русских и зарубежных ученых. На Западе сочувственный отклик вызывала теория Р. Барта о «смерти автора», в которой «рождение читателя приходилось оплачивать смертью Автора» [Барт 1989: 391]. В России категория «образ автора» всегда рассматривалась вне разрывности с общим замыслом произведения.
В частности, разработкой теории «образа автора» занимался В. В. Виноградов. Категория рассказчика рассматривается В. В. Виноградовым в связи с разработкой понятия «образ автора». В статьях 20-х гг. ученый отмечал: «образ автора — это та цементирующая сила, которая связывает все стилевые средства в цельную словесноГ художественную систему. Образ автора — это внутренний стержень, вокруг которого группируется вся стилистическая система произведения» [Виноградов 1963: 92]. Здесь же впервые появляются термины «образ автора-рассказчика» и «образ писателя».
В более поздних работах В. В. Виноградов четко разграничивает понятия «образ автора» и «образ рассказчика» [Виноградов 2005: 113]. В концепции ученого «образ рассказчика» вторичен по отношению к «образу автора». Одним из способов выражения образа автора является рассказчик — «речевое порождение писателя», форма его литературного «актерства», «артистизма» [там же: 191].
Образ автора всегда присутствует в тексте, тогда как образ рассказчика появляется в тех случаях, когда рассказ ведется не непосредственно «от автора», а передается другому лицу, т. е. рассказчику.
Разработкой теории «образа автора», но уже с философско-эстетической точки зрения, занимался М. М. Бахтин, выделяя в художественном произведении «первичного автора» (писателя) и «вторичного автора» («образ автора») [Бахтин 1986: 353]. По мнению ученого, «Создающий образ (т.е. первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ» [там же]. М. М. Бахтин отмечал: «рассказчик — частично изображённый автор. <. .> За рассказом рассказчика мы читаем второй рассказ — рассказ автора о том же, о чем рассказывает рассказчик, и, кроме того, о самом рассказчике» [там же: 127].
Иными словами, «создающий образ» всегда находится за пределами текста, тогда как «сотворенный образ» является организующим центром сотворенного произведения.
Различие подходов к определению сущности «образа автора» не ставит под сомнение существование категории «образ автора» и один из его «ликов» — «образ рассказчика». Образ автора и образ рассказчика не могут быть тождественны друг другу.
Несовпадение образа автора и образа рассказчика в ряде случаев может привести к различию их языкового выражения. В. В. Одинцов в работе «Стилистика текста» обозначает границы: сфера автора — повествование, ориентированное на нормы литературного языка, сфера персонажей — прямая речь, включающая разговорно-просторечные элементы, сфера рассказчика — диапазон между первыми двумя, с каждой из которых она может полностью или частично совпадать [Одинцов 1980: 187].
Некоторые исследователи, напротив, не разделяют речевую структуру автора и рассказчика. Так, в работе O.A. Нечаевой «Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение)» рассказчик определяется как категория, которая не отличается от речевой структуры автора и наряду с ней входит в понятие, «повествователь». Разница между субъектными сферами автора и рассказчика лишь в том, что «повествование рассказчика экспрессивно-эмоциональнее, а отсюда и стилистически разнообразнее», тогда как авторское повествование тяготеет к нейтральности, следовательно, к стилистической ограниченности [Нечаева 1974: 148].
Граница между образом автора и образом рассказчика может изменяться (иногда даже стираться) в рамках одного произведения. В. В. Виноградов писал: «образ рассказчика, к которому прикрепляется литературное повествование, колеблется, иногда расширяясь до пределов образа автора. Вместе с тем соотношение между образом рассказчика и образом автора динамично даже в пределах одной литературной композиции. Динамика форм этого соотношения непрестанно меняет функции словесных сфер рассказа, делает их колеблющимися, семантически многопланными» [Виноградов 2005: 191].
В данный момент развития стилистики текста особенно актуальным представляется вопрос соотношения категорий «автора-творца» и «образа автора» в тексте жанра non-fiction с главенствующей документальной основой. Отметим, что проблема «образа автора» и его «ликов» рассматривалась в науке на материале художественной литературы. А ведь еще В. В. Виноградов писал: «Законы изменений структур литературно-художественных произведений и законы развития художественных стилей национальных литератур и мировой литературы в целом, не могут быть объяснены и открыты без тщательного изучения историко-семантических трансформаций „образа автора“ в разных типах и системах словесного творчества» [там же: 151].
Цель повествования в тексте жанра non-fiction — воспроизведение подлинных событий, что приводит к максимальной близости литературы и реальности. Это, на наш взгляд, создает ощущение полного совпадения «автора-творца», «образа автора» и «образа рассказчика».
А.И. Горшков пишет о заведомо ложной мысли, что если автор произведения рассказывает о себе, о своей жизни, то это не значит, что автор и рассказчик — одно и то же лицо. Он говорит о том, что при анализе словесного произведения нужно «твердо запомнить следующее: „Я“ в повествовательном произведении (прозаическом или стихотворном) однозначно указывает на образ рассказчика. Никакие личностные сходства или биографические совпадения дела не меняют. Автор может сделать рассказчиком кого угодно, в том числе и самого себя. Но в композиции словесного произведения даже самый близкий образу автора образ рассказчика все же останется образом рассказчика. Ни в коем случае не отождествляйте образ рассказчика с образом автора! Их надо всегда строго различать. В частности, „я“ в повествовании — всегда „я“ рассказчика, но не автора» [Горшков 2001: 190].
Проблема языковой организации образа рассказчика в жанре non-fiction является актуальной прежде всего потому, что этот жанр становится распространенным в последнее время, но не исследован в языковом плане. Возникает необходимость его изучения именно как востребованного временем самостоятельного жанра. В этой связи становится актуальной проблема соотношения организации языковой композиции художественных и нехудожественных текстов, а также языковой структуры образа рассказчика как организующего центра. Данная проблема в узком смысле связана с теорией стилистики текста, а в широком — с отражением основных положений антропоцентрической научно-культурной парадигмы, возникшей на рубеже XX — XXI веков.
Научная новизна исследования заключается, во-первых, в материале исследования, так как до настоящего времени попыток исследовать язык автобиографических произведений А. Рекемчука не предпринималось.
Во-вторых, в диссертации впервые рассматривается языковая структура образа рассказчика в тексте, относящемся к жанру non-fiction, а также определено соотношение литературы non-fiction и художественной литературы.
В-третьих, исследование посвящено анализу языковой композиции текста, написанного в жанре non-fiction, и ее организующему центру — образу рассказчика. Впервые на материале современной автобиографической прозы анализируются документальный и межтекстовый словесные ряды как важнейшие компоненты языковой композиции текста жанра non-fiction.
В-четвертых, анализируются основные языковые и архитектонические приемы создания образа рассказчика (автобиографичность, публицистичность, дневниковостьсубъективность, ассоциативность, эмоциональность и др.) в структуре текста жанра non-fiction на конкретном языковом материале.
Методологической основой для исследования послужили труды следующих ученых: М. М. Бахтина, А. Богуславского, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, JI.C. Выготского, В. М. Жирмунского, Ю. М. Лотмана, А. А. Потебни, Б. В. Томашевского, В. Б. Шкловского, Б. А. Успенского, Н. А. Кожевниковой, Е. И. Иванчиковой, О. А. Нечаевой, Л. А. Новикова, А. Н. Кожина, В. В. Одинцова, Е. В. Падучевой, Г. Я. Солганика, Н. С. Валгиной, Г. Д. Ахметовой, А. Г. Бодровой, Н. С. Болотновой,.
A.О. Болыпева, С. А. Борисовой, Л. О. Бутаковой, Н. В. Волковой, И. Р. Гальперина, Н. А. Гончаровой, А. И. Горшкова, И. П. Ильина, Л. Г. Кайды,.
B.И. Карасика, В. Г. Костомарова, Т. Г. Кучиной, Т. Г. Симоновой, В. Е. Хализева и др.
Работы данных учёных посвящены проблемам интерпретации текста, анализу образа автора с точки зрения его функционирования в тексте, проблемам определения жанра, архитектоническому строению текста, а также феномену документально-автобиографической прозы.
Методы исследования. 1. Общенаучный метод: наблюдение за особенностями языковой композиции текста анализируемых произведений. 2. Общефилологические методы: композиционный анализ, сопоставительный анализ, контекстологический анализ при рассмотрении словесных рядов в составе композиционных отрезков, композиционных отрезков в составе текста. 3. Контент-анализ: регистрация частоты появления ключевых слов в тексте.
Объектом данного исследования является проза non-fiction.
Предмет исследования — языковая структура образа рассказчика. В данном исследовании наряду с понятием «языковая структура образа» употребляется близкое ему понятие «языковая организация образа».
Цель исследования — проанализировать языковую организацию образа рассказчика в составе целого текста, относящегося к жанру non-fiction. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:
1) проанализировать явление языковой композиции в тексте жанра non-fiction;
2) выявить композиционно-языковой аспект образа рассказчика в тексте жанра non-fiction;
3) раскрыть соотношение архитектоники и языковой композиции в прозе non-fiction;
4) проанализировать принципы организации образа рассказчика в тексте жанра non-fiction.
Материал исследования — автобиографические произведения Александра Рекемчука «Мамонты» и «Пир в Одессе после холеры».
Положения, выносимые на защиту:
1. Выявление образа рассказчика как особого организующего композиционного центра в тексте жанра non-fiction может считаться самостоятельной проблемой изучения языка русской прозы. Языковая структура образа рассказчика в тексте жанра non-fiction определена сквозным движением документального словесного ряда, взаимодействующего с межтекстовым и разговорно-просторечным словесными рядами.
2. Для текста, относящегося к жанру non-fiction, характерна языковая композиция, отличительными признаками которой является существование в тексте постоянно взаимодействующих и переплетающихся разных точек видения, и архитектоника, которая определена наличием в тексте субъективности, ассоциативности и эмоциональности.
3. Раскрытию языковой структуры образа рассказчика в тексте жанра non-fiction способствует выявление композиционно-языкового аспекта текста жанра non-fiction. Это связано с приемами архитектоники, которые представляют элемент стиля текста жанра non-fiction.
4. Языковая структура образа рассказчика в тексте жанра non-fiction проявляется, прежде всего, в автобиографичности, которая раскрывается в дневниковости, публицистичности и использовании языковых элементов разных стилей, а также для нее характерно взаимодействие жанров и языковых элементов стилей.
Теоретическая значимость. Научные выводы могут послужить основой для дальнейшего изучения проблем стилистики текста, связанных с анализом языковой композиции и ее организующим центром — образом рассказчика, а также проблем, связанных с развитием теории жанров.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в вузовском курсе преподавания стилистики русского языка, филологического анализа текста, истории русской литературы, а также при разработке элективных курсов, знакомящих студентов со спецификой языковых процессов современной русской прозы.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав (часть языкового материала анализируется в I главе), заключения и списка литературы.
135 Выводы.
Языковая структура образа рассказчика в тексте жанра non-fiction проявляется в автобиографичности — отражение в литературном произведении событий из жизни автора, близости в каком-либо отношении автору героя произведения [Ожегов 2003: 17]. Автобиографичность связана со структурой повествования, организованной, как правило, от первого лица. Организующий центр в таком повествовании — образ рассказчика. Именно в автобиографичности заключается нетипичность образа рассказчика текста жанра non-fiction.
Автобиографичность раскрывается в дневниковости, публицистичности и взаимодействии языковых элементов разных жанров (репортаж, документ (допрос, протокол изъятия, биография, автобиография), дневник) и стилей (официально-делового, публицистического, разговорно-обиходного, научного, художественного и церковно-религиозного). Автобиографичность текста жанра non-fiction обусловлена обращением к собственному «я». Исповедальный характер повествовательной структуры обусловливают появление в тексте дневниковости. Дневниковость проявляется в обращении к бытовому, реальному, а не к вымышленному, фантазийному.
Межтекстовые связи характерный признак текстов жанра non-fiction. Межтекстовый словесный ряд — важный компонент языковой композиции. Взаимодействуя с другими (разговорным, документальным, публицистическим, общеупотребительным и др.) словесными рядами межтекстовый словесный ряд способствует развертыванию повествования и усложняет языковую организацию образа рассказчика. Межтекстовый словесный ряд в тексте жанра non-fiction отделен от повествования рассказчика пробелами и графически выражен курсивом. Это способствует архитектоническому членению текста, следовательно, усложняет архитектонику.
В автобиографической прозе А. Рекемчука нами выявлены следующие приемы межтекстовых связей: цитата, эпиграф, цитатные заглавия, аллюзия, «круг чтения героев», «текст в тексте». В автобиографической прозе чаще всего находим употребление автором приема аллюзии. Текстами-источниками для прозы А. Рекемчука служат такие «строительные блоки», как словарные и энциклопедические статьи, фрагменты текстов других писателей, библейские тексты.
Взаимодействие элементов разных стилей является особенностью жанра non-fiction. Языковые элементы разных стилей взаимодействуют в составе языковой композиции текста и организуют языковую структуру образа рассказчика. Для текста жанра non-fiction характерны две основные функции: информационная (сообщение каких-либо фактов из жизни героя) и экспрессивная (воздействие на эмоциональный фон читателя). Это сближает текст жанра non-fiction с публицистическим текстом, но не отождествляет их. Экспрессивность повествования нередко связана с употреблением в речевой сфере рассказчика разговорных языковых средств, что определяется включением в текст элементов разговорно-обиходного стиля. В автобиографической прозе А. Рекемчука документальный словесный ряд включает в себя элементы официально-делового стиля. Документальная основа — одна из важнейших черт текста жанра non-fiction.
Заключение
.
Организующим центром языковой композиции текста жанра non-fiction является образ рассказчика, динамическому развертыванию которого способствуют постоянно взаимодействующие словесные ряды.
Языковая структура образа рассказчика в тексте жанра non-fiction определена его автобиографичностью, которая раскрывается в дневниковости, публицистичности и использовании языковых элементов разных стилей, а также для нее характерно взаимодействие жанров и языковых элементов стилей.
Дневниковость повествования отражается в реальности описываемой действительности и характеризуется элементами исповедальности. Текст жанра non-fiction включает в свою структуру языковые элементы репортажа, допроса, протокола, биографии, автобиографии, дневника. Высокая степень достоверности представленного читателю материала определяет высокую степень автобиографичности.
В прозе А. Рекемчука наблюдается взаимодействие элементов разных стилей (официально-делового, публицистического, разговорно-обиходного, научного, художественного и церковно-религиозного), что также обусловлено автобиографичностью. Элементы разных стилей взаимодействуют друг с другом в языковой композиции текста жанра non-fiction. Выраженные различными языковыми и архитектоническими средствами они усложняют языковую структуру образа рассказчика в тексте жанра non-fiction.
Автобиографическая проза обусловливает появление элементов из жизни автора, поэтому такому тексту свойственна автобиографичность, которая обычно выражена номинативным совпадением образа автора, образа рассказчика и героя произведения. Но если автор произведения рассказывает о своей жизни, то это обусловливает появление в структуре текста образа рассказчика, а не самого писателя. Всякое «я» в тексте непременно указывает на образ рассказчика.
Употребление в речевой сфере рассказчика разговорно-просторечного словесного ряда отличает образ автора от образа рассказчика стилистически. Следовательно, образ рассказчика, организующий языковую композицию текста жанра non-fiction, может быть определен как явный рассказчик.
Языковая композиция текста жанра non-fiction определена движением взаимопроникающих, сталкивающихся и параллельно развивающихся разновидностей следующих словесных рядов: словесно-звукового, ритмико-интонационного, почтительно-разговорного, разговорно-просторечного, иронического, публицистического, атрибутивного, межтекстового, библейского, документального, графического (термин Г. Д. Ахметовой).
К отличительным признакам языковой композиции текста жанра non-fiction мы относим наличие в тексте постоянно взаимодействующих и переплетающихся разных точек видения (автор — рассказчик — герой). Образ рассказчика представляет собойсовмещение двух точек видения — рассказчика-взрослого и рассказчика-ребенка. Точкой отсчета пространственно-временного континуума рассказчика-ребенка является прошлое, а рассказчика-взрослого — настоящее. Но прошлое рассказчика-взрослого — это настоящее рассказчика-ребенка, а настоящее рассказчика-взрослого — это будущее для рассказчика-ребенка. Такая сложная система взаимодействия пространственно-временных сфер приводит к появлению и взаимодействию в тексте разных пространственно-временных планов.
Для архитектонического строения текста жанра non-fiction характерна прерывистость и фрагментарность повествования, включающего воспоминания и размышления, диалог, тексты-источники и др. Такая организация повествования обусловила разнообразие приемов архитектоники текста жанра non-fiction: непоследовательность в изложении событий, динамичность повествования, внешняя несоразмерность частей текста, построение повествования от лица рассказчика. В речевую сферу рассказчика автобиографического текста вводятся рассуждения и комментарии, выраженные чаще всего несобственно-прямой речью, осложнённой условностью грамматического лица.
Характерными чертами текста жанра non-fiction являются ярко выраженная субъективность, ассоциативность и эмоциональность повествования. Архитектоническое членение текста связано с комментариями рассказчика, его рассуждениями, образностью повествования. Свободное, ассоциативное построение повествования от лица рассказчика отражает общий замысел произведения и раскрывают индивидуально-авторские искания и их реализацию в тексте жанра non-fiction. Следовательно, выявлению языковой структуры образа рассказчика в тексте жанра non-fiction способствует раскрытие языкового выражения образа рассказчика в композиционно-языковом аспекте.
Для текста жанра non-fiction свойственно многочисленное использование приемов межтекстовых связей (цитата, реминисценция, аллюзия, «текст в тексте» и пр.), а также разнообразие текстов-источников (словари, произведения отечественных и зарубежных писателей, библейские тексты и др.). Приемы межтекстовых связей усиливают «типичность образов» или явлений произведения, входят в состав словесных рядов, которые мы назвали «межтекстовые». Межтекстовый словесный ряд, взаимодействуя с другими словесными рядами, организует языковую структуру образа рассказчика.
Итак, языковая структура образа рассказчика в тексте жанра non-fiction представляет собой такой компонент языковой композиции, который тесно связан с образом автора. Образ рассказчика в тексте жанра non-fiction организован взаимодействием динамически развертывающихся словесных рядов (документального, межтекстового, разговорно-просторечного). Наиболее типичными признаками языковой структуры такого рассказчика являются автобиографичность, межтекстовые связи и взаимодействие языковых элементов разных стилей.
Исследование языковой структуры образа рассказчика в составе языковой композиции текстов жанра non-fiction в аспекте стилистики текста проведено впервые. Результаты исследования, представленные в работе, могут явиться основой дальнейшего фундаментального изучения проблемы языковой организации образа рассказчика как структурного компонента языковой композиции текста на материале не только текста жанра non-fiction, но и произведений современной прозы в целом.
Список литературы
- Агаджанова М.Г. Образ автора как семантическая составляющая художественного текста Текст. / М. Г. Агаджанова: дис.. канд. филол. наук: 10.02.04 -М.: МПГУ, 1997. — 179 с.
- Антропологическая лингвистика: Концепты. Категории Текст.: коллективная монография под ред. д.ф.н., проф. Ю. М. Малиновича. — М.- Иркутск, 2003.-251 с.
- Анциферова Н.Б. Образ рассказчика в современной дневниковой прозе: языковой аспект (на материале дневников С. Есина, В. Гусева, Т. Дорониной) Текст. / Н. Б. Анциферова: автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.01 Улан-Удэ, 2010. — 25 с.
- Арнольд И. В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики Текст. / И. В. Арнольд. СПб., 1997. — 318 с.
- Арнольд И. В. Теоретические основы стилистики декодирования Текст. / И. В. Арнольд. // Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. — М., 1999. -214 с.
- Архитектоника. URL: // Режим доступа.: http://slovari.yandex.ru/ (дата обращения: 21.08.10).
- Ахметова Г. Д. Особенности языковой композиции художественного текста Текст. / Г. Д. Ахметова // Язык. Речь. Речевая деятельность. Межвузовский сб. науч. трудов. — Нижний Новгород: НГЛУ им. H.A. Добролюбова, вып. 5, 2002. —С. 10−16.
- Ахметова Г. Д. Языковое пространство художественного текста (на материале современной русской прозы) Текст. / Г. Д. Ахметова // Учебное пособие. СПб: Реноме, 2010. — 244 с.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Текст. / Р. Барт -М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Барт Р. Текстовый анализ Текст. / Р. Барт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1980. — С 307−312.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского Текст. / М. М. Бахтин: монография. М.: Сов. Россия, 1979. — 318 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества Текст. / М. М. Бахтин. М.: Искусство, 1986. — 445 с.
- Белова О.П. Своеобразие художественно-публицистической манеры Владимира Крупина: Текст. / О. П. Белова: автореф. дис.. канд. филол. наук. — Ульяновск, Изд-во Свердловского гос. ун-та, 2004. 39 с.
- Беляков С. Подражание поп fiction Текст. / С. Беляков // Урал. — 2006. С. 65.
- Богуславский А. Семантика текста и языка Текст. / А. Богуславский: монография. М.: Наука, 1976. — 314 с.
- Бодрова А. Г. Автобиографическая проза Ивана Цанкара Текст. /А.Г. Бодрова: автореф. дис.. канд. филол. наук. СПб: СПбГУ, 2007. — 24 с.
- Болотнова Н.С. Краткая история стилистики художественной речи в России (к истокам коммуникативной стилистики текста). Текст. / Н. С. Болотнова. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 1996. — 48 с.
- Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. Текст. / Н. С. Болотнова. — Томск, 2001. —125 с.
- Болыиев А.О. Исповедально-автобиографическое начало в русской прозе второй половины XX века Текст. / А. О. Большее: дис.. д-ра филол. наук: 10.01.01 СПб, 2003.-282 с.
- Борисова С.А. Онтологическая триада «Пространство — человек — текст» как специфическая коммуникативная система (психолингвистическое исследование) Текст. / С. А. Борисова: автореф. дис.. д-ра филол. наук. -М., 2004.-49 с.
- Борноволоков Д.Л. Чевенгур в повести А. Платонова 30-х гг.: К проблеме межтекстовых связей Текст. / Д. Л. Борноволоков: автореф. дис.. филол. наук. М.: МПГУ, 2000. — 22 с.
- Бунина С.Н. Автобиографическая проза М.И. Цветаевой: Поэтика, жанровое своеобразие, мировидение Текст. / С. Н. Бунина: автореф. дис.. канд. филол. наук. — Харьков, 1999. — 23 с.
- Бутакова Л.О. Авторское сознание в поэзии и прозе: Когнитивное моделирование Текст. / Л. О. Бутакова: монография. — Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2001. 283 с.
- Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке Текст. / Н. С. Валгина. М.: Логос, 2001. — 303 с.
- Варламов А. Популярность жанра нон-фикшн вполне закономерна / А. Варламов. 2007. Режим доступа.: URL: //http://www.rian.ru (дата обращения: 25.11.2009).
- Виноградов В.В. Язык и стиль русских писателей: От Карамзина до Гоголя Текст. / В. В. Виноградов. М.: Наука, 1990. — 386 с.
- Виноградов В.В. О теории художественной речи Текст. / В. В. Виноградов. — М.: Высшая школа, 2005. — 240 с.
- Виноградов В.В. О языке художественной прозы. Избранные труды Текст. / В. В. Виноградов. — М., 1980. — 257 с.
- Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика Текст. / В. В. Виноградов. М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 255 с.
- Виноградов В.В. Язык художественного произведения Текст. / В. В. Виноградов // Вопросы языкознания. 1954. — № 5. — С. 11.
- Винокур Г. О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика Текст. / Г. О. Винокур. М.: Наука, 1990. — 452 с.
- Волкова Н.В. Авторское «Я» и «маски» в поэзии B.C. Высоцкого Текст. / Н. В. Волкова: автореф. дис.. канд. филол. наук. Тверь, 2006. — 24 с.
- Волошина C.B. Речевой жанр автобиографического рассказа в тендерном аспекте (на диалектическом материале) Текст. / C.B. Волошина // Наука и образование: мат-лы VI науч. Междунар. конф. (2−3 марта 2006 г.). — Белово: КемГУ, 2006. 432 с. — С. 86−90.
- Выготский JI. С. Психология искусства Текст. / JI.C. Выготский: монография. — М.: Искусство, 1986. 326 с.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования Текст. /И.Р. Гальперин. -М., Наука, 1981. 139 с.
- Геляева А.И. Человек в языковой картине мира Текст. / А. И. Геляева: монография. — Нальчик: Кабардино-Балкарский гос. ун-т, 2002. — 177 с.
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе Текст. / Л. Я. Гинзбург. Л.: Советский писатель, 1971. — 463 с.
- Глухоедова H.H. Языковая композиция художественного текста: структурные компоненты (на материале романа Руслана Киреева «Апология») Текст. / H.H. Глухоедова: автореф. дис.. канд. филол. наук. -, j Улан-Удэ, 2009. 24 с.
- Годенко Н.М. Языковое выражение образа автора и образа рассказчика в русской прозе молодых авторов (по произведениям С. Агаева, А. Иванова, С. Толкачева, М. Шараповой) Текст. / Н. М. Годенко: дис.. канд. филол. наук. — М., 2003. — 170 с.
- Гончарова H.A. Композиция и архитектоника книгиТекст. / H.A. Гончарова. -М.: Астрель, 1997. С. 25−67.
- Горошко Е.И. Языковое сознание: Ассоциативная парадигма Текст. / Е. И. Горошко: автореф. дис.. д-ра филол. наук. М.: Ин-т языкознания РАН, 2001. — 41 с.
- Горшков А.И. Интертектуальность и межтекстовые связи Текст. / А. И. Горшков // Слово и текст в диалоге культур. М., Вопросы языкознания, 2000. — С. 124−134.
- Горшков А.И. Композиция художественного текста как объект лингвистического исследования Текст. / А. И. Горшков // Русский язык: Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. Виноградовские чтения. IX-X. -М., 1981. С. 82−91.
- Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 1011 класс. Текст. / А. И. Горшков. М.: Дрофа, 2004. — 464 с.
- Горшков А.И. Русская стилистика Текст. / А. И. Горшков. — М.: Астрель, 2001.-367 с.
- Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе Текст. / A.A. Грабельников. М.: Изд-во РИП-Холдинг, 2001. — 274 с.
- Даль В.В. Толковый словарь живого великорусского языка, в 4 тт.: -М.: Олма-пресс, -2002.
- Еремина Л.И. Графика как средство изобразительности в произведениях Л.Н. Толстого Текст. / Л. И. Еремина // Очерки по стилистике художественной речи. Отв. ред. А. Н. Кожин. — М., 1979. 178 с.
- Женетт Ж. Фигуры Текст. / Ж. Женетт. М.: Академия, 1998.125 с.
- Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии Текст. / В. М. Жирмунский. СПб: Азбука-классика, 2001. — 496 с.
- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса Текст. / Г. А. Золотова. -М.: Наука, 1982. 368 с.
- Золотова Г. А. Композиция и грамматика Текст. / Г. А. Золотова // Русский язык.-М., 1998. Вып. 39. С. 285−293.
- Иванова А.В. Субъективация повествования (на материале прозы В. Маканина) Текст. / А. В. Иванова: автореф. дис.. канд. филол. наук. -Красноярск, 2008. 24 с.
- Иванова Н.Б. По ту сторону вымысла Текст. / Н. Б. Иванова // Знамя. 2005. № 11.-58 с.
- Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личностиТекст. / Е. В. Иванцова: монография. — Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2002. 312 с.
- Иванчикова Е.И. Автор в повествовательной структуре исповеди и мемуаров (на материале произведений Достоевского) Текст. / Е.И. Иванчикова// Русский язык. -М., 1998. Вып. 39. С. 128−139.
- Иванчикова Е.И. Синтаксис художественной прозы Достоевского Текст. / Е. И. Иванчикова: монография. — М.: Наука, Ин-т рус. яз., 1979. 287 с.
- Ильин И.П. Постмодернизм: словарь терминов Текст. / И. П. Ильин // Ин-т научной информации по общим наукам- науч. ред. А. Е. Махов. М.: Интрада, 2001. — 3 84 с.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм Текст. / И. П. Ильин. М.: Интрада, 1996. — 251 с.
- Казанцева В.Г. Беллетризованная биография: проблема определения жанра и история жанра Текст. / В. Г. Казанцева // Вопросы филологии. 2007. — № 3 (27). — С. 64−69.
- Кайда Л.Г. Комплексный анализ художественного текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной связи Текст. / Л. Г. Кайда: учеб. пособие.- М.: Флинта, 2000. 152 с.
- Кайда Л.Г. Композиционная поэтика текста: монография Текст. / Л. Г. Кайда. М.: Флинта: Наука, 2011. — 408 с.
- Кайда Л.Г. Стилистика теста: от теории композиции к декодированию Текст. / Л. Г. Кайда. -М., 2005. 208 с.
- Карасик В.И. Языковые ключи Текст. / В. И. Карасик: монография. М.: Гнозис, 2009. — 406 с.
- Ким М. Н. Жанры современной журналистики Текст. / М. Н. Ким.- СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004. 336 с.
- Кожевникова H.A. Субъект повествования и структура художественного текста Текст. / H.A. Кожевникова // Теоретические проблемы стилистики текста: Тезисы докладов (25−27 сентября 1985 года). — Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 1985. — С. 97−98.
- Кожевникова H.A. Язык и композиция произведений А.П. Чехова Текст. / H.A. Кожевникова. Нижний Новгород, 1999. — 103 с.
- Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи Текст. / А. Н. Кожин // Крылова O.A., Одинцов B.B. М.: Наука, 1982. — 312 с.
- Кожина М.Н. К основаниям функциональной стилистики Текст. / М. Н. Кожина. Пермь: Пермский гос. ун-т, 1968. — 251 с.
- Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики Текст. / М. Н. Кожина. Пермь: Пермский гос. ун-т, 1966. 213 с.
- Кожина М.Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории Текст. / М. Н. Кожина. // Избранные труды. — Пермь: Пермский ун-т, ПСИ, ПССГК, 2002. 475 с.
- Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник. Текст. / М. Н. Кожина. // JI.P. Дускаева, В. А. Салимовский. М.: Флинта: Наука, 2008. — 464 с.
- Кожина М.Н. Стиль и жанр: их вариативность, историческая изменчивость и соотношение / Текст. / М. Н. Кожина. // Stylistyka. 1999. Вып. VIII.-С. 5−34.
- Костомаров В.Г. Наш язык в действии Текст. /В.Г. Костомаров: Очерки современной русской стилистики. М.: Гардарики, 2005. — 287 с.
- Кравченко A.B. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации Текст. / A.B. Кравченко: монография. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2004. — 206 с.
- Кристева Ю. Бахтин: Слово, диалог и роман Текст. / Ю. Кристева // Диалог. Карнавал. Хронотоп. — 1993. — № 3. — С. 5−6.
- Кройчик JI. Е. Система журналистских жанров / В кн.: Основы творческой деятельности журналиста Текст. / JI.E. Кройчик // Под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: 2000. — 224 с.
- Крысин JI. П. Толковый словарь иноязычных слов Текст. / Л. П. Крысин. М.: Русский Язык, 1998. — 848 с.
- Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века: (Опыт парадигмального анализа) Текст. / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века. М., 1995. — С. 82−85.
- Кузьмина H.A. Эпиграф в коммуникативном пространстве художественного текста. 1997. Режим доступа.: URL: // http://www.omsu.omskTeg.ru/vestnik/articles/yl997-i2/a060/article.html (дата обращения: 26.08.10).
- Курганская A.B. Межтекстовые связи в языковой композиции (на материале прозы Вячеслава Дегтева) Текст. / A.B. Курганская: автореф. дис.. канд. филол. наук. Архангельск, 2011. — 22 с.
- Кучина Т.Г. Поэтика русской прозы конца XX — начала XXI в.: перволичные повествовательные формы Текст. / Т. Г. Кучина: автореф. дис.. докт. филол. наук / Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. — 43 с.
- Кучина Т.Г. «Я"-повествователь как «ненадежный читатель» автобиографического претекста в русской прозе конца XX — начала XXI вв. Текст. / Т. Г. Кучина // Филологический науки. 2007. № 2. — С. 14−21.
- Левидов A.B. Автор — образ — читатель Текст. / A.B. Левидов: монография. 2-е изд., доп. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. — 350 с.
- Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики Текст. / М. Н. Липовецкий: монография. Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 1997. — 317 с.
- Лосева Л.М. Как строится текст Текст. / Л. М. Лосева. — М., Наука, 1980.
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха Текст. / Ю. М. Лотман. — Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1972. 271 с.
- Лотман Ю.М. Избранные статьи Текст. / Ю. М. Лотман: сб. статей. В 3 т. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. — 480 с.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв Текст. / Ю. М. Лотман. М.: Гнозис, Изд. Группа «Прогресс», 1992. — 272 с.
- Медарич М. Автобиография. Автобиографизм. Автоинтерпритация Текст. / М. Медарич // Сб. статей. СПб. 1998. — С. 5.
- Мельничук O.A. Повествование от первого лица. Интерпретация текста Текст. / O.A. Мельничук: монография. — М.: Изд-во Московского унта, 2002. 208 с.
- Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс Текст. / В. П. Москвин. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. 630 с.
- Мурзин Л.Н. Текст и его восприятие: монография / Текст. Л. Н. Мурзин, A.C. Штерн. — Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. — 171 с.
- Нечаева O.A. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение): учеб. пособие для вузов. Текст. / O.A. Нечаева. Улан-Удэ, Бурят, кн. изд-во, 1974. — 261 с.
- Николина H.A. Филологический анализ текста: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений Текст. / H.A. Николина. М.: Академия, 2003. — 256 с.
- Николина H.A. Поэтика русской автобиографической прозы Текст. / H.A. Николина. Учебное пособие. — М.: Флинта, 2002. — 424 с.
- Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ Текст. / Л. А. Новиков: учеб. пособие для вузов. -М., 1988. 300 с.
- Одинцов В.В. «Образ автора» и структура текста (проблемы поэтики романа Л. Толстого «Война и мир») Текст. / В. В. Одинцов // Русский язык в школе. 1978. — № 3. — С. 67−74.
- Одинцов В.В. Стилистика текста: монография. Текст. / В. В. Одинцов. М.: Изд-во ЛКИ, 1980. — 264 с.
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 ООО слов и фразеологических выражений Текст. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова // Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — М.: ООО «ИТИ Технологии», 2003. 944 с.
- Отшельник В.В. Реальный личный дневник. Режим доступа.: URL: // (http://www.dnevnikovedenie.ru/opredelenie dnevnika. html') (дата обращения: 25.08.10).
- Очерки по стилистике художественной речи: сб. науч. тр. Текст. / под ред. А. Н. Кожина. М.: Наука, 1979. — 254 с.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: монография. Текст. / Е. В. Падучева. М.: Наука, 1985. — 272 с.
- Папян Л.Ю. Словесная композиция романа А.Г. Малышкина «Люди из Захолустья» Текст. / Л. Ю. Папян: автореф. дис.. канд. филол. наук. Чита., 2010. — 22 с.
- Пескова Е.А. Об антропоцентризме прециозного стиля Текст. / Е. А. Пескова. СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. — С. 31−36.
- Поляков Э.Н. Субъективация авторского повествования в прозе В. Распутина Текст. / Э. Н. Поляков: автореф. дис. .канд. филол. наук. — М., 2005.-27 с.
- Попова Е.А. Нарративные универсалии Текст. /Е.А. Попова: монография. — Липецк: Изд-во ЛГПУ, 2006. — 144 с.
- Потебня A.A. Теоретическая поэтика Текст. / A.A. Потебня. — М.: Высшая школа, 1990. 344 с.
- Проективный словарь русского языка. Неология времени. Текст. / Семиотика и авангард. Антология. Ред.-сост. Ю. С. Степанов, H.A. Фатеева,
- B.В.Фещенко, Н. С. Сироткин. // Под общ. ред. Ю. С. Степанова. — М.: Академический Проект- Культура, 2006. сс. 1031−1076.
- Пьянзина И.В. Жанровое своеобразие мемуарно-автобиографической прозы A.A. Ахматовой Текст. / И. В. Пьянзина: автореф. дис.. канд. филол. наук. — Саранск, 2005. — 19 с.
- Садовникова Т.В. Исповедальное начало в русской прозе 1960-х годов (на материале жанра повести): дис.. канд. филол. наук: 10.01.01. Текст. / Т. В. Садовникова. Екатеринбург, 2004. — 204 с.
- Самарская Е.Г. Автобиографическое представление как репрезентант личности персонажа в художественном тексте: автореф. дис.. канд. филол. наук. Текст. / Е. Г. Самарская. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2008. — 22 с.
- Симонова Т.Г. Мемуарная проза русских писателей XX века: поэтика и типология жанра Текст. / Т. Г. Симонова: учеб. пособие. Гродно: ГрГУ. 2002.- 119 с.
- Скрелина JI.M. К вопросу об антропоцентризме. Текст. / JI.M. Скрелина // Романское языкознание в России и за рубежом. — СПб. 1998. —1. C.39−40.
- Солганик Г. Я. Стилистика текста Текст. / Г. Я. Солганик: учеб. пособие для вузов. М.: Флинта: Наука, 1997. — 256 с.
- Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика Текст. / Г. Я. Солганик. М.: КомКнига, 2006. — 232 с.
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной- члены ред. колл.: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта- Наука, 2006. — 696 с.
- Татару JI.B. Точка зрения и ритм композиции нарративного текста (на материале произведений Дж. Джойса и В. Вулф): автореф. дис.. док. филол. наук. Текст. / JI.B. Татару. — Саратов: СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2009. — 45 с.
- Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение Текст. / Б. В. Томашевский: курс лекций. — Л.: Учпедгиз, 1959. 535 с.
- Тульчинский Г. Л. Исповедь: бытие под взглядом, или Философический эксгибиционизм Текст. / Б. В. Томашевский. // Метафизика исповеди. СПб., Флис, 1997. — С. 39−44.
- Тураева З.Я. Категория времени: Время грамматическое и время художественное Текст. / З. Я. Тураева: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 1979. -134 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста Текст. / В. И. Тюпа: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006.-336 с.
- Уваров М.С. Архитектоника исповедального слова. Режим доступа.: URL: // http://www.philosophy.ru/library/uvarov/02/00.html (дата обращения: 15.04.11).
- Успенский Б.А. Поэтика композиции: монография / Текст. Б. А. Успенский. СПб.: Азбука, 2000. — 348 с.
- Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов Текст. / H.A. Фатеева: Контрапункт интертекстуальности. М.: Комкнига, 2006. — 280 с.
- Фикция. Non-fiction. 2011. Режим доступа.: URL: // http://etimology.net.ua/index.php?id=l415&action=showone man (дата обращения: 15.04.11).
- Хамаганова В.М. Описательный текст в семиотическом аспекте Текст. / В. М. Хамаганова. М. — Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2000. — 155 с.
- Харченко В. К. Дневники С.Н. Есина: синергетика жанра монография / Текст. В. К. Харченко. -М.: НИЦ «Академика», 2009. 176 с.
- Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности: коллективная монография- отв. ред. В. Н. Телия. — М.: Наука, 1991.-214 с.
- Шаламов В. Четвертая Вологда: Собрание сочинений в 4-х т.: Текст. / В. Шаламов // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. — М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998. Т. 4. — 493 с.
- Шалыгина О.В. Телеология поэтической прозы (А.П. Чехов — А. Белый Б. Л. Пастернак): электронная монография. — М. Издательский дом «Садовое кольцо», 2007. Режим доступа.: URL: // http://shalygina.chekhoviana.ru/aboutme.htm. (дата обращения: 14.08.10.).
- Шкловский В.Б. О теории прозы Текст. / В. Б. Шкловский: сб. науч. тр. — М.: Советский писатель, 1983. 384 с.
- Шмид В. Нарратология: монография. Текст. / В. Шмид. М.: Языки славянской культуры, 2003. — 312 с.
- Щукина К. А. Речевые особенности проявления повествователя, персонажа и автора в современном рассказе (На материале произведений Т. Толстой, Л. Петрушевский, Л. Улицкой): дис.. канд. филол. наук: 10.02.01. Текст. / К. А. Щукина. СПб., 2004. — 165 с.
- Эпштейн M. De' but de siecle, или От пост — к прото. Манифест нового века Текст. / М. Эпштейн // Знамя. 2001, № 5. С. 54−58.
- Черкашина Т.Ю. Художня бюграф! я: термшолопчний аспект. Текст. / Т. Ю. Черкашина // Вюник Луганського нацюнального ушверситету iMem Тараса Шевченка / Фшолопчш науки. Луганськ: ДЗ «ЛНУ ¡-м. Тараса Шевченка», 2009. 220 с. — С. 191−200.
- Barthes R. Le plaisir du text. Текст. / R. Barthes. P. 1973. — С. 78.
- Friedman, N. Point of View in Fiction. The Development of a Critical Concept / N. Friedman // Publications of the Modem Language Association of America. 1995.-Vol. 70.-p. 1160−1184.
- Genette G. Le statut pragmatique de la fiction narrative. // Poetique. -P. 1988. -№ 78. P. 237−249.
- Киреев P. 50 лет в раю. Текст. / Р. Киреев. М.: Время, 2008. —624 с.
- Рекемчук А.Е. Мамонты. Текст. / А. Е. Рекемчук. — М.: МИК, 2006. 600 с.
- Рекемчук А.Е. Пир в Одессе после холеры: Повести. Текст. / А. Е. Рекемчук. М.: МИК, 2003. — 368 с.
- Сахновский И.Ф. Нелегальный рассказ о любви: сборник: роман-хроника, рассказы, эссе. Текст. / И. Ф. Сахновский. М.: ACT: Астрель, 2009.-381 с.