Формально-семантические модели именного предложения в современном карачаево-балкарском языке
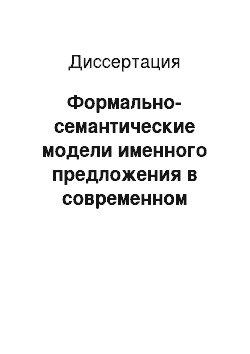
Семантический атрибут, как и семантический конкретизатор, является зависимым компонентом семантической структуры предложения. В лингвистике принято считать, что атрибут не является в а-лентностным компонентом структуры предложения, т. е. появление его не задается предикатом. С этим мнением нельзя не согласиться. Однако, он может носить облигаторный характер (Данеш, 1988: 78−87). В ряде работ… Читать ещё >
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ. ВАЛЕНТНОСТЬ И ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
- ГЛАВА I. МОДЕЛИ ИМЕННЫХ ДВУСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОДНОМЕСТНЫМИ ПРЕДИКАТАМИ
- 1. ОДНОМЕСТНЫЕ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
- I. Формально-семантические типы моделей предло-^ жений, построенных по схеме С^ - С^
- 2. Формально-семантические типы моделей предложений, построенных по схеме С| - Сг>
- 3. Формально-семантические типы моделей предложений, построенных по схеме С]- - С
- 4. Формально-семантические типы моделей предложений, построенных по схеме ^
- 5. Формально-семантические типы моделей предложений, построенных по схеме С^ - С^
- 6. Формально-семантические типы моделей предложений с предикатами, выраженными послеложны-ми сочетаниями
- 2. ОДНОМЕСТНЫЕ ФОРМАЛЫЮ-СЕМАНТШЕСКИЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
- I. Формально-семантические типы моделей предложений, построенных по схеме — ПР
- 2. Формально-семантические типы моделей предложений, построенных по схеме С^ - ПР — С
- 3. ОДНОМЕСТНЫЕ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ ИМЕНАМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ
- 4. ОДНОМЕСТНЫЕ ФОРМАШО-СЕМАИГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРВДОШИЙ С ПВДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ НА-РЕЧИШ 6S
- ПАВА II" ДВУХМЕСТНЫЕ ФОРШШО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ШЩШ
- ПВДОЖЕНИЙ С ИМЕННЫМИ ШВДКШМИ
- 1. ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕШ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИ ТЕДЬНЫМИ
- 2. ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ G ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
- 51. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме Cg — Cj — ПР
- 2. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме Cj — Cg — ПР
- 3. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме Cj — Cg — ПР
- 3. ФОРШЬНО-СШАНТИЧШСКИЕ МОДЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ НАРЕЧИЯМИ
- 4. ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПВДОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ СЛОВАМИ ВАР, ЖОКЪ
- ГЛАВА III. ТРЕХМЕСТНЫЕ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕМ ШЗДОЖШЙ С ИМЕННЫМИ ПРЕДИКАТАМИ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЩВДЩЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ ИМЕНАМИ СЩЕСТВИ-ТЕДЬНЫМИ
- 1. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме С^^ - CMAj — С^^
- 2. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме Сны£ - Сшх — ПР (С) — С
- 3. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме Cj — Cg — ПР — С
- 4. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме CHig — CHbJg — C-fcJMj — С ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
- ПРИЛОЖЕНИЙ G ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
- 1. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме CHHg — C-bMj — С^ ПР Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме Cj — Cg — Cg — ПР
- 3. Формально-семантические модели предложений, построенные по схеме Снь£ - Сым^ - Cg — ПР
- ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРВДСШНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ НАРЕЧШМИ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ СЛОВАМИ |АР, Ж®-,
Формально-семантические модели именного предложения в современном карачаево-балкарском языке (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Кая известно, предложение является многоаспектной синтаксической единицей, В еилу этого оно изучается с разных сторон. Нетория лингвистики показывает, что при изучении простого предложен ния одни лингвисты исходили из формальных критериев, а другие ухе давно осознали" что изучение синтаксическихктур невозможно без учета их смысловой стороны* Обзор имеющейся литературы показывает, что, начиная с 60-х годов, проявляется повышенный интерес к проблемам семантики в языкознании. Особый интерес вызывает у исследователей проблемы семантики предложения. Они занимают вентральное место во многих исследованиях (Арутюнова, 1976; Богданов, 1977; Ахмат (c)в, 1983; Арват, 1984 л др.). Усилиями их авторов в синтаксическую науку введены такие понятия, как «формальнаяктура пред-' ложения», «семантическаяктура предложения», «обязательные и факультативные члены предложения», «номинативный минимум предложения» и т. д.
Исследователи семантики простого предложения исходят из признания того, что предложение имеет как формальную, так и смысловую структуру, взаимодействие которых представляет собой сложный процесс. Учет формальной и смысловой сторон предложения очень важен для адекватного его описания.
Такой двусторонний характер имеет не только предложение, но и другие языковые единицы. При их изучении необходим учет формы и содержания. Полным подтверждением этого может служить положение В. И. Ленина о том, что «форма существенна. Сущность формированна» .
Ленин, Т.29: 129) и слова К. Маркеа: «Форма лишена всякой ценности, если она не есть форма содержания» (Маркс, Энгельс, ТД: 159).
Как отмечено вше, необходимость такого диалектического подхода к языку осознается и самими лингвистами* Так, в ряде работ подчеркивается, что учет соотношения формы и содержания остается одной из центральных ключевых проблем языкознания (Будагов, Х983: 56- Климов, 1983: 12- Плотников, 1989; 5). Решение этой задачи особенно важно для тюркологии, в которой в основном отдается дань традиционному описанию языка. Б частности, при изучении синтаксических единиц тюркологи в большинстве случаев опираются на формальные критерии, на что неоднократно указывалось в специальной лингвистической литературе (Ахматов, 1988: 211−215).
Соотношение между формой и содержанием предложения сложно и неоднозначно. Хотя форма и содержание его соотносятся друг с другом, между ними нет полной симметрии, параллелизма, ибо «если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня» (Маркс, Энгельс, Т.25, 4.2: 384).
При изучении предложения необходимо исходить из принципа единства формы и содержания, которые диалектически связаны между собой.
О семантизации лингвистических исследований сввдетельстгует ряд работ, вышедших в последнее время (см., например: Алисова, 1971; Богданов, 1977; Золотова, 1982 и др.). Естественно при этом появляется много дискуссионных вопросов. Это проявляетсяи в различных подходах к анализу смысла предложения. Как справедливо отмечает Н. Д. Арутюнова, наиболее широкое распространение получила денотативная, или референтная, концепция семантики предложения (Арутюнова, 1976: 6). Считается, что эта концепция определяет отношения между высказыванием (предложением) и отражаемой им внеязыковой ситуацией. Понятию ситуации разине исследователи придают различные значения (Гак, 1973: 358- Сильницкий, 1973: 373- Моекаль~ екая, 1981: 12).
Представители другого направления семантику синтаксических единиц связывает непосредственно с фактами языка. Яри этом можно идти как от формн х содержанию, так и от содержания к форме. Нам, представляется более приемлемым первый вариант, так как «содержание в языке представлено не иначе как в тех или иных языковых фор» мах, естественно, наблюдение и измерение его необходимо начинать именно с языковой формы" (Плотников, 1989: 65). Это позволяет нам проследить процесс лексического наполнения «мест» формальной структуры предложения, что, в свою очередь, помогает установить закономерности взаимодействия лексики и семантики. Анализ предложения от формы к содержанию обусловлен прежде всего тем, что оно имеет самодостаточное значение и представляет собой формально организованную единицу.
Синтаксисты до сих пор ограничивались изучением лишь глагольных предложений. Что же касается вопросов, связанных с выявлением и описанием формально-семантических моделей иненных предложений, то они пока остаются совершенно неизученными. Тем не менее именные предложения в языке занимают большое место, поэтому мы здесь впервые ставим задачу рассмотрения предложений с предикатами, выраженными различными именными лексемами. В выполнении «той задачи большая роль отводится понятию валентности. Это объясняется тем, что форма и содержание предложения определяются валентностью его предиката и характером лексического наполнения открываемых им синтаксических позиций.
В определении основного носителя валентности среди лингвистов нет единого мнения. Так, М. Д. Степанова и Г. Хельбиг считают, что здесь возможны три варианта:
1) основном носителем валентности в предложении является только глагол в личной форме;
2) основной носитель валентности в предложении — глагол как в личной, так и в неличной форме;
3) основным носителем валентности в предложении является предикат в целом (Степанова, Хельбиг, 1978: 187),.
На наш взгляд, более приемлемым является третий вариант, так как в роли предиката в предложении, наряду с глаголами, выступают и именные части речи: I) Аслан къызгъанчды «Аслан скупой». 2) Тау-да салкъынды «В горах прохладно11. 3) Аслан устазды «Аслан является учителем» и т. д.
За последние десятилетия в отечественном и зарубежном языкознании можно заметить роет исследований по теории валентности. Среди них имеются и диссертационные работы, построенные на материале разноетруктурных языков (Амбарцумян, 1977; Долинина, 1982; Яшина, 1986; Кибардина, 1988; Цалкалатнидзе, 1989 и др.). Вопросы валентности обсуждались и на ХП Международном съезде лингвистов. Это говорит не только о популярности теории валентности, но и о его важности, перспективности. В лингвистике под валентностью «подразумеваются основные закономерности синтагматических связей языковых единиц, их необходимое или возможное контекстуальное окружение» (Сойко, 1983: 177). На данном этапе развития языкознания у теории валентности имеется своя разработанная терминология и она (валентность) получила статус современного общенаучного понятия (Лосев, 1989: 9).
Теория валентности сначала разрабатывалась на основе глаголь-них предложений. Однако, как показали отдельные исследования, сочетательная потенция присуща не только глаголу, но и другим частям речи. Например, Б. А. Абрамов различает потенцию центробежную (способность главного слова присоединять к себе другие слова) и центростремительную (способность зависимых слов присоединяться к главному). Автор отмечает, что глагол обладает только центробежной потенцией, а другие части речи характеризуются и центростремительной потенцией (Абрамов, 1966: 35). Б некоторых исследованиях понятие валентности понимается широко. Б них говорится не только о валентности отдельных слов, но и о валентности всех языковых элементов: морфем, предложений и т. д. (Степанова, 1967: 13−19- Пела-щенко, 1977).
Б отечественном языкознании появление термина «валентность» связывается с именем С. Д. Кацнельсона, который определяет ее как «свойство слова определенным образом реализоваться в предложении и вступать в определенные комбинации с другими словами» (Кацнель-сон, 1948: 132). В начале 50-х годов теория валентности разрабатн-" вается Л. Теньером, который связывает ее с глаголом. Число актантов, которыми может управлять глагол и считается у него валентностью (Теньер, 1988: 250). Вместе с тем необходимо отметить и тот факт, что истоки теории валентности имелись и в языкознании более раннего периода (Кибардина, 1985: 181−209- Храковский, 1983: 110−117).
В настоящее время опубликован ряд работ, в которых проводится обзор развития и становления теории валентности (Филичева, 1967: 1X8−125- Локштанова, 1971: 21−31- Страхова, Х972: 211−222- Степанова, 1973: 12−22). Знакомство с этими работами показывает, что в теории валентности весьма существенными и спорными остаются вопросы, связанные с разграничением валентности и сочетаемости, факультативной и обязательной валентности, ее уровней, с соотношением значения слова и его валентности и ряд других (Кибар-дина, 1979: 4).
При изучении понятия валентности и сочетаемости слов наметилось два основных направления. Одни лингвисты исходят из того, что валентность и сочетаемость слов — понятия идентичные (Засорина, Верков, 1961: 133−139- Степанова, 1973), другие же считают, что это тесно связанные между собой различные понятия (Аракин, 1972: 5−12- Лейкина, 19б1: 1−15). Мы придерживаемся последней точки зрения и считаем вполне правомерным следующее замечание Б. М. Лейкиной: «Валентность — это факт языка. В речи же выступают не возможности связей, а сами связи — реализация валентности» (Лейкина, 1961: I). Разграничивая рассматриваемые понятия, мы приходим к выводу, что валентность представляет собой потенциальную способность елова устанавливать связи с другими словами, а «сочетаемость — это реализация валентности слова, его связь с другими словами в предложении» (Лисина, 1970: 9- Пшегусова, 1985: 20). Вместе с тем нельзя не отметить и то, что они тесно связаны между собой, так как это «две стороны одного явления — речевой деятельности» (Страхова, 1972: 215).
Говоря о проблемах теории валентности, необходимо затронуть и вопрос об уровнях валентности. Г. Хельбиг подчеркивает наличие трех уровней валентности — логической, семантической и синтаксической. Они определяются в плане диалектической связи между действительностью, мышлением и языком. При этом явления внеязыковой реальности представляют собой объект мысленного отображения и одновременно мотивацию языковых структур (Степанова, Хельбиг, 1978: 154). Выделяемые автором уровни определяются следующим образом: «логическая валентность — это внеязыковое отношение между понятийными содержаниями, семантическая валентность выявляется на основе совместимости и сочетаемости семантических компонентов С признаков, сем) — синтаксическая валентность предусматривает об-лигаторную или факультативную залолняемость открытых позиций определенного числа и вцца, различную в разных языках» (Степанова, Хельбиг, 1978: 157). М. Д. Степанова считает, что в структуре суждения логическим отношениям соответствуют семантические отношения внутри предложения. Так как между валентностью логической и валентностью семантической имеется смысловая связь (близость), то их целесообразно подвести под понятие логико-семантического уровня валентности (Степанова, 1982: 19−20). Далее она считает, что синтаксический уровень валентности предопределяется логико-семантическим уровнен валентности и реализуется в предложении на основе его грамматической правильности (Степанова, 1982: 20).
Содержательную и формальную валентность разграничивает и С. Д. Кацнельсон, который считает, что содержательная валентность глагола с типологической точки зрения универсальна и зависит от глагольного значения. Последнее открывает «вакантные позиции», подлежащие заполнению. Формальная валентность определяет форму выражения слов, занимающих открытые позиции и варьируется от языка к языку (Кацнельсон, 1972: 47).
Балентностная концепция С. М. Кибардииой зиждется на разработках С. Д. Кацнельсона и предпочтение здесь отдается семантической теории, основным положением которой является непосредственная связь валентности глагола с его лексическим значением (Кибардина, 1977: 4- 1988: 4).
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство лингвистов исследование валентности связывает с ее семантической обусловленноетью и различает два или три уровня валентности, соотношение между которыми сложно и неоднозначно (Амбарцумян, 1977; Ки-бардина, 1985).
Разграничение обязательной и факультативной валентности является одной из важных проблем синтаксиса, и она не раз становилась предметом обсуждения (Адмони, 1958: III-II7- Абрамов, 1966; Холодович, 1979: 228−243), Ее решение помогает установить завершенность или незавершенность синтаксической структуры предложения, связь смысла предложения с его лексическим наполнением.
В языкознании встречается различное понимание структурной обязательности компонентов предложения. Е. А. Йванчикова пишет, что «структурная обязательность проявляется в том, что данный элемент синтаксической конструкции обладает потенциальной синтаксической валентностью и требует для реализации этой валентности (т.е.завершенности данной конструкции) обязательного при» сутствня определенной формы слова, словосочетания или предложения" (йванчикова, 1965: 85), Г. Г. Почепцов выступает против того, чтобы считать «потенциальную синтаксическую валентность» признаком структурной обязательности, так как это характерно и для структурной факультативности (Почепцов, 1968: 146). У него понятие факультативной валентности сводится к тому, что «присутствие одного элемента делает лишь возможна*, на основе его валентных свойств, наличие другого элемента, не предопределяя, однако, его употребления» (Почепцов, 1971: 72). Бели опустить элемент обязательного окружения, то он, как правило, восстановим из контекста, очевиден из ситуации. Подобные элементы предложения, как справедливо отмечаетеяв литературе, «находятся в кругу мысли говорящего (и слушающего)» (Адмони, 1958: ИЗ), поэтому не могут быть опущены без ущерба для смысла предложения. К такому мнению приходят и зарубежные лингвисты, разрабатывающие проблемы, связанные с валентностью предиката предложения. Например, П. Адамец считает, что невозможно построить нормальное предложение без конституен-тов, связанных с его глагольным сказуемым обязательной (облига-торной) валентностью. Он оставляет в стороне случаи эллипсиса. Под факультативной он понимает такую валентность, при которой конституенты предложения не обязательно, но часто могут сочетаться с соответствующим глаголом (Адамец, 1984: 113).
Особый интерес представляет для языковедов проблема факультативной валентности. Об этом свидетельствуют материалы сборника «Восточное языкознание: факультативность.~М.: Наука, 1982″. Его авторы связывают факультативность с избыточностью компонентов предложения, с их актуализацией и другими языковыми понятиями. Сам факт посвящения отдельного сборника одной лишь этой проблеме говорит о том, что в понимании факультативности не наблюдается единообразия. Так, например, С. Кароляк выделяет у глагола писать пять аргументов:» 1) название исполнителя действия, 2) название вспомогательного предмета (инструмента), 3) название места, на котором ставятся знаки (буквы и буквенные сочетания), 4) название содержания текста, 5) название производимых знаков" (Каролик, 1974: 152). Полное предложение можно представить так: Петр пишет записку на бумаге буквами авторучкой. Его компоненты буквами, на бумаге, авторучкой можно признать факультативными. Вместе с тем тут отсутствует адресат. Ю. Д. Апресян выделяет у того же глагола два значения: сложное и простое. Если брать сложное значение, то предикат в предложении шестивалентен, т. е.к пяти значениям, выделяемым С. Кароляком, добавляется и адресат. Если же брать простое, то предикат трехвалентен. При этом мы имеем следующее предложение: Он пишет другупись-м о. Е. Д. Апресян полагает, что здесь более приемлемым является второе мнение. Вместе с тем он считает, что при этом нельзя сформулировать общего правила определения валентности подобных глаголов и в разных случаях необходимо выбирать разные варианты (Апресян, 1974: 123−125). На наш взгляд, с этим нельзя не согласиться. В рассмотренных примерах валентность предиката зависит от «угла зрения» участника речи (см. об этом подробно: Ахматов, 1983: 169).
Обзор лингвистической литературы показывает, что на уровне предложения опущение обязательного члена предложения приводит к его неграмматичности и смысловой незаконченности, тогда как при опущении факультативного члена этого не наблюдается (Степанова, 1982: 22).
Разграничение обязательности и факультативности аргументов предиката, установление номинативного минимума предложения тесно связаны с моделированием предложения. Для выявления и формально-семантической характеристики моделей предложения необходимо определить факультативные и обязательные компоненты, установить минимум структурной схемы предложения и изучить лексическое наполнение его синтаксических позиций. Для решения этих задач при изучении предложения большое внимание уделяется отношениям между его семантической и формально-грамматической структурой. Подобное описание синтаксических единиц вызывает различные трудности, вызванные несимметричным характером подобных отношений. Два предложения, имея одинаковое значение, могут различаться формально-грамматической организацией и наоборот одна и та же семантика может передаваться предложениями различной структуры. Учет этого позволяет говорить о формальной и смысловой структуре предложения, которые могут быть изучены отдельно и во взаимосвязи. Такой двусторонний подход к изучению предложения связан прежде всего с тем, что интерес к формально-семантическому анализу предложения возрос. Тем не менее, лингвистика не обходится без перекосов и «золотая эра равномерного и симметричного подхода к форме через содержание и к содержанию через форму в науке о языке еще не наступила» (Плотников, 1989: 10).
Выявляя формально-семантические модели предложения, мы стал киваемся с его грамматической и семантической структурой. Это помогает более детальному определению соотношения между семантикой предложения и формой его выражения, мышлением и внеязыковой реальностью (Арват, 1976: 3−18). Формальную и семантическую структуры предложения необходимо сначала изучить расчлененно.
В работе мы будем говорить о таких понятиях, как формальная (структурная) схема предложения, семантическая структура предложения, формально-семантическая структура (модель) предложения, семантика (смысл) предложения. При этом мы исходим из того, что формальная схема предложения представляет собой «последовательность форм слов, которая отображает структуру информации, выражаемой предложением» (Ломтев, 1979: 56). Семантическая структура предложения создается взаимодействием его семантических компонен тов. Она не простая сумма, входящих в предложение единиц, органи зованных на определенной основе. Семантическая структура предложения — это сложное языковое явление, «организованный на предикативной основе смысловой комплекс, представляющий собой результат взаимодействия семантических компонентов и отражающий взаимо связь типизированных элементов предложения^Арват, 1984: 33).
Понятие «модель» уже давно фигурирует в других отраслях науки: в математике, социологии, механике и др. Оно уже нашло свое место и в языкознании, в системе современных общенаучных понятий и получило «права гражданства» (Гулыга, 1973: 21).По мнению многих лингвистов, это понятие помогает систематизировать языковые факты и четко классифицировать предложения (см., например: Москальская, 1981: 23−24- Золотова, 1973: 25−27- Золотова, 1982: 33). Шенно поэтому теория моделей получила широкое распространение в языкознании вообще и в синтаксисе в частности. Модель предложения в самом общем виде представляет собой ту же структуру предложения, репрезентируемую при помощи различных знаков. «Структура предложения, представленная в виде специальных символов, является формулой структуры предложения, или иначе, моделью предложения» (Лом-тев, 1979: 61). Есть ряд работ, посвященных моделированию простого предложения русского и других языков (Москальская, 1981; Золотова, 1973 и др.). Количество же работ, в которых выявляются и описываются модели простого предложения тюркских, в том числе и карачаево-балкарского языка, весьма ограничено (Ахматов, 1983; Закиев, 1987). Модель понимается как отвлеченный образец построения минимальных самостоятельных предложений. Однако, в методике их выделения и описания имеются расхождения. В силу близости человеческого мышления в разных языках в семантическом отношении могут юыть одинаковые типы моделей предложения, но в силу специфики их выражения, грамматического строя в каждом языке набор моделей уникален (Почепцов, 1971: 53). Это свидетельствует о важности, актуальности и к тому же трудности выявления и описания моделей простого предложения языка. Среди лингвистов пока еще нет единого мнения в вопросе о минимальной схеме предложения. В понимании минимума предложения наметилось два направления* Одни лингвисты определяют структурную схему как «предикативную основу» ««предикативный минимум» предложения, другие же «как его «номинативный минимум» .
Понимание структурной схемы предложения как его предикативной основы представлено в работах Н. Ю. Шведовой (Шведова, 1966; 1970; 1980). В структурную схему она включает лишь главные члены предложения. В «Грамматике русского литературного языка» (Грамма-тике-70) структурная схема рассматривается лишь как формально организованная единица с грамматическим значением предикативности. Такой подход к решению рассматриваемой проблемы позволяет не включить в структурную схему предложения не только факультативных,^ и обязательных распространителей^ чем нельзя согласиться.
О необходимости включения второстепенных членов предложения в структурную схему предложения пишут многие лингвисты. Так, В.В.БабаЙцева считает, что нет полного параллелизма между семантическими компонентами и членами предложения. В предложении Дом строится плотниками значение деятеля выражается дополнением, хотя в большинстве случаев оно выражается подлежащим. Ср. ¡-Плотники строят дом. Исходя из подобных фактов языка, она приходит к выводу о необходимости включения второстепенных членов предложения со значением деятеля, носителя признака, носителя состояния в структурную схему предложения и признания их структурно обязательными элементами предложения (Бабайцева, 1983: 14). Такой подход к решению данного вопроса не нов в языкознании. Еце И. И. Мещанинов писал, что «структура предложения устанавливается всем его комплексом, в который. включаются как главные, так и второстепенные его члены» (Мещанинов, 1963: 17).
Наряду с моделью предложения В. Г. Адмони вводит понятие его структурно-смыслового ядра. В это ядро включаются не только главные члены предложения, но и такие второстепенные члены предложения, которые в структурно-смысловом отношении тесно связаны с главными (Адмони, 1972: 50). На материале неопределенно-личных предложений русского языка Г. Ф. Низяева убедительно показывает, что при опущении второстепенных членов эти конструкции не могут выступать в роли информативно достаточных предикативных синтаксических единиц (Низяева, 1971; 81).
В своих работах Г. А. Золотова оперирует понятием «модель предложения». У нее модель определяется как «минимально достаточное сочетание взаимообусловленных синтаксических форм, образующее коммуникативную единицу с определенным типовым значением» ((Болотова, 1973: 124). В русском языке она различает однокомпонентные, двухкомпонентные и трехкомпонентные модели. Далее автор развивает это положение и главный упор в определении роли главных компонентов модели делается на их необходимость и достаточность для существования самой модели, без опоры на контекст (Золотова, 1982: 98−99).
И.Ф.Андерш также подчеркивает, что модель предложения представляет собой такую минимальную конструкцию (синтаксический образец), которая достаточна в структурном и информативном отношении (Андерш, 1987: 50). На необходимость информативной достаточности модели предложения указывает и Н. Л. Иванщкая (Иваницкая, 1986).
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к тому, что формально-семантическая модель предложения не может быть построена только на основе его главных членов. Однако вопрос о том, какие из второстепенных членов предложения являются обязательными его элементами, пока остается спорньм. Это касается в первую очередь вопроса о том, относятся обстоятельства к моделеобразующим членам предложения или нет. Н. Ю. Шведова не вводит их в структурную схему предложения (Шведова, 1964; 1970; 1968; 1980). Она говорит о так называемых детерминирующих членах предложения (детерминантах), которые, по ее мнению, являются субъектными, объектными и обстоятельственными распространителями предложения. Полное развитие учений о детерминантах нашло в «Русской грамматике», авторы которой не относят детерминанты к необходимым компонентам структурной схемы. Однако здесь можно встретить случаи включения их в состав модели предложения (Русская грамматика". Т. 2: 300 и далее). Это говорит о нечеткости разграничения «распространителей модели предложения и компонентов, организующих модель» (Золотова, 1982: 152).
Л.Теньер выводит структуру предложения из вербоцентрической теории предложения. Он проводит параллель между ними и драмой, в которой ведущее место принадлежит действию. В этой драме имеются действующие лица и обстоятельства. В плане синтаксической структуры действие — это глагол, действующие лица — актанты, а обстоятельства — сирконстанты (Теньер, 1988: 117). Принято считать, что актанты являются обязательными, сирконстанты же (указатели места, времени, причины, условий и т. д.) — факультативными членами модели предложения (см., например, работы Н.Ю.Шведовой). Нельзя «безоговорочно с этим согласиться, так как сирконстанты могут быть обязательными и входить в формально-семантическую структуру предложения (Никитин, 1988: 125). Ср (.: I) Алий юйге кирди „Алий вошел в дом“. 2) Тауда сууукъду „В горах холодно“. 3) Хамит элде жашайды „Хамит живет в сельской местности“. В этих предложениях сирконстанты обязательны, потому что при их опущении предложения станут явно неполными и информативно недостаточными. Этого нельзя сказать о сирконстанте школда пв школ е», употребленном в предложении Аслан школда анга письмо ж а-з, а д ы «Аслан в школе пишет ему письмо». Такие факты показывают, что обстоятельства (сирконстанты, семантические конкретизаторы) могут быть необходимыми и факультативными элементами предложения.
Как показали лингвистические исследования, семантические конкретизаторы характеризуют непосредственно предикативный признак. Исследователи вцделяют разное количество их семантических разрядов. А. С. Сафаев выделяет обстоятельства образа действия, места, времени, цели, причины, меры и степени, условия, уступительные и уподобления (Сафаев, 1968: 128). В карачаево-балкарском языке выделяются конкретизаторы локальные, темпоральные, причины, цели, ситуации, функции, образа действия, меры и степени, соответствия (Ахматов, 1983: 93).
Семантический атрибут, как и семантический конкретизатор, является зависимым компонентом семантической структуры предложения. В лингвистике принято считать, что атрибут не является в а-лентностным компонентом структуры предложения, т. е. появление его не задается предикатом. С этим мнением нельзя не согласиться. Однако, он может носить облигаторный характер (Данеш, 1988: 78−87). В ряде работ подчеркивается, что атрибут является таким компонентом предложения, который возник путем транспозиции какого-либо другого члена предложения, в первую очередь предикативадеградированным предикатом (Данеш, 1988: 85). Вместе с тем в большинстве исследований он не признается компонентом семантической структуры предложения. Как известно, определение существует в предложении только наряду со своим определяемым. Н. К. Дмитриев группу слов «определение — определяемое» не вводит в структурную рамку предложения (Дмитриев, 1961: 28). Этого же мнения придерживается и Н. Д. Баскаков. В иерархии членов предложения у него определение занимает последнее место. Он считает, что смысл предложения не изменяется при изъятии из него определения, а только теряет конкретность тех понятий, о которых едет речь (Баскаков, 1961: 66). С таким мнением вполне можно согласиться. Вместе с тем необходимо учесть, что в языке встречаются и такие предложения, в которых атрибут невозможно опустить без ущерба для их смысла, информативной достаточности (Ахматов, 1983: 94). Например: I) Ухол-ну орта о рамы тикди (З.Т.) «Срединная дорога Ухола крутая». 2) Тебердини агъачы кёпдю (&-.З.) «В Теберде много леса» и т. д. Это подтверждается и на материале других языков. Так, например, В. В. Богданов выделяет в структуре предложения композитив, характеризующий «семантику аргумента как материал, вещество, состав или содержание какого-либо предмета, выступающего в роли другого аргумента» (Богданов, 1977: 54). И. И. Мещанинов полагает, что определение и определяемое связаны между собой и последнее может оставаться неясным в своем значении, если нет должного сопровождения внешним выразителем данного признака (Мещанинов, 1978: 147).
В одной из своих работ А. Н. Баскаков выделяет такие предложения, в которых семантическая связь определения с определяемым настолько тесная, что опущение этого определения искажает их семантическое значение (Баскаков, 1984: 87−88).
В пользу включения семантического атрибута в семантическую структуру предложения говорит и материал узбекского языка. А. С. Сафаев показывает невозможность исключения определения из системы членов предложения, делая его их придатком (Сафаев, 1968: 29).
Атрибуты можно разделить на две группы: притяжательные и не" притяжательные. Притяжательный атрибут выражается лексическим, морфологическим или лекеико-морфологическим способом. Например: I) Мени эрим урушдады (Х.К.) «Мой муж на войне». 2) Сени насыбынг мени къолуадады" (О.Э.) «Твое счастье в моих руках». При опущении притяжательных определений эти предложения не теряют своего смысла, информативной достаточности, так как в них при этом сохраняются морфологические средства выражения обладателя. Существует мнение, что факультативность имеет место тогда, когда информация, заключенная в том или ином компоненте, передана в этом же высказывании иным способом (Чеенокова, 1973: 4). Вышеприведенные предложения подтверждают справедливость этой точки зрения. Однако невозможно опущение притяжательного определения, выраженного местоимением 3-го лица. Например: Устазны жолу школгъады (Х.К.) «Дорога учителя в шкоду». Это связано с тем, что местоимения 1-го и 2-го лица «отсылают к автору или адресату речи к тем, кто идентичен индивидуализирование представленному участнику события» (Селиверстова, 1988: 36). При опущении указанной словоформы синтаксические конструкции в смысловом отношении становятся неполными, информативно недостаточными.
Анализируя такие факты, мы приходим к выводу о том, что атрибуты в структуре предложения могут быть необходимыми и факультативными. Хотя наличие их может и не определяться предикатом, но есть ряд причин, обусловливающих это:
X) ситуативное многообразие, проявляющееся в возможности употребления одного и того же слова для обозначения разнообразных предметов, определение называет признак, необходимый для конкретного случая;
2) широта лексического значения слов, которые требуют обязательной конкретизации;
3)наличие противопоставления;
4) требование указания на связь с предыдущим содержанием контекста;
5) конструктивная обязательность;
6) фразеологическая или терминологическая связанность (До-лищук, 1972: 7).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что семантический конкретизатор и семантический атрибут в определенных случаях могут быть, наряду с семантическим предикатом, семантическим субъектом и объектом, облигаторными членами семантической структуры (модели) предложения. Такие члены предложения принято называть моделеобразующими, а факультативные компоненты предложения — немо дел еобразующими.
Опираясь на вышеуказанные теоретические положения, мы впервые делаем попытку выявить и описать основные типы формально-семантических моделей простых именных предложений карачаево-балкарского языка, что, безусловно, имеет большое научное и практическое значение. В современной лингвистике утвердился определенный способ записи моделей предложений см.: Лочепцов, 1971; Москаль-ская, 1981 и др.). Одни синтаксисты предпочитают только формальную запись модели, другие — семантическую, в ряде же работ модели отражают как формально-грамматическую, так и семантическую структуру модели предложения (Богданов, 1977; Золотова, 1982; Ахматов, 1983). Мы считаем необходимым выявить формальную и смысловую модель предложения и показать их взаимодействие. Только такой подход позволяет исследователю дать адекватное представление о системе языковых знаков, в данном случае о системе именно-го предложения.
В данной работе для описания формальной структуры предложения мы применяем следующие сокращения: С^ - любое имя в основном падеже, С"> - любое имя в родительном падеже, Сд — дательно-направительный падеж имени, С^ - любое имя в винительном падеже, -имя в местном падеже, С^ - имя в исходном падеже, Ста^а, Сд0рИ и т. п. — имя в сочетании с послелогом «т, а б а», имя в сочетании с послелогом «дер и» и т. п.- ПР — имя прилагательноеЧ — имя числительноеМ — местоимениеН — наречие.
Отметим также, что для описания семантической структуры предложения нами принимаются следующие символы и сокращения: Пквал (Сквал) — предикат квалификации (субъект квалификации), П^^ (Снац) — предикат национальной принадлежности (субъект национальной принадлежности), Псоц (Ссоц под) — предикат социального положения (субъект социального положения), П^^ (С^^) — предикат принадлежности (субъект принадлежности), П (С) — пред и.
А" д" кат движения (субъект движения), ПЦ0ЛИ (Сцвли) — предикат цели (субъект цели), «г1РвДикат возраста (субъект возраста)» Члестожит (Сместожит) «предикат сожительства (субъект местожительства), Пр0д ^ (С^д — предикат родовой принадлежности (субъект родовой принадлежности), Ц^р ^фабр) ~ предикат фабрикатива (субъект фабрикатива) и другие.
Все эти и другие семантические компоненты будут описаны ниже при анализе фактического материала.
XXX.
Цель и задачи исследования
Цель работы — выявление и описание формально-семантических моделей двусоставных именных предложений карачаево-балкарского языка. В соответствии с поставленной целью нами вьщвигаются следующие задачи:
1) решить вопросы, связанные с формальным и семантическим моделированием простого двусоставного именного предложения карачаево-балкарского языка;
2) установить список основных формально-семантических моделей именных двусоставных предложений карачаево-балкарского языка;
3) описать формальную и семантическую структуру именных предложений;
4) рассмотреть взаимодействие между формальной и семантической структурой двусоставного именного предложения карачаево-балкарского языка.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые выявляются и подвергаются формально-семантическому анализу модели двусоставных именных предложений карачаево-балкарского языка.
Практическое значение. Результаты исследования могут найти применение при описании синтаксического строя карачаево-балкарекого и других тюркских языков, при составлении программ, учебников и учебно-методических пособий, в процессе обучения карачаево-балкарскому языку и другим родственным языкам в средней и высшей школе.
Материалы и методы исследования. Диссертация выполнена на основе языкового материала, собранного методом сплошной выборки из художественных произведений карачаевских и балкарских авторов, из фольклора и периодической печати. Кроме того, использованы примеры, взятые из разговорной речи.
Исследование проводится в синхронном плане с использованием методов сопоставительного, контекстуального и компонентного анализа.
Структура работы" Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка сокращений и списка цитируемой литературы. Апробация работы. Результаты проведенного исследования наши отражение в двух статьях, опубликованных в открытой печати, и в докладах, прочитанных на республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 70-летию ВЛКСМ «Молодежь — народному хозяйству» (г.Нальчик, 1988), на республиканской научно-практической конференции «Проблемы обучения и воспитания в условиях возрастания роли родных языков» (г.Нальчик, 1990), на всесоюзной научной конференции «Проблемы двуязычия и языковой коммуникации» (Карачаевск, 1990), на всесоюзной научной конференции «Кипчакские языки: история и современность (историко-филологический аспект)» (г.Нукус, 1990).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Как известно, исследованию синтаксиса простого предложения тюркских языков посвящено большое количество работ. Среди них немало и таких исследований, в которых рассматриваются вопросы, связанные с именным предложением. Однако все они построены по традиционной схеме и страдают определенными недостатками. В центре внимания их авторов оказался вопрос о средствах выражения главных членов двусоставного именного предложения. А вопрос о том, включает ли такое предложение, кроме подлежащего и сказуемого в свой состав какие-либо второстепенные члены предложения или нет, продолжает оставаться вне поля зрения исследователей. То же самое относится и к проблематике, связанной с выявлением и описанием формально-семантических моделей именного предложения.
Этим и объясняется актуальность темы настоящей диссертации.
В ней впервые сделана попытка выявить и подвергнуть анализу структурно-семантические модели простого двусоставного именного предложения карачаево-балкарского языка. Для решения этой задачи появилась необходимость рассмотреть ряд вопросов, которые не только в карачаево-балкарском языкознании, но и во всей тюркологии пока не нашли своего полного решения. Сюда относятся вопросы о валентности именного предиката, факультативных и необходимых компонентах формальной схемы предложения, лексическом наполнении мест такой схемы, наборе семантических компонентов предложения, семантической структуре предложения, его формально-семантической модели.
Эти вопросы рассматривались в определенной последовательности. Сначала изучалась проблема валентности. Это позволило показать, что одни компоненты предложения являются факультативными, а другие — необходимыми его членами, обеспечивающими выполнение предложением номинативной функции. Разграничение факультативных и моделеобразущих членов предложения позволяет установить в каждом отдельном случае состав формальной структурной схемы предложения.
Собранный и изученный нами языковой материал убеждает нас в том, что структурную схему предложения нужно понимать не как его предикативную основу, а как номинативный минимум, который во многих случаях включает в себя не только субъект и предикат, но и различные распространители (семантический объект, семантический конкретизатор, семантический атрибут), способствующие тому, чтобы предложение вне контекста выражало определенное типовое значение.
Для выражения предиката в именных предложениях употребляются имена существительные в различных падежных формах и в сочетании с послелогами, имена прилагательные, имена числительные, наречия и их субституты. Они, как и глаголы, обладают центробежной потенцией, т. е. могут взаимодействовать с определенным числом актантов. Эта способность слов называется валентностью. Исходя из валентности предиката., модели предложений подразделяются на одно-, двухи болееместные. Валентность именного предиката зависит как от его семантики, так и от «угла зрения» участников речи. Не все ЛСГ имен принимают одинаковое участие в построении различных формально-семантических моделей предложения. Чаще всего встречаются однои двухместные модели предложения с предикатами, выраженными именами существительными и именами прилагательными.
Количество конституэнтов предложения может зависеть и от семантики слов, занимающих позицию субъекта. Ср.: Масхут кашды «Масхут молодой» и Масхутну иши къыйынды «Работа Масхута трудная» .
При принятом здесь подходе к изучению предложения его формальная структура описывается в терминах частей речи, которые служат для выражения определенных семантических компонентов синтаксической конструкции. А для показа семантической структуры предложения используются его семантические компоненты. Это позволило нам показать, для выражения каких семантических компонентов служат его формальные элементы, а также какие формальные модели предложения используются для выражения тех или иных семантических структур. В результате этого нам удалось показать, какие члены предложения являются моделеобразующими и выявить число структурных схем именного предложения.
Материал карачаево-балкарского языка позволяет вццелить следующие структурные схемы двусоставного именного предложения:
I) С^ — С^, 2) С^ - С"?, 3) С^ - Сд, 4) С^ - С^, С^. — С^,.
С1 «Сдери» 7) С1 «С^ба* С1 — % - Ч, 10) Сх — Н.
II) — с3 — С, 12) Сх — С3 — ПР, 13) Сх — С6 — ПР, 14) 15) С3 — С^ - Н и другие.
Каждая из синтаксических позиций данных схем заполняется словами с определенным типовым значением. Их семантику определяет лексика, входящая в схему. Семантика элементов предложения в первую очередь зависит от характера предиката.
Известно, что все слова языка объединяются в лексико-семантические группы, а синтаксические позиции предиката, да и других семантических компонентов предложения, замещаются словами определенных ЛСГ. Это позволяет нам рассматривать семантические свойства целых классов слов, что помогает показать, какие группы слов заполняют различные позиции структурных схем предложения. Только такой подход позволяет установить количество и качество семантических структур, выражаемых каждой схемой. Вслед за отдельными 119 исследователями СН, Ю. Шведова, Н. Н. Арват и др.) под семантической структурой предложения мы понимаем организованный на предикативной основе смысловой комплекс, представляющий собой результат взаимодействия семантических компонентов и отражающий взаимосвязь типизированных элементов экстралингвиетической реальности. Составными элементами семантической структуры предложения являются его семантические компоненты. Под семантическим компонентом предложения понимается такой смысловой компонент семантической структуры предложения, который выражается лексическим или морфологическим способом. Семантический компонент предложения возникает в результате взаимодействия лексической и синтаксической семантики и отражает определенное явление внеязыковой действительности. представленное как обобщенный тип множества подобных явлений. Систему таких компонентов предложения составляют субъект, предикат, объект, конкретизатор и атрибут.
Рассмотренный нами материал показал, что практически каждая формальная схема предложения передает то или иное количество семантических структур. Так, схема С| - ПР служит для выражения черт характера субъекта, его состояния, возраста и т. д. Напри-^ мер: I) Сиз эринчеклесиз (Ж.Т.) «Вы лентяи». 2) Алим къартды «Алим старый». 3) Кече шошду «Ночь тихая» и др. В карачаево-балкарском языке немало и таких случаев, когда одна и та же семантическая структура присуща нескольким формальным структурам: Фати-мат Аминатны эгечиди — Фатимат Аминатха эгечди — Аминатны эгечи Фатиматды «Аминат является сестрой Фатимат». Закономерно то, что в языке число семантических структур гораздо больше чем количество их структурных схем. Точно также для выражения одного и того же семантического компонента употребляются различные словоформы и слова, относящиеся к разным частям речи. Так, для выражения локатива используются имена существительные в местном падеже, имена в сочетании с послелогами и наречия: дорбунда «в пещере», дорбунну ичинде «внутри пещеры», алайда «там». В свою очередь, одна и та же словоформа очень часто служит для выражения различных семантических компонентов, что позволяет отметить регулярность в языке явления синтаксической синонимии.
В карачаево-балкарском языке отношения между формальной и семантической структурой предложения не всегда симметричны, т. е. количество формальных элементов конструкций может быть больше числа их семантических конституентов и наоборот. Наиболее отчетливо это видно при анализе одноместных предложений с предикатами, выраженными именами существительными в различных падежных формах и в сочетании с послелогами. В этом случае, например, в одной словоформе совмещаются значение как предиката, так и семантического объекта или конкретизатора. Примеры: I) Саугъала Асхатчыкъгъадыла «Подарки предназначены для Асхатика». Z) Аслан таугъады «Аслан идет в горы» .
Предложение является полиаспектной единицей синтаксиса. Для современной лингвистики изучение предложения в формально-семантическом плане является одной из важных задач. При этом особое внимание должно быть уделено изучению семантической структуры предложения и его компонентов. В последние десятилетия эта проблема находилась в центре внимания исследователей. Благодаря этому к настоящему времени появилось большое количество работ, посвященных изучению отдельных его вопросов. Однако, как отмечено выше, среди них нет работ, посвященных формально-семантическому анализу простых двусоставных именных предложений карачаево-балкарского яиыка. Сведения, содержащиеся в имеющихся научных исследованиях и учебно-методических пособиях, весьма поверхностны и противоречивы.
Они не дают полного системного представления об именном предложении карачаево-балкарского языка.
Предложение имеет двусторонний характер. Его форма и содержание не могут характеризоваться полным параллелизмом, симметричностью. Адекватное изучение предложения обусловлено тем, насколько полно учитывается его формальная и содержательная стороны, их взаимодействие. Только решение этой задачи поможет дать целостную картину о системе синтаксических единиц.
Предложение отражает ту или иную внеязыковую реальность. Семантический анализ предложения позволяет нам показать, как организована его семантическая структура, отражающая определенную ситуацию. При анализе предложения возможен расчлененный подход к изучению его формальной и содержательной структуры. Такой подход к изучению синтаксических единиц помогает нам проследить процесс лексического наполнения «мест» формальной схемы предложения, что, в свою очередь, позволяет установить закономерности взаимодействия лексики и семантики.
Семантические компоненты предложения являются обобщенными и типизированными элементами семантической структуры предложения, которые складываются в результате их взаимодействия. Такая структура не простой набор или совокупность смысловых элементов. Она определяется и соотношениями между компонентами предложения.
Список литературы
- Абдуллаев И.М. Способы сравнения в азербайджанском языке:
- Автореф.дис.. канд.филол.наук.-Баку, 1974.-29 с.
- Абрамов Б. А, Синтаксические потенции глагола в сопоставлениис потенциями других частей речи//Филологические науки.-1966. № 3.-С.34−44.
- Абсалямов 3.3. Наречие в современном башкирском языке: Дис.канд.филол.наук.-М., 1974.-184 с,
- Адамец П. Изучение валентности русских глаголов на философском факультете Карлова университета//Актуальные проблемы русского синтаксиса.-М.: Изд-во МГУ, 1984.-С.112−122.
- Адмони В.Г. Завершенность конструкции как явление синтаксической формы//&опросы языкознания.-1958.-№ I.-0.111−117.
- Адмони В.Г. Структурно-смысловое ядро предложения//Членыпредложения в языках различных типов.-Л.: Наука, 1972.-С.35−50.
- Александров Н.М. Проблемы второстепенных членов предложенияв русском языке//Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена.-Т. 236.-Л., 1969.-С. 3−391.
- Актуальные проблемы русского синтаксиса.-М.: Изд-во МГУ, 1984.-307 с.
- Амбарцумян P.C. Логико-семантический и синтаксический аспекттеории валентности: Автореф.дис.. канд.филол.наук.-Л., 1977.-22 с.
- Андерш И.Ф. Структурно-семантическая типология простого предложения (на материале глагольных предложений современных чешского и украинского языков): Дис.. д-ра филол.наук.-Киев, 1987.-354 с.
- Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средстваязыка.-М.: Наука, 1974.-367 с.
- Аракин В.Д. О лексической сочетаемостц/Д проблеме лексической сочетаемости.-М.: Изд-во МГПИ им. В. И. Ленина, 1972.-C.5-I2.
- Арват H.H. Семантическая структура простого односоставногопредложения (текст лекций).-Черновцы, 1974.-66 с,
- Арват H.H. Компонентный анализ семантиаеской структуры простого предложения (текст лекций).-Черновцы, 1976.-68 с.
- Арват H.H. Семантическая структура простого предложения в современном русском языке.-Киев: Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1984.-159 с.
- Арефьева Т.Д. Система и функционирование средств выраженияпринадлежности в современном русском языке: Дис.. канд. филол.наук.-М., 1986.-224 с.
- Арутюнова Н.Д. О синтаксической сочетаемости слов в испанском языке//Филологические науки.-1962.-№ 2.-С.31−40.
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантическиепроблемы.-М.: Наука, 1976.-383 с.
- Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов лексическогозначения/Аспекты семантических исследований.-М.: Наука, 1980.-С.156−249.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие.Факт.1. М.: Наука, 1988.-341 с.
- Аспекты семантических исследований.-М.: Наука, 1980.-357 с.
- Ахматов И.Х. Главные члены предложения и средства их выражения в современном карачаево-балкарском языке.-Нальчик: Эльбрус, 1968. -164 с.
- Ахматов И.Х. Одноместные формально-семантические модели глагольного предложения в карачаево-балкарском языке//Советская тюркология.-1983.I.-С.76−86.
- Ахматов И.Х. Структурно-семантические модели простого предложения в современном карачаево-балкарском языке: (Основныевопросы теории).-Нальчик: Эльбрус, 1983.-360 с.
- Ахматов И.Х. Формально-семантический подход к языку и некоторые недостатки традиционной схемы описания.синтаксического строя тюркских языков/вопросы советской тюркологии.-Ашхабад: Ылым, 1988.-С.211−215.
- Ахмедов Дж.С. Предикативы в современном азербайджанском языке: Автореф.дис.. канд.филол.наук.-Л., 1970.-14 с.
- Бабайцева Б.Б. Изучение членов предложения в школе.~М., 1975.154 с.
- Бабайцева Б. В, Семантика простого предложения//Предложенивкак многоаспектная единица (Русский язык).-М.: МГПИ им. В. И. Ленина, I983.-C.7−24.
- Бабина Т.П. Субъект посессивности и способы его выражения// > Идеографические аспекты русской грамматики.-М.: Изд-во МГУ, 1988.-С.35−47.34