Игровое пространство в поэзии и драматургии В. Набокова
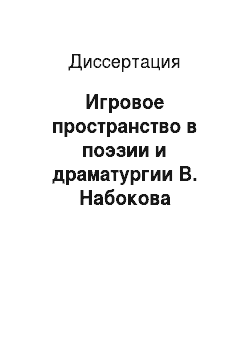
В современном литературоведении изучается преимущественно прозаическое наследие В. Набокова (1899−1977). При этом из поля зрения исследователей выпадают другие, не менее значимые пласты его текстов. В их числе — поэзия и драматургия. А между тем Владимир Набоков вошёл в литературу именно как поэт. Ещё в юношеские годы он опубликовал свой первый сборник «Стихи» (Петроград, 1916), который составили… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Формирование пространственно-временных координат в ранней поэзии и драматургии Владимира Набокова («Гроздь», «Горний путь», «Смерть»)
- Глава II. Смыслообразующая функция игры в поэзии и драматургии Владимира Набокова 1920-х годов
- Глава III. «Виртуальная реальность» в зрелой поэзии и драматургии Владимира Набокова
Игровое пространство в поэзии и драматургии В. Набокова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В современном литературоведении изучается преимущественно прозаическое наследие В. Набокова (1899−1977). При этом из поля зрения исследователей выпадают другие, не менее значимые пласты его текстов. В их числе — поэзия и драматургия. А между тем Владимир Набоков вошёл в литературу именно как поэт. Ещё в юношеские годы он опубликовал свой первый сборник «Стихи» (Петроград, 1916), который составили лирические произведения, рождённые его первой любовью. Вторая поэтическая книга, «Два пути», включавшая стихотворные опыты как самого В. Набокова, так и его школьного товарища А. Балашова, увидела свет в 1918 году. До наших дней дошёл лишь единственный экземпляр этой «самой редкой из всех книг Набокова» [49- 161]. И после отъезда из России, став студентом кембриджского Тринити Колледжа, В. Набоков продолжает свою литературную деятельность как поэт, параллельно обращаясь к прозе и драматургии. Важно отметить, что художественная манера этих пьес и рассказов обнаруживает очень тесную связь с его лирическими опытами.
В целом творчество В. Набокова европейского периода (до 1940 г.) неразрывно связано с поэтикой Серебряного века, отличительной чертой которой, по замечанию И. Г. Минераловой, являются «процессы взаимообмена и слияния, протекающие между прозой и поэзией» [174- 177] [курсив И. Г. Минераловой. — В.Г.], и, как следствие, диффузия литературных родов и жанров. Так, размытость границ между лирическим и драматическим характеризует творчество Н. Гумилёва. Его стихотворения, по замечанию Д. Н. Золотницкого, создавали у современников «впечатление театральности сплошь да рядом помимо воли автора» [102- 10−11]. В то же время не все драмы Н. Гумилёва признаются сценичными — скорее, как заметил А. И. Павловский, «это — театр поэта [разрядка наша. — ЯГ.], имеющий. немало сходного как с блоковским театром, так и с цветаевским.» [206- 48]. Сам Н. Гумилёв говорил: «.я знаю, что мне надо ещё очень много учиться, но я боюсь, что не сумел сам найти границу, где кончаются опыты и начинается творчество» [Цит. по: 102- 8]. У М. Цветаевой также, по словам П. Антокольского, «признаки „жанра“ или формы сами собою отодвигаются куда-то на второй, а то и на десятый план» [22- 6]. Известно, что она «увлеклась драматургией в первую очередь как новым для себя способом выражения человеческих взаимоотношений, коллизий, характеров и страстей» [333- 342]. Летом 1919 года М. Цветаева отметила в записной книжке: «Я стала писать пьесы — это пришло как неизбежность, — просто голос перерос стихи» [Цит. по: 333- 342].
Ранние драмы В. Набокова также не обнаруживают своей сценичности: внешнего, игрового, действия в них нет — скорее, это развёрнутые диалоги героев, причём диалоги стихотворные. Первые пьесы В. Сирина, созданные в начале 1920;х годов, когда происходило становление Набокова как поэта, демонстрируют глубокое родство с его лирикой, представленной в поэтических книгах «Гроздь» (1923) и «Горний путь» (1923). Таким образом, и в этом плане творчество В. Набокова органично вписывается в контекст эпохи Серебряного века, которая, по замечанию А. В. Висловой, «действительно отличалась амбивалентностью художественных состояний и включала в себя подчас диаметрально разные направления в искусстве, во взглядах и поведении самих творцов-современников» [56- 29].
Самые первые исследователи художественного мира писателя пытались обозначить прежде всего его литературный контекст, параллели с творчеством других авторов. Так, роман «Машенька» (1926) был воспринят критикой как продолжение русской реалистической традиции: «Машенька» светится отблеском России, и потому вдвойне очарователен её облик — и сам по себе, и своим отражённым светомона пленяет как личность, она пленяет как символ, и не только она, но и самый роман, который окрещён её ласковым именем" [123- 26]. Известно, что А. В. Амфитеатров указывал на связь «Машеньки» с так называемым «неотургенизмом» — «традицией «художественного объективизма, определяемого именем Тургенева» [123;
27]- Г. Струве подчёркивал очевидное влияние наследия И. А. Бунина и даже называл В. Набокова его «учеником» [Там же]- Д. А. Шаховской, наоборот, полагал, что писатель «отходит от Бунина. и идёт в сторону Достоевского» [123- 33]. Таким образом, авторы указанных критических работ как бы подчёркивали невозможность прочтения романа В. Набокова вне контекста русской реалистической классики.
Дальнейшее творчество В. Сирина («Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Соглядатай» (1930)) дало возможность критикам говорить о связи его творчества с традицией европейского модернизма, под которой подразумевалась зримая проекция художественного мира его романов на поэтику современной немецкой и французской литературы. Именно по этой причине Г. Иванов отказывал творчеству В. Набокова в зрелости: «.по-французски и по-немецки так пишут почти все. „новизна“ эта оказывается ручной, доступной, общепонятной» [123- 179], а Г. Адамович считал «Защиту Лужина» вещью «более замечательной и более занимательной внешне, чем внутренне» [123- 61].
Впервые творчество писателя было глубоко проанализировано в работах Н. Андреев, П. Бицилли, В. Вейдле, Г. Струве, Ю. Терапиано, В. Ходасевича и других. Именно В. Ф. Ходасевич первым сделал попытку целостного рассмотрения набоковских произведений: «Жизнь художника и жизнь приёма в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях, начиная с „Защиты Лужина“. Однако художник (и, говоря конкретнее, писатель) нигде не показан прямо, а всегда под маской шахматиста, коммерсанта и т. д.» [123- 224]. Н. Андреев же определил наиболее очевидный принцип набоковского дискурса — «синтез русских настроений с западно-европейской формой» [123- 195].
Таким образом, русская эмигрантская критика наметила тот круг проблем, которые в дальнейшем разрабатывались европейскими и американскими набоковедами. Кроме того, именно в первых эмигрантских исследованиях начинает вырисовываться мифологизированный портрет.
В. Набокова как писателя, работающего больше с формой, нежели с содержанием произведения, в котором, по ставшему расхожим замечанию В. Ходасевича, приёмы, «точно элъфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса» [123- 225].
В англоязычном литературоведении первое упоминание о В. Набокове, по свидетельству Т. Г. Кучиной, относится к 1933 году, когда, делая обзор произведений молодых русских писателей-эмигрантов, критик А. Парри отметил трёх авторов (М. Алданова, Н. Берберову, В. Набокова), произведения которых «заслуживают перевода на английский язык» [140- 13]. С тех пор «зарубежное Набокове дение стало едва ли не «самостоятельной» отраслью филологии с собственными периодическими изданиями («The Nabokovian» [выходит с 1980 г. — В.Г.] и «Nabokov Studies» [издаётся с 1993 г. — В.Г.]), собственной историей и штатными «летописцами» [140- 14].
Исследователей привлекает и смысл самого псевдонима В. НабоковаСирин, которым он подписывал свои ранние произведения. Б. Бойд по этому поводу пишет: «На протяжении всех лет европейской эмиграции Набоков оставался Сириным. Он взял псевдоним, чтобы его не путали с Владимиром Дмитриевичем [отцом В. В. Набокова. — В.Г.], часто печатавшимся в „Руле“ и других эмигрантских изданиях. Набоков никогда не пытался скрыть своё подлинное имяон мог подписываться и как Владимир Сирин, и как В. В. Сирин, и даже — во французских и английских изданиях 1930;х годовкак Сирин-Набокофф или Набокофф-Сирин» [49- 215].
Наиболее очевидная трактовка псевдонима писателя связана с русским фольклором, в котором Сирин — одна из мифологических птиц «с девичьей головой и грудью, но с крыльями, хвостом и лапами птицы. -символизировала ужасы соблазна, а также служила вещуньей, то есть стояло близко к силам ведовства» [223- 479−480]. Кроме того, в 1910;е годы в России существовало издательство «Сирин», которое публиковало произведения русских символистов (А. Блока, А. Белого, В. Брюсова и др.).
Б. Останин рассматривает литературный псевдоним В. Набокова как своеобразное мини-стихотворение, в котором обнаруживается немало скрытых смыслов: «Внимательное чтение открывает в этом стихотворении около двух десятков смысловых рядов, которыми оно, естественно, не исчерпывается. Развёртка. обнаруживает пребывающие в Сирине в потенциальном виде (имена = семена!) самые разнообразные темы из жизни и творчества В. Набокова» [204- 300].
Исследователь А. Фомин саму возможность интерпретации смысла имени ставит под сомнение: «если одно-единственное [разрядка А. Фомина. — В.Г.] слово способно вызвать к жизни свыше двух десятков правдоподобных толкований, то что же тогда говорить об изучении более пространных текстов, анализируя которые предложенным способом, нам не избежать лавинообразного умножения толкований» [305- 303]. Более того, литературовед предупреждает об опасности такого рода интерпретации: когда «мышление чревато полным отказом от целенаправленного действия, когда вариантов слишком много и когда все они воспринимаются как равновероятные и ценностно равноправные, человеку ничего не остаётся, как отдаться на волю случая или вообще отказаться от всех вариантов до единого» [Там же]. Исходя из этого, «нам остаётся лишь догадываться об истинном [разрядка А. Фомина. — В.Г.] происхождении набоковского псевдонима, но в любом случае неправомерно наделять 22-летнего поэта изощрённым лабиринтно-множественным сознанием, которое он приобрёл гораздо позже» [305- 304].
Как видно, имя художника, выбранное им самим, хотя и отличается претенциозностью, в то же время весьма многозначно, причём семантические варианты этого «мини-стихотворения» наслаивались и наращивались по мере развития художественного мира самого писателянеслучайно Б. Останин отмечает связанность с именем Сирина практически всего дискурса В. Набокова, вплоть до позднего англоязычного творчества [204- 301−302].
Кроме того, для нас важным является то, что «Сирин» — это и своеобразная форма опосредованности, «удаления себя» (автора). Об этом В. Набоков писал уже в 1920;е годы: «Термин „эмигрантский писатель“ отзывает слегка тавтологией. Всякий истинный сочинитель эмигрирует в своё искусство и пребывает в нём» [193- 12]. В 1920;1930;е годы имя «Сирин» было и способом познания самого себя, о чём В. Набоков будет размышлять уже позже: «Наблюдатель выстраивает детальную картину Вселенной как целого, но, завершив её, познаёт, что в ней всё же кое-чего не хватает: его собственного „я“. Он вставляет в картину и себя самого. И тем не менее „я“ остаётся внешним по отношению к картине.» [Цит. по: 164- 224].
Таким образом, уже в самом начале своего творческого пути В. Набоков закладывает начала игровой поэтики своего художественного мира. Писатель как бы «отталкивается» от самого себя, поскольку В. Сирин — это, по существу, один из вариантов писательской маски. Как считает М. Ю. Лотман, «Набоков идёт в своём творчестве на сознательное распределение ролей, и поэт Сирин — автор принципиально иного типа, нежели прозаик Набоков» [155- 64]. Многозначность псевдонима порождает в набоковских текстах и амбивалентность смыла слов, в связи с чем В. Сирин, как отмечает В. В. Заманская, — это «способ „игры“ с читателем, отчасти граничащей с законами литературной мистификации, но мистификацией не являющийся» [95- 310].
Итак, имя, слово становится у В. Набокова принципиально важным знаком, на что в своё время указывали и русские философы. Так, П. А. Флоренский подчёркивал: «Нет сомнения: в литературном творчестве имена суть категории познания личности, потому что в творческом воображении имеют силу личностных форм» [300- 28]. А. Ф. Лосев говорил о концентрической сущности имени: «.слово. есть не просто смысл, но именно смысл, данный в „ином“. .Имя есть смысловое выражение, или энергия сущности предметаимя, слово есть символически-смысловая, умно-смысловая энергия сущности» [154- 162] [разрядка А. Ф. Лосева. — В.Г.].
Таким образом, имя «В. Сирин» получает у В. Набокова свои пространственно-временные параметры, организуя в его поэтике игру, которая порождает принципиально новое пространство. Амбивалентность имени, слова становится причиной его специфической смысловой наполненности, индивидуальной кодировки и, в конечном счёте, своеобразия литературного творчества художника в целом. Псевдоним выступает также и в роли маски, обозначающей расстояние от автора биографического до автора-создателя текста («концепированного», в терминологии Б.О. Кормана).
О том, что «пародия — важный элемент игровой техники в прозе Набокова, а „игра“ становится. универсальной категорией, при помощи которой описывается любой уровень текста» [140- 36], было впервые заявлено в вышедшей в 1970 году книге А. Аппеля «Аннотированная „Лолита“». В дальнейшем к исследованию феномена пародии как важной составляющей поэтики В. Набокова обращались многие исследователи. Так,.
A.В. Млечко рассматривает её как способ создания в тексте игровой ситуации и, используя теорию немецкого эстетика В. Изера («текст-как-игра»), приходит к выводу о том, что пародия и — шире — игра способствует многоуровневому прочтению набоковских текстов: «Проявляя себя на всех уровнях романной структуры, пародия выступает как неотторжимый элемент её художественного целого» [178- 159]. По мысли исследователя, пародия является тем краеугольным камнем, на котором строится вся поэтика.
B. Сирина, его художественное мировидение.
А.А. Пимкина, анализируя феномен игры у В. Набокова, отмечает, что большинство её компонентов, берущих своё начало в «малых жанровых формах», прежде всего в рассказах, были обозначены «еще в период русскоязычного творчества писателя» [212- 44]. В связи с тем, что игра у В. Сирина происходит «на двух уровнях: структуры текста и языка», по отношению ко всему творчеству В. Набокова исследовательница использует термин «игровая поэтика», под которым понимается «вся система художественных средств, способствующих созданию игровой специфики текста» [212- 145].
По мысли Е. В. Кургановой, игра и пародия не являются самоцельюони служат реализации определённых задач, которые заключаются в переосмыслении абсурдного мира реальности [137- 186], в «творческом пересоздании мира» [137- 185], а также в «обновлении смысла слов и выражений» [137- 188] [разрядка Е. В. Кургановой. — В.Г.]. Сопоставление различных набоковских дискурсов «позволяет подчеркнуть значительный для писателя элемент игры [курсив Е. В. Кургановой. — В.Г.] в пародии» [137- 187]. Таким образом, игра ведётся и между элементами самого художественного мира В. Набокова.
О.А. Ганжара полагает, что тот образ сознания, который возникает у В. Набокова на основе игрового принципа, обозначает выход на иной уровень мировосприятия — мир как хаос, — который свойственен писателям-постмодернистам. Подытоживая многочисленные исследования феномена игры в поэтике художника, исследовательница отмечает: «Актуализация символики игры происходит на структурном, композиционном, метафорическом уровнях, реализуется в системе персонажей, логике повествования, принципах поведения героев, в сюжетной организации произведения. В творчестве В. В. Набокова Игра приобретает статус семиотического кодирования эстетической системы, выступает в качестве инварианта, версии мира» [62- 152].
По принципиально иному пути исследования игровой поэтики с.
В. Набокова идёт И. Боденштейн, акцентирующий своё внимание на лингвистической стороне феномена игры: «.активная форма слова [у В. Набокова. — В.Г.] по отношению к значению. проявляется в таких явлениях, как полисемия и омонимия, поскольку под одной словесной „оболочкой“ объединяются несколько разных, но имеющих общий знаменатель значений. Другими словами, означающее может быть многолико („играть несколько ролей одновременно“) и — потенциальноспособно объединять взаимоисключающие значения (в лингвистической терминологии такое явление называется энантиосемией)» [Цит. по: 140- 44].
Следует отметить, что полисемия у В. Набокова возникает главным образом за счёт введения в текст других дискурсов, в результате чего происходит своеобразный синтез «своего» и «чужого», что априори отличает интертекстуальную ткань его произведений. На это указывает и Я. В. Погребная: «Полицитатность набоковского дискурса создаётся не только разнообразием межлитературных приёмов, но и синтезом разных этапов и частей собственной художественной реальности, целостность восприятия которой обеспечивается постоянством варьируемых тем, образов, символов, повествовательных и композиционных приёмов» [214- 272]. Как отмечает О. Ю. Воронина, «слово у Набокова выступает в качестве знака реальности данного субъекта, а образ созданного в произведении мира складывается из сочетания субъективных реальностей, из наслоения ассоциаций, вызванных предметом, из множества значений слова» [59- 6].
Несомненно, что в феномене языковой полисемии принципиальную роль играет контекст, в котором слово и получает новый оттенок своего значения. По замечанию С. Д. Кацнельсона, «контекст действительно во многих отношениях определяет функционирование многозначного слова, но роль контекста заключается при этом не в образовании „вариантов“ общего значения, а в чём-то существенно ином. По отношению к полисемии контекст играет двоякую роль — как средство отбора нужного значения и как средство актуализации отобранного значения» [121- 53]. В то же время полисемия обусловлена не только свойствами языка как когнитивного явления, но и, как подчёркивает Т. Е. Лебедева, «биологической, психической и социальной природой человека», содержанием и структурой действительности" — кроме того, «несмотря на универсальный характер, феномен полисемии проявляется по-разному в различных подсистемах определённого языка» [142- 12]. Полисемия у В. Набокова выходит за пределы текста, в силу чего, как поясняет Е. А. Тырышкина, «смысловые межсловные текстовые парадигмы. часто строятся за счёт обыгрывай и я [разрядка наша. — В.Г.] полисемии» [286- 14]. Итак, явление языковой полисемии составляет важную часть игровой поэтики В. Набокова, а игровое пространство выступает как полисемантичный и многоуровневый феномен.
Э. Фильд в монографии «В. Набоков: его жизнь в искусстве» предпринял попытку сформулировать кардинально новые принципы построения литературоведческого исследования набоковских текстовпри этом, как отмечает Т. Г. Кучина, «литературовед объявляется едва ли не соперником писателя, а научное описание трансформируется в повествование — «текст о метатексте» [140- 45]. Постструктуралистское исследование набоковского творчества продолжил Д. Пэкмен, который в книге «В. Набоков: структура литературного дискурса» высказал идею о том, что смысл текста формируется уже в сознании читателя, что исключает его однозначную интерпретацию, поскольку читатель конструирует произведение «по своему усмотрению» [Цит по: 140- 67].
Однако подобное прочтение произведений В. Набокова, как правило, заводит в тупик. По нашему мнению, набоковская игровая поэтика не является самоцелью — она служит установлению особых отношений художника с пространством и временем, то есть с творимой реальностью. Например, как указывает И. Е. Филатов, «поэтика игры у Набокова приводит к тому, что «время отсчитывается назад подобно тому, как секундомер отсчитывает секунды до взрыва, пока на экране не высветятся два нуля» [296- 132]. Игра со временем и пространством приводит у В. Сирина к появлению дискурсивных отношений, знаком которых выступает специфически понимаемый феномен пустоты, однако, по мнению исследователя, данное явление здесь весьма специфично: «Пустота — тонкая грань между правдой и вымыслом, реальностью и иллюзией, и как таковая она является способом манифестации игры в произведениях Набокова. Пустота в то же время и полнота смысла, возможность бесконечных игровых ситуаций, скрывающая авторскую позицию» [296- 132].
Феномен пустоты часто понимается как «онтологическая мера существования» [112- 76]. Так, JI.B. Карасёв рассматривает дихотомию вещества и пустоты в качестве аналога существования и несуществования, то есть жизни и смерти, однако, обозначая «ущербность мира», пустота «может быть истолкована как воля, свобода» [112- 77]. Например, у А. П. Платонова, как считает философ, «всё время, когда речь идёт об умирании и смерти, колеблется, мечется между полюсами вещественности и пустоты, как бы оставляя для себя возможность для понятного смыслового движения. Иначе говоря, всё время сохраняется некоторый резерв надежды, возможности движения и в ту, и в другую сторону — к смерти окончательной. и к счастливому спасению и возвращению» [112- 79].
В набоковских дискурсах, по замечанию И. Е. Филатова, также предполагается наличие, реальное или потенциальное, двух противоположных начал: «ад и рай, смерть и жизнь-рождение» [296- 114]. Поэтому и пустота в художественных текстах, как отмечает В. А. Подорога, не есть окончательный финал, тупик, из которого нет выхода — наоборот, пустота выступает как синоним прозрачности (отметим, что набоковские тексты вообще изобилуют стеклянными, зеркальными предметами): «Мы воспринимаем лишь потому, что нечто остаётся в самом акте восприятия невоспринятым. Невоспринятое даёт возможность нечто воспринять. Невоспринятым остаётся наше тело, включённое в момент восприятия. И в нём невидимое. существует в качестве перцептивного ничто» [215- 159] [курсив В. А. Подороги. -В.Г.].
Итак, феноменология игры получает в творчестве В. Набокова подробную и достаточно специфическую разработку. Следует отметить, что философское осмысление феномена игры прошло в своём развитии целый ряд этапов. Своими корнями оно уходит в античную философию (Гераклит, Платон, Эпикур), в котором игра была составным понятием онтологических размышлений: о степени свободы человека, об его месте во Вселенной и т. д. В эпоху Средневековья игра получила своё воплощение в «квинтэссенции карнавала как типа игровой действительности» [62- 11], и только в эпоху Просвещения, во второй половине XVIII века, игру стали рассматривать как особый феномен сознания человека.
Так, И. Кант в своей работе «Критика способности суждения» (1790) обосновал принципиально новое понимание взаимоотношения игры и человеческого познания, при которых первое является необходимой средой, своеобразным тотализатором для последнего: «Силы познания. находятся в состоянии свободной игры, так как никакое определённое понятие не ограничивает их каким-либо правилом познания» [109- 159]. Сама же игра понимается И. Кантом как самостоятельное жизнетворчество, как основа познания: «Это состояние свободной игры [курсив И. Канта. — В.Г.] познавательных способностей, при представлении которого даётся предмет, должно обладать всеобщей сообщаемостью, ибо познание как определение объекта, с которым должны согласовываться данные представления (в каком угодно субъекте), есть единственный способ представления, которым пользуется каждый» [109- 159−160]. Именно такое понимание игры было очень близко и ранней поэтике В. Набокова. Так, в романе «Защита Лужина» (1928) герой-протагонист, живущий одновременно в мире реальном и в мире шахматных стратегий и комбинаций, через игру открывает для себя новое пространство, в котором определяющими являются непредсказуемость результата, финала, «свободы», о которой и писал философ.
И.Ф. Шиллер в работе «Письма об эстетическом воспитании человека» (1795) рассматривает игру как способ эстетизации жизни и определения места человека в мире: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человек лишь тогда, когда играет» [324- 302]. Эта точка зрения также весьма близка игровой концепции.
В. Набокова: его герой Лужин практически всю жизнь проводит в игре, которая заключает в себе потенциальную непредсказуемость не только шахматных ходов, но и жизненных ситуаций, благодаря чему решение дискурсивной проблемы «жизнь — герой — метафизическое пространство» остаётся всегда многовариантным.
В XIX веке идеи И. Ф. Шиллера взял на вооружение основатель психологической науки В. Вундт, указавший на связь игры и труда: труд порождает игру, которая, в свою очередь, устраняет его утилитарность, оставляя место лишь для наслаждения конечным результатом. В XX веке основатель психоанализа 3. Фрейд связал зарождение игрового отношения к миру с формированием личности ребёнка (что во многом перекликается с идеями И. Канта и И.Ф. Шиллера). По его мнению, игра неразрывно связана с принципом удовольствия и «наступает тогда, когда он [ребёнок. — В.Г.] учится употреблять слова и присоединять мысли одну к другой» [307- 161]. В современной психологии понятие игры связывается в первую очередь с развитием и обучением детей (Д.Б. Эльконин и др.), хотя в некоторых зарубежных исследованиях анализируются и элементы игры в жизни взрослых (Э. Берн и др.).
Культуролог Й. Хёйзинга также вводит игру в поле культурной деятельности человека: поскольку игры без удовольствия быть не может, она «есть прежде всего и в первую очередь свободное действие» [316- 27] [разрядка И. Хёйзинги. — В.Г.]. Игра, согласно концепции учёного, крайне необходима и индивидууму, и обществу как один из способов реализовать свой социальный и духовный потенциалв то же время она неизбежно «обособляется от обыденной жизни местом и продолжительностью» [316- 29], вследствие чего и порождает в реальной действительности свой особый мир, свои собственные пространство и время.
Такое определение сущности игры во многом свойственно теории М. М. Бахтина о средневековом карнавале и народных праздниках: их участники «строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны, в которых они в определённые сроки жили» [306- 10] [разрядка М. М. Бахтина. — В.Г.].
В поэтике В. Набокова идеи М. М. Бахтина о сущности карнавала соотносятся с самой художественной реальностью, в которой и формируется второй мир — пространство души лирического субъекта. В то же время понимание карнавала как варианта игры не вполне подходит для исследования игрового пространства поэзии и драматургии В. Сирина: если у М. М. Бахтина речь идёт о коллективном сознании, то у В. Набокова на первый план выдвигается сознание личности, сквозь призму которого и изображается реальный мир. Также неправомерным представляется исследование феномена игры у В. Набокова в категориях концепций И. Ф. Шиллера и Й. Хёйзинги, ставящих во главу угла принцип эстетического наслаждения, поскольку в поэтике В. Сирина-Набокова на первый план выходит не что иное, как жизнетворчество, порождающее писательский дискурс.
В связи с этим, опираясь на идеи И. Канта и 3. Фрейда об игре как основе познавательных способностей человека, под игрой мы понимаем специфический вид художественной деятельности, который порождает дискурсивные отношения внутри текста, происходящие в особых пространственно-временных координатах, а под игровым пространствомнепосредственно создаваемую автором дискурсивную непредсказуемую ситуацию, ещё не освоенную героем и сконструированную прежде всего для испытания возможностей его личности. Для нашего исследования актуальным является, таким образом, не внешняя театрализация действия, не смена масок или красочность общей картины, а игра смыслов, их динамика внутри одной сцены, эпизода, чаще всего внутри одного сознания, словно бы примеряющего на себя ту или иную бытийную ситуацию.
Отметим также, что в нашем исследовании мы будем обращаться к понятию дискурса, которое с 1970;х гг. и по настоящее время активно используется в литературоведении и представляет собой весьма многозначный термин. Так, И. П. Ильин понимает его как «специфический способ или специфические правила организации речевой деятельности (письменной или устной)» [Цит. по: 252- 12]. М. Фуко рассматривает дискурс как промежуточную «область между идеями, законами, теориями и эмпирическими фактами. область условий возможности языка и познания» [Там же]. Для нашего же исследования актуальным представляется определение этого понятия, предложенное В. И. Тюпой: «Дискурс -„коммуникативное событие“. возникновение информации ситуации взаимодействия субъекта, объекта и адресата» [287- 4]. Опираясь на данную формулировку, можно обозначить внешний набоковский дискурс как игровое пространство смысла, в котором «коммуникативное событие» возникает в результате взаимодействия трёх членов: «Набокова» (биографического автора), «Сирина» (концепированного автора) и текста. Внутренний уровень сиринского дискурса разворачивается на уровне самих героев, которые также имеют своих «двойников» (Герман Карлович, Цинциннат Ц., Гумберт Гумберт и др.).
Итак, в текстах В. Набокова обозначается кантианская идея о том, что предметом игры является сам человек, свободное познание которого направлено внутрь собственной личности. Такая игра в самого себя позволяет ему обрести свой собственный облик, свой способ жизни, постичь себя в бытии. В связи с этим пространство и время приобретают особые параметры: пространство не имеет строгих границ — время же останавливается, сакрализируется границей. Граница жизни-смерти, реальности-сна — это время своеобразного искуса, испытания человека, позволяющее апофатически определить пространство. Именно поэтому данное пространство мифологизируется, утрачивая физические параметры, а порой исчезая совсем, в то время как игра со временем приводит к появлению вышеуказанного феномена пустоты.
Возникновение пограничной ситуации в поэтике В. Сирина-Набокова происходит на уровне слова. Отметим, что набоковское понимание пространства слова перекликается с идеями А. А. Потебни, который, в частности, отмечал: «Внутренняя форма слова, произнесённого говорящим, даёт направление мысли слушающего, но она только возбуждает этого последнего, даёт только способ развития в нём значений, не назначая пределов его понимания слова» [222- 162]. Учёный указывал и на тождественность искусства и слова, в связи с чем заслуга поэта или писателя состоит в «известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание» [222- 164].
В то же время, согласно А. А. Потебне, она есть не выражение готовой мысли, а средство для её создания: «внутренняя форма, единственное объективное содержание слова, имеет значение только потому, что видоизменяет и совершенствует те агрегаты восприятий, какие застаёт в душе» [222- 165]. У В. Набокова слово конституирует вещь в предметном мире, начало чему было положено самим выбором литературного псевдонима «Влад. Сирин». Амбивалентность псевдонима обозначает одновременно и амбивалентность набоковского слова, предвосхищая знаменитые открытые финалы романов («Защита Лужина», «Подвиг», «Приглашение на казнь», «Дар» и др.), где всё уходит в пространство слова и где точечного финала просто не может быть. Таким образом, в поэтике В. Сирина продуцируется не доверие к герою, но доверие к слову.
Рождение границы между героем и словом обозначено на самых разных уровнях сиринского творчества, в связи с чем проза, поэзия, драматургия, литературоведческие штудии, эссе, интервью могут быть рассмотрены как разное слово В. Набокова. Именно оно и обозначает определённую границу между различными уровнями его творчества, на вершину которого обычно ставят романы, где игровое пространство получило своё виртуозное воплощение. В то же время попытка исследовать игровой принцип в романах В. Набокова как самодостаточный приём приводит, по ироничному, но верному замечанию Т. Г. Кучиной, «к созданию интерпретационной модели. по образцу: «Приглашение на игру в казнь», «Игра в отчаянье» или «Игра в подвиг» — и в конечном итоге сводит анализ текста к описанию правил «игры в чтение» [140- 43].
Пространство и время в набоковских внутритекстовых дискурсах также не должны рассматриваться отдельно друг от друга, тем более что со времени первых публикаций В. Сирина не утихают споры о том, что же это такое: стихи прозаика или проза поэта? Исследователи отмечают «возможность рассмотрения текстов Набокова не только сквозь призму двух или трёх языков (английского, русского, французского), но и прочтения прозы сквозь лирику» [140- 144]. Поэзия и драматургия могут быть рассмотрены и как своеобразная творческая лаборатория его прозы (романов, рассказов), и как самостоятельный художественный мир. Наиболее очевидный пример тому — поэтика сборника «Возвращение Чорба» (1930), в котором поэзия как бы «сопровождает» прозаический дискурс, порождая особый пространственно-временной континуум, в котором, благодаря личностным возможностям героя и лирического субъекта, грань между поэзией и прозой становится весьма проницаемой.
Игровое пространство у В. Сирина-Набокова актуализируется не только на уровне слова внутри текста, но также между самими дискурсами и даже во внетекстовой реальности (биографии художника). Сама структура игрового пространства, включающая в себя различные уровни: родовом (диффузия лирического и драматического начал), жанровом (взаимопроникновение стихотворений и рассказов в сборнике «Возвращение Чорба»), сюжетно-фабульном (игра с героями), полисемантическом (обнаружение новых смыслов слова), внетекстуальном (мистифицирующие моменты в реальной биографии писателя). Всё это позволяет рассматривать игру В. Набокова как явление если не универсальное, то достаточно важное для его поэтики.
В связи с этим при анализе лирики и драматургии В. Сирина весьма логичным представляется обращение к его прозе (рассказам и романам, прежде всего русскоязычным), а также к литературно-критическому дискурсу (статьям, эссе, лекциям по литературе, интервью). Подобная структура исследования позволит рассмотреть привычно называемое «периферийным» поэтическое и драматургическое творчество В. Набокова как бы в стереоскопическом плане, развенчать представление о нем как о малозначимом явлении в наследии художника, а также выявить узловые моменты игрового пространственно-временного континуума, манифестированного в поэтических и драматургических текстах.
Цель настоящей работы — исследование игрового пространства и времени в поэзии и драматургии В. Набокова — реализуется через решение следующих задач:
— теоретической: осмыслить игровое пространство в прозе и драматургии В. Набокова как специфическую дефиницию его поэтики;
— историко-литературной: проследить развитие основных пространственно-временных представлений в русскоязычной поэзии и драматургии В. Набокова 1920;1960 гг. как смыслообразующего фактора.
Актуальность диссертации определяется потребностью рассмотрения творчества В. В. Набокова, органической части художественного опыта XX века, в его недостаточно исследованных аспектах и в той его части, которая редко попадала в поле зрения учёных.
Научная новизна работы обусловлена тем, что русскоязычная поэзия и драматургия В. Набокова впервые стала предметом проблемного исследования, в котором изучаются дискурсивные отношения внутри текста, выявляется динамический характер пространственно-временных отношений.
Объектом и материалом исследования стали русскоязычная поэзия и драматургия В.Набокова. Они рассматриваются сквозь призму эстетики Серебряного века, в частности, символистской, для которой крайне важным являлось использование креативной природы слова. При анализе лирики и драматургии В. Набокова в случае необходимости мы обращаемся к его прозе (рассказам и романам) и литературно-критическому наследию (статьям, лекциям по литературе, эссе, интервью), рассматривая поэзию и драматургию В. Набокова в контексте его творчества как целого.
Методологической базой исследования послужили философские и литературоведческие работы в следующих областях: теория лирики (Л.Я. Гинзбург, Т. И. Сильман, Б. О. Корман, М. Н. Дарвин и др.), теория драматургии (Э. Лессинг, Э. Бентли, Г. Д. Гачев и др.), теория времени и пространства (М.М. Бахтин, В. Н. Топоров, Ю. М. Лотман, A.M. Мостепаненко и др.), специфика игры и игровой поэтики (И. Кант, И. Ф. Шиллер, 3. Фрейд, с".
И. Хёйзинга, М. М. Бахтин, A.M. Люксембург, А. А. Пимкина, И. Е. Филатов, О. А. Ганжара и др.), поэтика русского символизма (А. Ханзен-Лёве, И. С. Приходько, И. Г. Минералова и др.), структура слова, имени (А.А. Потебня, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет и др.). Системный анализ художественных текстов проводился с использованием историко-литературного, сравнительно-типологического, структурно-семантического методов анализа текста, разработанных отечественными и зарубежными литературоведами (Ю.Н. Тынянов, Т. И. Сильман, Л. Я. Гинзбург, Б. О. Корман, А. Ханзен-Лёве и др.).
Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке понятия «игровое пространство» как категории художественного и личностного восприятия в поэзии и драматургии В. Набокова.
Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты могут быть использованы при разработке вузовского курса истории русской литературы XX века, при проведении семинарских занятий и чтении спецкурсов по творчеству В. Набокова, а также при комментировании набоковских текстов.
Апробация работы. Диссертация обсуждена на кафедре русской литературе XX века Воронежского государственного университета. Её основные положения докладывались на всероссийских научных конференциях «Русская литература и философия: постижение человека» (Липецк, 2001), «XIV Пуришевские чтения: Всемирная литература в контексте культуры» (Москва, 2002), а также на заседаниях ежегодных научных сессий филологического факультета ВГУ в 2001;2003 гг. По теме диссертации опубликовано 5 работ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Поэзия и драматургия В. Набокова явились своеобразной творческой лабораторией художника, в которой закладывались основы его мировидения и поэтики.
2. Игровое пространство в поэзии и драматургии В. Набокова есть внутритекстовое пространство познания, создаваемое автором на границе житейского и интеллектуального опыта героя и направленное на постижение личности персонажа и мира.
3. Дискурсивные отношения в драматургии В. Набокова строятся как разноуровневый феномен, в котором различаются дискурс автора и внутритекстовые дискурсы действующих лиц. Эти отношения позднее проникли и в прозу писателя.
4. С л о в о (и м я) у В. Набокова осмысляется как онтологический по существу знак, с помощью которого художник обозначает целостность мира, своё присутствие в нём.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
С момента выхода первых статей о В. Набокове прошло более семидесяти лет, со времени появления первых монографий об его творчестве — около сорока. Сегодня мы можем говорить о существовании целой отрасли филологии — набоковедения. Одной из главных её направлений, наряду с интертекстуальным исследованием наследия художника, является изучение игры как характерного феномена набоковских текстов. В то же время ограниченность регистрацией игровых приёмов и рассмотрение их как самодостаточных явлений в итоге привели к пониманию игры у В. Сирина-Набокова как некоего искусственного, «мёртвого», «бездушного» пространства, где «жизнь природная [курсив Н. А. Есаулова. — В.Г.]. безусловно и открыто враждебна герою» [89- 255].
Вместе с тем анализ малоизученной стороны творчества В. Набокова (поэзии и драматургии) на фоне его прозаического наследия позволяет дать принципиально новую трактовку игрового пространства и времени. В поэзии и драматургии В. Сирина-Набокова обозначается многоуровневое дискурсивное пространство: на уровне текста — пространство смысла, внутри текста — пространство героя (в поэзии — лирического субъекта). Таким образом, создание дискурсивного пространства продиктовано наличием дискурсивных отношений, в которых игровой феномен маркирует ситуацию свободы выбора для героя и непредсказуемости финала для автора.
В лирическом дискурсе (сборники «Гроздь», «Горний путь», «Возвращение Чорба», «Poems and problems»), обозначаются основные координаты игрового пространства и времени: сон, смерть, стекло / зеркало / отражение / тень / виртуальные («кинематографичные») образы. Пространство, где лирический субъект обнаруживает себя в пограничной ситуации жизни / смерти, яви / сна, апофатически определяет собственное пространство личности.
Игровой дискурс многогранно реализуется и в пьесах В. Набокова, где, как правило, герой-протагонист сам становится предметом игры (Эдмонд, постоялец, Трощейкин). Апограничность пространства и времени обусловливает изменение каузальности причинно-следственной в эмоционально-словесную («Дедушка», «Событие»), в связи с чем на первый план выходит не событие, а игра со словом, которая получает свои пространственно-временные параметры уже на уровне самого автора. Прежде всего это игра с именем Сирин: известно, что в 1920;1930 гг. произведения художника выходили с подписями «В. Набоков-Сирин», «В. Сирин-Набоков», «В.В. Сирин». Позже на вопрос корреспондента радио «Голос Америки» о том, у кого будут брать интервью — у русского писателя Владимира Сирина или у американца Владимира Набокова, он ответил: «Не смущайтесь присутствием этой сборной команды: тут, конечно, есть и Набоков, и Сирин, и ещё кое-кто» [183- 62].
Таким образом, игровой дискурс набоковских произведений позволяет интерпретировать отношения «автор — лирический субъект» и «авторгерой-протагонист» как коммуникативную ситуацию, не имеющую изначально заданного решения (открытые финалы) и не позволяющую точно идентифицировать субъект, объект и адресат коммуникативного акта (т.е. автора, текст и героя). Как указывает В. И. Тюпа, «преимущественные связи между художественными языками различных текстов — прежде всего, жанровые — дают ключ к пониманию всякого нового такого языка, однако исчерпывающее декодирование здесь принципиально невозможно» [287- 9].
Итак, игровой дискурс текстов В. Сирина представляет собой языковую ткань, основной мировоззренческой и художественной универсалией которой выступает слово. Именно слово находится в центре пространственно-временных параметров создаваемой модели мира, слово выходит в авангард её эстетических и ценностных характеристикнаконец, посредством слова совершается актуализация целостности «я — в — мире». В итоге художественное произведение (игровой дискурс) становится своего рода стратегическим средством познания человеческой личности как в пределах текста, так и в реальной действительности, а также внутри собственного «я».
Важно отметить, что поэтика набоковских произведений (прежде всего творческого периода до 1940 г.) во многом связана с философскими и эстетическими исканиями Серебряного века, наиболее характерной чертой которого была идея художественного синтеза. Как отмечает И. Г. Минералова, «художественный синтез вовсе не обязательно проявлялся у писателей в том преломлении, которое характерно для художников символистских кругов, вообще для модернистов. .В то же время он возник на фоне символистских исканий, как реакция [курсив И. Г. Минераловой. -В.Г.] на них, и в этом смысле неразрывно с ним связан» [174- 177].
В творчестве В. Набокова этот художественный синтез получил своё специфическое выражение: на уровне поэтики это выразилось в диффузии драматических жанров (в частности, в прозаизации стиха), внутри текстанашло воплощение в создании многочисленных двойников, alter ego героев. Обозначенная структура во многом была связана с концепцией А. А. Потебни о внутренней форме слова. А. Белый, говоря о работах этого языковеда, словно предвосхитил краеугольный камень поэтики В. Набокова: «Смысл всей деятельности Потебни — выявить «иррациональные корни личности [курсив А. Белого. — В.Г.] в творчестве слов» [Цит. по: 174- 84]. Переосмысление прозы через поэзию, поэзии через прозу и в итогечеловеческой личности через слово — таковы задачи художника В. Набокова. Всё это особенно остро почувствовал И. Бродский: «.в своих собственных глазах Набоков был поэтом. И он хотел доказать окружающим, что в первую очередь он поэт. .В нём это глубоко сидело — быть поэтом. Настолько, что вся его проза строится на двоякости: возьмите все эти раздвоения личности, всех этих близнецов, отражения в зеркале, бесконечные подмены и т. д. В конечном итоге. я думал об этом, и вдруг меня озарило: У Набокова всё построено по принципу рифмы! Вот в чём дело» [43- 547].
Проведённый анализ поэтических и драматических текстов В. Набокова позволил пересмотреть уже устоявшийся взгляд на них как на малозначимое явление в наследии автора и показать, что «проза», «поэзия» и «драматургия» представляют собой разное слово художника и в то же время обладают целостным многообразием внутренних связей.
Отметим также, что наиболее актуальными направлениями в области исследования поэтики произведений В. Набокова нам представляются следующие:
— изучение поэзии и драматургии В. Набокова в более широком контексте (связи с русскои англоязычными романами, дальнейший анализ их внутритекстовых связей);
— исследование поэтических и драматических дискурсов В. Сирина в соотнесённости со средой, в которой он формировался как художник (эстетика Серебряного века, течения первой волны эмигрантской литературы и культуры);
— анализ лингвистической полисемии в поэзии и драматургии В. Набокова, связанной с особой ролью слова в поэтике художника.
Список литературы
- Белый А. Петербург. Стихи / А. Белый. М.: Олимп- ACT, 1998. — 624 с.
- Блок А.А. Избранное / А. А. Блок. М.: Олимп- ACT, 1996. — 528 с.
- Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 2 т. / М. Ю. Лермонтов. — М.: Правда, 1988.-Т. 1.-720 с.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2 т. / О. Э. Мандельштам. Тула: Филин, 1994. — Т.1. Стихотворения- Переводы. — 383 с.
- Набоков В.В. Избранное / В. В. Набоков. М.: ACT- Олимп, 1996. — 640 с.
- Набоков В.В. Пьесы / В. В. Набоков. М.: Искусство, 1990. — 288 с.
- Набоков В.В. Рассказы. Воспоминания / В. В. Набоков. М.: Современник, 1991. — 653 с.
- Набоков В.В. Стихи / В. В. Набоков. СПб.: Набоковский фонд «Дорн», 1997.-64 с.
- Набоков В.В. Стихотворения и поэмы / В. В. Набоков. Харьков: Фолио- М.: ООО «Издательство ACT», 1997. — 592 с.
- Ю.Набоков В. В. Трагедия господина Морна / В. В. Набоков // Звезда. 1997. -№ 4. -С. 9−98.
- П.Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы / Б. Л. Пастернак. Ашхабад: Туркменистан, 1987. — 400 с.
- Фет А. А. Волшебные звуки / А. А. Фет. Можайск: Можайский полиграфический комбинат, 1993. — 448 с.
- Абашев В.В. Танец как универсалия культуры серебряного века / В. В. Абашев // Время Дягилева: Универсалии серебряного века:
- Материалы III Дягилевских чтений. Пермь: Арабеск, 1993. — Вып. 1. -С. 7−19.
- Аверин Б.В. Воспоминание у Набокова и Флоренского / Б. В. Аверин //
- B.В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001. Т.2.1. C. 485−498.
- Аверин Б.В. Гений тотального воспоминания: О прозе Набокова / Б.В. Аверин//Звезда. 1999.-№ 4.-С. 158−163.
- П.Адамович Г. В. Сирин / Г. В. Адамович // Набоков В. В. Избранное. М.: ACT- Олимп, 1996. — С. 608−610.
- Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. СПб.: Алетейя, 1999. 320 с.
- Алексеева В.О. Образная система поэзии и прозы В. Набокова и языковые средства её выражения: (На материале поэзии 1918−1961 гг. и романа «Соглядатай»): Автореф. дис.. канд. филол. наук / В. А. Алексеева. Тамбов, 2000. — 23 с.
- Ан Чжиен. Проблема «балагана» в русской драматургии начала XX века: Дис. .канд. филол. наук / Чжиен Ан. СПб., 2002. — 216 с.
- Анастасьев Н. Феномен Набокова / Н. Анастасьев. М.: Советский писатель, 1992. — 316 с.
- Антокольский П. Театр Марины Цветаевой: Предисловие / П. Антокольский // Цветаева М. И. Театр. М.: Искусство, 1988. — С.5−22.
- Антошина Е.В. «Чужое слово» в прозе В.В. Набокова 20−40-х годов: Авфтореф. дис. .канд. филол. наук / Е. В. Антошина. Томск, 2002. -28 с.
- Аристотель. Поэтика / Аристотель // Собр. соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1986. -Т.4.-С. 645−680.
- Бабиков А.А. Мотивы «Евгения Онегина» в «Университетской поэме» В.В. Набокова / А. А. Бабиков // А. С. Пушкин и В. В. Набоков: Сб. докл. межд. конф. (15−18 апреля 1999).-СПб.: Дорн, 1999. С. 268−278.
- Бабиков А.А. «Событие» и самое главное в драматической концепции В.В. Набокова / А. А. Бабиков // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. -СПб.: РХГИ, 2001. -Т.2. С. 558−586.
- Багратиони-Мухранели Н. По направлению к Набокову / Н. Багратиони-Мухранели // Театр. 1992,-№ 2.-С. 72−81.
- Бакланова Е.А. Античность в поэзии В.В. Набокова / Е. А. Бакланова, Г. А. Чулина // Античный вестник. 1995. — Вып. 3. — С. 48−58.
- Барабаш Ю. Набоков и Гоголь: (Мастер и гений) / Ю. Барабаш // Москва. 1989.-№ 1.-С. 180−193.
- Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук / М. М. Бахтин. СПб.: Азбука, 2000. — 336 с.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. М.: Советская Россия, 1979. — 320 с.
- Белобровцева И. Мотив тени у В. Набокова / И. Белобровцева // Культура русской диаспоры: Владимир Набоков 100: Материалы науч. конф. (Таллинн — Тарту, 14−17 января 1999 г.). — Таллинн: TPU KIRJASTUS, 2000.-С. 76−90.
- Белый А. Символизм / А. Белый // Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 255−259.
- Бентли Э. Жизнь драмы / Э. Бентли. М.: Искусство, 1978. — 368 с.
- Бергсон А, Смех / А. Бергсон. М.: Искусство, 1992. — 128 с.
- Берлянд И.Е. Игра как феномен сознания / И. Е. Берлянд. Кемерово: Алеф, 1992.-93 с.
- Берн Э. Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди / Э. Берн. Минск: Современный литератор, 2000. — 386 с.
- Бетеа Д. Наглая проповедь идеализма / Д. Бетеа // Иосиф Бродский: Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000. — С.505−556.
- Битов А. Смерть как текст // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. -СПб.: РХГИ, 1997. Т.1. — С. 15−24.
- Бицилли П.М. В. Сирин. «Приглашение на казнь» Его же «Соглядатай». Париж, 1938 / П. М. Бицилли // Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. — М.: Наследие, 1996. — С. 639−642.
- Бло Ж. Набоков / Ж. Бло. СПб.: БЛИЦ, 2000. — 240 с.
- Блюм А.В. «Поэтик белый, Сирин.»: (Набоков о цензуре и цензура о Набокове) / А. В. Блюм // Звезда. 1999. № 4. — С. 198−203.
- Богард Д. На съёмках «Отчаяния»: (Из книги «Человек правил») / Д. Богард // Киноведческие записки. 1993/94. — № 20. — С. 231−235.
- Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы: Биография / Б. Бойд. М.: Независимая газета- СПб.: Симпозиум, 2001. — 695 с.
- Борев Ю.Б. О комическом / Ю. Б. Борев. М.: Искусство, 1957. — 232 с.
- Брюсов В.Я. Ключи тайн / В. Я. Брюсов // Брюсов В. Я. Среди стихов. 1894−1924: Манифесты, статьи, рецензии. М.: Советский писатель, 1990.-С. 89−101.
- Вахрушев В. О словесных играх Владимира Набокова / В. Вахрушев // Дон. 1997. — № 10. — С. 243−252.
- Верхейл К. Малый корифей русской поэзии: Заметки о русских стихах Владимира Набокова / К. Верхейл // Эхо: Лит. журнал (Париж). 1980. -№ 4 (12).-С. 138−145.
- Виноградова В.Н. Словотворчество Набокова / В. Н. Виноградова, И. С. Улуханов // Язык как творчество: Сб. статей к 70-летию В. П. Григорьева. М.: РАН, Ин-т рус. языка, 1996. — С. 267−276.
- Вислова А.В. На грани игры и жизни: (Игра и театральность в художественной жизни России «серебряного века») / А. В. Вислова // Вопросы философии. 1997. — № 12. — С. 28−38.
- Вознесенский А. Геометридка, или Нимфа Набокова / А. Вознесенский // Октябрь. 1986.-№ 11. — С.111−114.
- Володин Э.Ф. Специфика художественного времени / Э. Ф. Володин // Вопросы философии. 1978. -№ 8. — С. 132−141.
- Воронина О.Ю. Категория «художественной реальность» в поэтике романов В.В. Набокова: Автореф. дис.. канд. филол. наук / О. Ю. Воронина. СПб., 2002. — 29 с.
- Выготский Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. 1966. — № 6. — С. 62−76.
- Выготский Л.С. Психология искусства / Л. С. Выготский. СПб.: Азбука, 2000.-410 с.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией и Славянством / Г. Д. Гачев. М.: Раритет, 1997. — 678 с.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр / Г. Д. Гачев. М.: Просвещение, 1968. — 304 с.
- Герра Р. Владимир Набоков в искривлённой ипостаси: Заметки о двух последних пьесах Набокова-Сирина «Событие» и «Изобретение Вальса» / Р. Герра // Континент. — 1985. — № 45. — С. 367−392.
- Гинзбург Е.Л. Конструкции полисемии в русском языке: Таксономия и метонимика / Е. Л. Гинзбург. М: Наука, 1985. — 224 с.
- Гинзбург Л.Я. О лирике / Л. Я. Гинзбург. М.: Интрада, 1997. — 416 с.
- Глебов Ю.Н. «Влюблённость» Владимира Набокова: потайной источник / Ю. Н. Глебов // Russian studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1995. — Т. 1. — № 3. — С. 273−277.
- Глобова Ю.Л. Поэтика сборника рассказов В. Набокова «Возвращение Чорба» (1930): Дис.. канд. филол. наук / Ю. Л. Глобова. Самара, 2000.- 242 с.
- Голубков С.А. Гармония смеха / С. А. Голубков. Самара: Самарское книжное издательство, 1993. — 184 с.
- Гурболикова О.А. Тайны Владимира Набокова: Библиографические очерки / О. А. Гурболикова. — М.: Российская государственная библиотека, 1995.-248 с.
- Давыдов С. Набоков: герой, автор, текст / С. Давыдов // В.В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001. — Т. 2. — С. 315−327.
- Даниэль С. Оптика Набокова / С. Даниэль // Набоковский вестник: Сб. науч. тр.-СПб.: Дорн, 1999.-Вып. 4.-С. 168−172.
- Дарвин М.Н. Поэтика лирического цикла («Сумерки» Е.А. Баратынского): Учеб. пособие / М. Н. Дарвин. Кемерово: КемГУ, 1987.-54 с.
- Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики: Учеб. пособие / М. Н. Дарвин. Кемерово: КемГУ, 1983.- 105 с.
- Двинятин Ф. Пять пейзажей с набоковской сиренью / Ф. Двинятин //
- B.В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001. — Т. 2.1. C. 291−314.
- Долинин А. «Двойное время» у Набокова: (От «Дара» к «Лолите») / А. Долинин // Пути и миражи русской культуры: Сб. статей. СПб., 1994. -С. 283−322.
- Долинин А. Удар и дар Владимира Набокова / А. Долинин // Новое время. 1997.-№ 29.-С. 40−41.
- Евреинов Н. Театр для себя / Н. Евреинов. Пг., 1915. — 318 с.
- Ермилова Е.В. Метафоризация мира в поэзии XX века / Е. В. Ермилова. -М.: Наука, 1989.-205 с.
- Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма / Е. В. Ермилова. М.: Наука, 1985. — 174 с.
- Жолковский А.К. Блуждающие сны / А. К. Жолковский. М.: Советский писатель, 1992. — 429 с.
- Захаров К.М. Мотивы Игры в драматургии Н.В. Гоголя: Дис.. канд. филол. наук / К. М. Захаров. Саратов, 1999. — 179 с.
- Зверев A.M. Набоков / A.M. Зверев. М.: Молодая гвардия, 2001. — 453 с. 99.3лочевская А. В. Парадоксы «игровой» поэтики Владимира Набокова: (На материале повести «Отчаяние» / А. В. Злочевская // Филологические науки. 1997. — № 5. — С. 3−12.
- Золотницкий Д.Н. Театр поэта / Д. Н. Золотницкий // Гумилёв Н. С. Драматические произведения. Переводы. Статьи. М.: Искусство, 1990. -С. 3−38.
- Зоркая Н. Мартиролог Андрея Тарковского / Н. Зоркая // Огонёк. -1989. № 15.-С. 14−16.
- Ищук-Фадеева Н. И. Эрос и танатос в ранней драматургии Набокова / Н.И. Ищук-Фадеева // Кормановские чтения: Материалы межд. конф. «Гений 2000″ (Ижевск, апрель, 2001). — Ижевск: Изд-во Удмурт, гос. ун-та, 2002.-Вып. 4. — С. 206−213.
- Йен Тинг-Чиа. Семантика хронотопа в романе В. Набокова „Машенька“ / Тинг-Чиа Йен // XX век. Проза. Поэзия. Критика: А. Белый, И. Бунин, В. Набоков, Е. Замятин. и Б. Гребенщиков. М., 1996.-С. 24−30.
- Йен Тинг-Чиа. Специфика пространственно-временной организации русскоязычных романов В. Набокова („Машенька“, „Защита Лужина“, „Приглашение на казнь“): Дис.. канд. филол. наук / Тинг-Чиа Йен. -М., 1999, — 180 с.
- Кант И. Критика способности суждения / И. Кант. СПб.: Наука, 1995.-512 с.
- Капралов Г. „Изобретение Вальса“: На сцене Рижского ТЮЗа / Г. Капралов // Правда. 1988. — 20 декабря.
- Карасёв JI.B. Мифология смеха / Л. В. Карасёв // Вопросы философии.- 1991. — № 7. С. 68−86.
- Карасёв Л.В. Парадокс о смехе / Л. В. Карасёв // Вопросы философии.- 1989. -№ 5.-С. 47−65.
- Карасёв Л.В. Феноменология смеха / Л. В. Карасёв // Человек. 1990. -№ 2.-С. 175−183.
- Карасёв Л.В. Философия смеха / Л. В. Карасёв. М.: Изд-во Росс. гос. гуманит. ун-та, 1996. — 222 с.
- Карельский А.В. Поэзия и проза Владимира Набокова / А. В. Карельский // Филологические записки. 1998. — Вып. 10. — С.58−71.
- Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение / С. Д. Кацнельсон. М: Наука, 1965. — 112 с.
- Кедров К. Энциклопедия метаметафоры / К. Кедров. М.: ДООС, 2000. — 126 с.
- Книга Бытия // Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2001. — С. 5−54.
- Козлова С.М. Утопия истины и гносеология отрезанной головы в „Приглашении на казнь“ / С. М. Козлова // Звезда. 1999. — № 4. -С. 184−189.
- Корман Б.О. Лирика и реализм / Б. О. Корман. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1986. — 96 с.
- Корман Б. О. Лирика Н.А. Некрасова / Б. О. Корман. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1964. — 391 с.
- Кормер В.Ф. О карнавализации как генезисе „двойного сознания“ / В. Ф. Кормер // Вопросы философии. 1991. -№ 1.-С. 166−185.
- Коробкин В. „Мне снились полевые дали.“: (О поэзии В. Набокова) / В. Коробкин //Нева. 1989,-№ 4.-С. 199−200.
- Коршунова Е. К вопросу о датах биографии : (Крымский период) / Е. Коршунова // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001.-Т. 2.-С. 958−961.
- Кретинин А.А. „Синие страны“ Владимира Набокова: „Защита Лужина“, „Дар“, „Машенька“, „Приглашение на казнь“ / А.А. Кретинин
- Кузнецов В. Выдумщик реальности: нерасторжимость разума и чувств Владимира Набокова / В. Кузнецов // Новое время. 1999. — № 14. -С.42−43.
- Курашвили О.В. В. Набоков и шахматная поэзия / О.В. Курашвили // Простор. 1997. -№ 5. -С. 110−111.
- Курганова Е.В. Особенности полисемии в творчестве В.В. Набокова 1920-х 30-х годов: Дис.. канд. филол. наук / Е. В. Курганова. — М., 2001.-245 с.
- Кусаинова Т.С. Темы „Пространство“ и „Время“ в лексической структуре художественного текста (по роману В. Набокова „Другие берега“): Дис. .канд. филол. наук / Т. С. Кусаинова. СПб., 1997. — 170 с.
- Кутырев В.А. Пост-пред-гипер-контр-модернизм: концы и начала / В. А. Кутырев // Вопросы философии. 1998. — № 5. — С. 135−150.
- Лебедева Е. Смерть Цинцинната Ц.: (Опыт мифологической интерпретации романа „Приглашение на казнь“ В. Набокова / Е. Лебедева // Набоковский вестник: Сб. науч. тр. СПб.: Дорн, 1999. -Вып. 4.-С. 154−159.
- Лебедева Т.Е. Полисемия в русских народных говорах: (На материале имён существительных): Автореф. дис.. канд. филол. наук / Т. Е. Лебедева. СПб., 2002. — 27 с.
- Левин Ю.И. Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова / Ю. И. Левин // Левин Ю. И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. -М.: Языки русской культуры, 1998. С. 323−391.
- Левин Ю.И. Зеркало как потенциальный семиотический объект / Ю. И. Левин // Левин Ю. И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. — С. 572−577.
- Левинг Ю. Раковинный гул небытия: (В. Набоков и Ф. Сологуб) / Ю. Левинг // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001.-Т. 2.-С. 499−519.
- Левинский Л. ». .и весь в черёмухе овраг!" / Л. Левинский // Аврора. -1991.-№ 12.-С. 86−87.
- Линецкий В. «Анти-Бахтин» лучшая книга о Владимире Набокове /
- B. Линецкий. СПб.: Типография им. Котлякова, 1994. — 216 с.
- Липовецкий М.Н. «Беззвучный взрыв любви»: Заметки о Набокове / М. Н. Липовецкий // Урал. 1992. — № 4. — С. 155−176.
- Липовецкий М. Н. Метапроза В. Набокова: От «Дара» до «Лолиты» / М. Н. Липовецкий // Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1997.1. C. 44−106.
- Лосев А.Ф. Вещь и имя / А. Ф. Лосев // Лосев А. Ф. Имя: Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. СПб.: Алетейя, 1997.-С. 168−245.
- Лосев А.Ф. Философия имени / А. Ф. Лосев. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1990.-272 с.
- Лотман М.Ю. А та звезда над Пулковом.: Заметки о поэзии и стихосложении В. Набокова / М. Ю. Лотман // Вышгород (Таллинн). -1999.-№ 3.-С. 63−77.
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста / М. Ю. Лотман. Л.: Просвещение, 1972.-271 с.
- Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя / М. Ю. Лотман // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. -М.: Просвещение, 1988. С. 252−274.
- Лукшич И. «Слава» Владимира Набокова: К функции автометаописания в русской эмигрантской поэзии / И. Лукшич // Автоинтерпретация: Сб. статей. СПб.: СПбГУ, 1998. — С. 194−206.
- Люксембург A.M. Амбивалентность как свойство набоковской игровой поэтики / A.M. Люксембург // Набоковский вестник: Сб. науч. тр.-СПб.: СПбГУ, 1998.-Вып. 1.-С. 16−25.
- Люксембург A.M. Магистр игры Вививан Ван Бок: (Игра слов в прозе Владимира Набокова в свете теории каламбура) / A.M. Люксембург, Г. Ф. Рахимкулова. Ростов-на Дону: Изд-во Ин-та массовых коммуникаций, 1996. — 202 с.
- Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов / М. М. Маковский. М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 1996. -416с.
- Малаховский Л.В. Теории лексической и прагматической омонимии / Л. В. Малаховский. Л.: Наука, 1990. — 238 с.
- Маликова М.Э. В. Набоков. Авто-био-графия / М. Э. Маликова. -СПб.: Академический проект, 2002. 234 с.
- Малофеев П. Н. Поэзия В. Набокова: Автореф. дис.. канд. филол. наук / П. Н. Малофеев. Екатеринбург, 1996. — 19 с.
- Медарич М. Владимир Набоков и роман XX столетия / М. Медарич //
- B.В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 1997. — Т. 1.1. C. 454−475.
- Метрическое свидетельство о рождении и крещении В. В. Набокова //
- B.В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001. — Т. 2.1. C. 956−957.
- Минтанг Г. Владимир Набоков / Г. Минтанг // Звезда. 1999. — № 4. -С. 55−56.
- Минц З.Г. Понятие текста и символистская эстетика / З. Г. Минц // Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Тарту: Изд-во Тартус. гос. ун-та, 1974. — С. 134−141.
- Млечко А.В. Пародия как элемент поэтики романов В.В. Набокова: Дис.. канд. филол. наук / А. В. Млечко. Волгоград, 1998. — 226 с.
- Мокроусов А. Это скорее театр подростка / А. Мокроусов // Современная драматургия. 1991. — № 4. — С. 252−253.
- Мурянов М. Ф К интерпретации славянских цветообозначений / М. Ф. Мурянов // Вопросы языкознания. 1978. — № 5. — С. 93−109.
- Мущенко Е.Г. Художественное время в романе А. Платонова «Чевенгур» / Е. Г. Мущенко // Андрей Платонов: Исследования и материалы: Сб. науч. тр. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1993. -С. 28−38.
- Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / Сост. Н. Г. Мельников. М.: Издательство Независимая Газета, 2002. — 704 с.
- Набоков В.В. Заметки <для стихотворного вечера в Итаке 1949 г.> / В. В. Набоков // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001.-Т. 2.-С. 124−144.
- Набоков В.В. Из интервью Бернару Пиво на французском телевидении. 1975 г. / В. В. Набоков // Звезда. 1999. — № 4. — С. 48−54.
- Набоков В.В. Интервью журналу «Лайф», 20 ноября 1964 г. /
- B.В. Набоков // Собр. соч. американского периода. СПб.: Симпозиум, 1997.-Т. 2.-С. 584−588.
- Набоков В.В. Интервью журналу «PLAYBOY», 1964 / В. В. Набоков // Собр. соч. американского периода. СПб.: Симпозиум, 1998. — Т. 3.1. C. 562−588.
- Набоков В.В. Интервью телевидению Би-Би-Си, 1962 / В. В. Набоков // Собр. соч. американского периода. СПб.: Симпозиум, 1997. — Т. 2. -С. 567−577.
- Набоков В.В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина / В. В. Набоков. М.: МГЖ «Интелвак», 1999. — 1008 с.
- Набоков В.В. On Generalities. Гоголь. Человек и вещи / В. В. Набоков // Звезда. 1999. — № 4. — С. 12−22.
- Набоков В.В. Эссе и стихи из журнала «Карусель» / В. В. Набоков // Звезда. 1996. — № 11. — С. 42−45.
- Набокова В.Е. Предисловие к сборнику: В. Набоков. Стихи (1979) / В. Е. Набокова // Владимир Набоков: Pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РГХИ, 1997. — Т. 1. — С. 348−349.
- Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения / М. В. Никитин. М.: Высшая школа, 1988. — 168 с.
- Новиков В.Н. Книга о пародии / В. Н. Новиков. М.: Советский писатель, 1989. — 544 с.
- Новиков JI.A. Об одном из способов разграничения полисемии и омонимии / Л. А. Новиков // Русский язык в школе. 1960. — № 3. — С. 10−14.
- Носик Б. Мир и дар Владимира Набокова: Первая русская биография / Б. А. Носик. М.: Пенаты, 1995. — 570 с.
- Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства / X. Ортега-и-Гассет // Человек. 1990. — № 2. — С. 89−111.
- Отрощенко Е.В. Композиция пространства в лирическом стихотворении как проблема исторической поэтики: (Русская поэзия от Державина до Блока): Дис.. канд. филол. наук / Е. В. Отрощенко. М., 2001.- 111 с.
- Павловский А.И. Николай Гумилёв: Предисловие / А. И. Павловский // Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, Ленингр. отделение, 1988. — С. 5−62.
- Паламарчук П. Театр В. Набокова / П. Паламарчук // Дон. 1990. -№ 7.-С. 147−153.
- Панин Д.М. Пространство. Время. Движение / Д. М. Панин // Панин Д. М. Теория густот. М.: Мысль, 1993. — С.27−35.
- Первое послание к Коринфянам // Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2001.-С. 1244−1261.
- Пило Бойл. Ч. Набоков и русский символизм: (История проблемы) / Ч. Пило Бойл // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ. 2001.-Т. 2.-С. 532−550.
- Пимкина А. Игровой принцип творчества В.В. Набокова: (На примере романов «Защита Лужина» и «Пнин») / А. Пимкина // Набоковский вестник: Сб. науч. тр. СПб.: Дорн, 1999. — Вып. 4. — С. 135−139.
- Пимкина А.А. Принцип игры в творчестве В.В. Набокова: Дис.. канд. филол. наук / А. А. Пимкина. М., 1999. — 171 с.
- Платек Я. Есть в одиночестве свобода: Музыкальный мир В. Набокова / Я. Платек // Музыкальная жизнь. 1992. — № 5/6. — С. 22−25, 29.
- Подорога В.А. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию: Материалы лекционных курсов 1992—1994 годов / В. А. Подорога. М.: Ad marginem, 1995. — 342 с.
- Поликарпов B.C. Время и культура / B.C. Поликарпов. Харьков: Вища шк.- Изд-во при Харьков, ун-те, 1987. — 160 с.
- Полищук В. Жизнь приёма у Набокова / В. Полищук // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 1997. — Т. 1. — С. 815−828.
- Польская С. Сонет В. Набокова «Смерть Пушкина» / С. Польская // А. С. Пушкин и В. В. Набоков: Сб. докл. межд. конф. (15−18 апреля 1999). СПб: Дорн, 1999. — С. 10−19.
- Потебня А.А. Мысль и язык / А. А. Потебня. М.: «Лабиринт», 1999. -300 с.
- Похлёбкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики /
- B.В. Похлёбкин. М.: Международные отношения, 2001. — 560 с.
- Приходько Н.С. Мифопоэтика Александра Блока / Н. С. Приходько. -Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1996. 82 с.
- Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха / В. Я. Пропп. СПб.: Алетейя, 1997.-288 с.
- Проффер К. Ключи к «Лолите» / К. Проффер. СПб.: Симпозиум, 2000.-302 с.
- Прохорова В.Н. Полисемия и лексико-семантический способ словообразования в современном русском языке / В. Н. Прохорова. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1980. — 88 с.
- Пуля И.И. А.П. Чехов и драма В. В. Набокова «Событие» / И. И. Пуля // Вестник Вят. пед. ин-та. 1988. — Вып. 3. — С. 21−24.
- Пятигорский А. Чуть-чуть о философии Владимира Набокова /
- A. Пятигорский // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 1997.-Т. 2.-С. 340−347.
- Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919 1939 / М. Раев. — М.: Прогресс — Академия, 1994. — 296 с.
- Рахимкулова Г. Ф. Специфические функции скобок в набоковских текстах и проблемы игровой стилистики / Г. Ф. Рахимкулова II Набоковский вестник: Сб. науч. тр. СПб.: Дорн, 1999. — Вып. 4. -С. 12−17.
- Ремез О.Я. Мизансцена и сценическое действие / О. Я. Ремез. М.: ГИТИС, 1982, — 115 с.
- Рикёр П. Время и рассказ: В 2 т. М.- СПб.: Университетская книга, 2000. — Т. 2. Конфигурация вымышленного в рассказе. — 224 с.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века / В. П. Руднев. М.: Аграф, 1999.-384 с.
- Савельева В.В. Лицо и «личико часов» у Владимира Набокова /
- B.В. Савельева//Русская речь. 1998. -№ 4. — С. 17−21.
- Савельева Г. Кукольные мотивы в творчестве Набокова / В. В. Савельева // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001.-Т.2.-С. 328−341.
- Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII -начало XVIII в.)/Л.И. Сазонова. М.: Наука, 1991.-263 с.
- Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. М.: Языки русской культуры- Кошелев, 1999. — 544 с.
- Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма / В. А. Сарычев. -Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1991. 320 с.
- Селицкая З.Я. К вопросу о соотношении книги стихов и лирического цикла: (С. Клычков. Песни) / З. Я. Селицкая // Сюжет и художественная система: Межвуз. сб. науч. тр. Даугавпилс: Изд-во Даугавпилс. гос. пед. ин-та, 1983.-С. 145−151.
- Семёнова С. Два полюса русского эмигрантского сознания: Проза Г. Иванова и В. Набокова-Сирина / С. Семёнова // Новый мир. 1999. -№ 9. — С. 183−205.
- Сильман Т.И. Заметки о лирике / Т. И. Сильман. Л.: Советский писатель, 1977. — 224 с.
- Смирнов В. «Но есть и Набоков-поэт!» / В. Смирнов // День. 1992. -№ 34. — С. 6.
- Смирнов В. Стихи Набокова: Предисловие / В. Смирнов // Набоков В. В. Стихотворения. -М.: Молодая гвардия, 1991. С. 5−19.
- Смолякова Г. Н. «Воздух твой, вошедший в грудь мою, я тебе стихами отдаю.»: (В. Набоков и А. Ахматова) / Г. Н. Смолякова // Набоковский вестник: Сб. науч. тр. СПб.: Дорн, 1999. — Вып. 4. — С. 69−74.
- Созина Е.К. Символика зеркала в прозе И.А. Бунина / Е. К. Созина // И. А. Бунин: Диалог с миром: Межвуз. сб. науч. тр., посвящ. творчеству И. А. Бунина. Воронеж: Полиграф, 1999. — С. 59−69.
- Солоухин В. Поэт В. Набоков: Предисловие / В. Солоухин // Москва. -1989.-№ 6.-С. 16.
- Спиваковская А.С. Игра это серьёзно / А. С. Спиваковская. — М.: Педагогика, 1981. — 144 с.
- Старк В. А.А. Блок в художественных отражениях В. В. Набокова / В. Старк // Набоковский вестник: Сб. науч. тр. СПб.: Дорн, 1999. -Вып. 4.-С. 53−68.
- Старк В. Внутренняя хронология романа «Лолита» / В. Старк //
- B.В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001. — Т. 2.1. C. 864−868.
- Старк В. Воскресение господина Морна: Предисловие / В. Старк // Звезда. 1997. — № 4. — С. 6−8.
- Старк В. Набоков Цветаева: заочные диалоги и «горние» встречи / В. Старк// Звезда, — 1996,-№ 11.-С. 150−156.
- Старк В. «Странное сближение» Набоков и Есенин / В. Старк // Звезда. — 1999.-№ 4.-С. 190−194.
- Степанова Н.С. Мотив воспоминаний как эстетическая проблема в русскоязычных произведениях В. Набокова: Автореф. дис.. канд. филол. наук / Н. С. Степанова. Орёл, 2000. — 30 с.
- Стернина М.А. Лексико-грамматическая полисемия в системе языка / И. А. Стернии. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1999. — 160 с.
- Сугимото К. Многослойное время у В.В. Набокова / К. Сугимото // Набоковский вестник: Сб. науч. тр. СПб.: Дорн, 1999. — Вып. 4. -С. 26−33.
- Тарви Л. Поэтика и билингвизм: Из опыта сравнительного анализа стихов В. В. Набокова / Л. Тарви // Набоковский вестник: Сб. науч. тр. -СПб.: Дорн, 1999.-Вып. 4. С. 101−113.
- Тарковский А. Запечатленное время / А. Тарковский // Искусство кино. 1967. — № 4. — С. 69−79.
- Тименчик Р.Д. Читаем Набокова: «Изобретение Вальса» в постановке Адольфа Шапиро / Р. Д. Тимменчик // Родник (Рига). 1988. — № 10. -С. 46−48.
- Токер Л. Набоков и этика камуфляжа / Л. Токер // В. В. Набоков: pro et contra: Сб. науч. тр. СПб.: РХГИ, 2001. — Т. 2. — С. 377−386.
- Толстая Н.И. Византийская образность поэзии В. Набокова / Н.И. Толстая//Русская провинция. 1995.-№ 1.-С. 81−85.
- Толстая С.М. Зеркало / С. М. Толстая // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. — С. 195.
- Толстой Ив. Набоков и его театральное наследие: Предисловие / Ив. Толстой // Набоков В. В. Пьесы. М: Искусство, 1990. — С. 5−42.
- Толстой Ив. Преодоление стены: Пьесы В. Набокова «Событие» и «Изобретение Вальса» в Ленинграде и Риге / Ив. Толстой // Звезда. -1989. -№ 7.-С. 203−206.
- Томашевский А. Набоковский Пушкин / А. Томашевский // Современная драматургия. 1991. — № 4. — С. 255−256.
- Топоров В.Н. Пространство и текст / В. Топоров // Текст: семантика и структура: Сб. статей. М.: Наука, 1983. — С. 227−284.
- Тырышкина Е.А. Ассоциативное поле как элемент поэтической картины мира В. Набокова: Автореф. дис.. канд. филол. наук / Е. А. Тырышкина. Барнаул, 2002. — 18 с.
- Тюпа В.И. Пролегомены к теории эстетического дискурса / В. И. Тюпа // Проблема художественного языка: Сб. тр. Самарской гуманитарной академии. Самара: Изд-во СаГа, 1996. — Вып. 2. — С.3−10.
- Уортман Р. Воспоминания о Владимире Набокове / Р. Уортман // Звезда. 1999. — № 4. — С. 156−157.
- Фалькович М.М. К вопросу об омонимии и полисемии / М. М. Фалькович // Вопросы языкознания. 1960. — № 5. — С. 85−88.
- Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. А. Фатеева. М.: «Агар», 2000. — 280 с.
- Фаустов А.А. О гоголевском зрении: (Между «Арабесками» и вторым томом «Мёртвых душ») / А. А. Фаустов // Филологические записки / Воронеж, гос. ун-т. 1996. — Вып. 7. — С. 45−63.
- Фёдоров А. В. Театр А. Блока и драматургия его времени /
- A.В. Фёдоров. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. — 144 с.
- B.C. Фёдоров // Набоков В. В. Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1991.-С. 5−16.
- Федякин С. Круг кругов, или Набоковское зазеркалье: Предисловие /
- C. Федякин // Набоков В. В. Избранное. М.: ACT, Олимп, 1996. -С. 5−12.
- Филимонов А.О. «Обезумевшие вещи»: Пространство сна в поэзии Владимира Набокова / А. О. Филимонов // Набоковский вестник: Сб. науч. тр. СПб.: Наука, 1999. -№ 4. — С. 91−100.
- Филимонов А.О. Тень Пушкина в поэзии Набокова / А. О. Филимонов // А. С. Пушкин и В. В. Набоков: Сб. докл. Межд. конф. (15−18 апреля 1999). СПб.: Дорн, 1999. — С. 76−87.
- Флоренский П.А. Иконостас / П. А. Флоренский. М.: ООО «Издательство ACT», 2001. — 208 с.
- Флоренский П.А. Имена / П. А. Флоренский. М.: ТОО «Купина», 1993.-320 с.
- Флоренский П.А. Небесные знамения: (Размышления о символике цветов) / П. А. Флоренский // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1996. — Т.2. -С. 414−418.
- Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии / П. А. Флоренский. М.: Мысль, 2000. — 446 с.
- Флоренский П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия / П. А. Флоренский // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1996. — Т.2. — С. 352−369.
- Флоровский Г. Пути русского богословия / Г. Флоровский. Киев, 1991.-599 с.
- Фомин С. «Стихи пронзившая стрела»: (Тема творчества в поэзии
- Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному / 3. Фрейд. -СПб.: Алетейя, 1997. 320 с.
- Фридлендер Г. М. Лессинг как эстетик и теоретик искусства / Г. М. Фриндлендер // Лессинг и современность: Сб. статей. М.: Изобразительное искусство, 1981. — С. 18−84.
- Хабермас Ю. Модерн незавершённый проект / Ю. Хабермас // Вопросы философии. — 1992. — № 4. — С. 40−52.
- Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. М.: Ad marginem, 1997. — 445 с.
- Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм / А. Ханзен-Лёве. СПб.: Академический проект, 1999. — 512 с.
- Харченко В.К. Переносное значение слова / В. К. Харченко. -Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1989. 195 с.
- Хасин Г. Театр личной тайны: Русские романы В. Набокова / Г. Хасин. -М.- СПб.: Летний сад, 2001.- 188 с.
- Хёйзинга И. Homo Ludens: Статьи по истории культуры / Й. Хёйзинга. М.: Прогресс — Традиция, 1997. — 416 с.
- Хлебников В. Труба марсиан / В. Хлебников // Хлебников В. Творения. -М.: Советский писатель, 1986. С. 602−604.
- Хренов Н.А. Художественное время в фильме: (Эйзенштейн, Бергман, Уэллс) / Н. А. Хренов // Ритм, пространство и время: Сб. статей. Л.: Наука, 1974.-С. 248−262.
- Цилевич Л.М. Об аспектах исследования сюжета / Л. М. Цилевич // Вопросы сюжетосложения: Тр. Даугавпилс. пед. ин-та. Рига, 1978. — Вып. 5.-С. 3−42.
- Шаховская З.А. В поисках Набокова. Отражение / З. А. Шаховская. -М.: Книга, 1991.-319 с.
- Шаховцев Е. Театр Набокова / Е. Шаховцев // Театр. 1998. — № 5. -С.163.
- Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / Ф. Шиллер // Собр. соч.: В 7 т. М.: Гослитиздат, 1957. — Т. 6. — С. 300−302.
- ШпетГ.Г. Сочинения/Г.Г. Шпет.-М.: Правда, 1989.-608 с.
- Шульпяков Г. Правила поведения во сне: («Прозрачные вещи») / Г. Шульпяков // Новый мир. 1997. — № 8. — С. 240−242.
- Шумилов Н.Ф. К вопросу о разграничении полисемии и омонимии / Н. Ф. Шумилов // Русский язык в школе. 1956. — № 3. — С. 32−35.
- Эйнон Д. Творческая игра / Д. Эйнон. М.: Педагогика, 1995. — 192 с.
- Эльконин Д.Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. М.: Педагогика, 1978.-304 с.
- Эфрон А., Саакянц А. Комментарии / А. Эфрон, А. Саакянц // Цветаева М. И. Театр. М.: Искусство, 1988. — С. 342−378.
- Языкова И.К. Богословие иконы / И. К. Языкова. М.: Изд-во Общедоступного православного ун-та, основанного протоиереем Александром Менем, 1995. — 212 с.
- Якобсон В. Набоков. Берлин. Кино / В. Якобсон, X. Клапдор // Искусство кино. 1998.-№ 9.-С. 121−130.
- Ямпольский М. Язык фильма как цитата / М. Ямпольский // Вопросы искусствознания. 1993.-№ 1. — С. 131−152.
- Ярская В.Н. Время в эволюции культуры / В. Н. Ярская. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1989. — 152 с.
- Barabtarlo G. Aerial view: Essays on Nabokov’s Art and Metaphysics / G. Barabtarlo. New-York etc: Lang, 1993. — X. — 301 p.
- Ibler R. Das Pol als «Terra incognita». Vladimir Nabokovs Drama «Poljus» und der Robert-Falcon-Scott-Mythos / R. Ibler // Das XX Jahrhundert: Slavische Literaturen im Dialiog mit dem Mythos. Hamburg: Kovac, 1999. -S. 105−125.
- Pechal Z. Hra v romanu Vladimira Nabokova / Z. Pechal. Olomouc: Univ. Palackeho, 1999. — 209 c.
- The Achivements of Vladimir Nabokov: Essays, studies, reminiscenses and stories from the Cornell Nabokov Festival. Ithaca- New-York, 1984. — 256 p.
- Toker L. Nabokov: The Mystery of Literary structures / L. Toker. Ithaca- London: Cornell University Press, 1989. — XIV. — 243 p.