Травелоги Ашкерца. "Свое", "другое", "чужое" в травелогах Антона Ашкерца
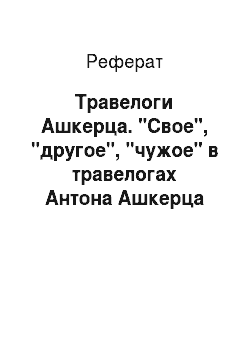
Кавказские народы также воплощают образ «чужого», «восточного человека», которого нужно подчинить для его же блага, европеизировать и обезопасить, чем и занимаются русские. Путешествуя по Российской империи, Ашкерц четко разграничивает европейскую и азиатскую цивилизации и их культурное наследие. Граница между Австро-Венгрией и Российской империей для него является границей между двумя… Читать ещё >
Травелоги Ашкерца. "Свое", "другое", "чужое" в травелогах Антона Ашкерца (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. Травелоги Ашкерца В последние десятилетия ХХ в. в Австро-Венгерской империи (как и в Западной Европе в целом) наступает пик массового туризма, а также возрастает интерес к Востоку. Активно развивается туризм в «восточные» страны, путешествия, направленные на изучение Востока, из которых привозят «восточные» предметы, которыми украшают модные «восточные кабинеты». Предпосылкой такого расцвета массового туризма Б. Баскар называет революцию в транспортном сообщении (водном и железнодорожном), где начали использовать ископаемое топливо [Baskar 2008: 26]. Это подтолкнуло развитие сети железных дорог в Европе: в 1885 г. открылась железнодорожная линия Orient Express из Парижа в Царьград, в 1888 г. была закончена железная дорога из Вены в Царьград, а в 1889 г. открылось сообщение без пересадки. Этим новым маршрутом и воспользовался Ашкерц в своей поездке в 1893 г. Также развивалось и водная туристическая инфраструктура. В путешествии по русскому югу (из Одессы в Батуми) он сел на теплоход, принадлежащий российской теплоходной торговой компании РОПТ (подобно австрийской компании Lloyd), которая помимо грузоперевозок занималась продажей билетов для туристических поездок. В 1887 г. в компании числилось 47 судов, которые занимались в том числе и пассажирскими перевозками, а также 2 туристических крейсера повышенной комфортности [McReynolds 2006: 26]. Все это, несомненно, помогало активному развитию туризма и соответствующей инфраструктуры. Ашкерц часто пользовался уже проверенными туристическими маршрутами, которые предлагали бюро путешествий, хотя оставлял для себя возможность изменений, как, например, визит в Пловдив по пути из Царьграда [ZD7: 41]. Что касается разделения путешествующих на путешественников и туристов как оппозиции высокой и низкой культуры, свойственной для общества западной Европы (прежде всего, среди англичан) — Ашкерц не обращает на него особого внимания. Как отмечает Б. Баскар, возможно, для него данная оппозиция вообще была чужда [Baskar 2008: 26], несмотря на то, что Ашкерц говорит, что путешествие в Россию должно быть привлекательно для славян во многом из-за того, что она не переполнена туристами [ZD7: 144].
Травелоги А. Ашкерца трудно отнести к определенному типу. Я. Кос отмечает, что на первый взгляд травелоги Ашкерца можно причислить к типичным нелитературным текстам. Своим травелогам, впрочем, и сам Ашкерц не придает литературного значения [Kos 2006: 9]. Это скорее попытка рассказать о своих впечатлениях от поездок в другие страны, а также поделиться полезной информацией и советами, что лучше посмотреть и куда съездить, если представится возможность. Свои личные впечатления Ашкерц смешивает с данными, очевидно взятыми из путеводителей. Были использованы популярный тогда путеводитель Карла Бедекера; русский туристический путеводитель по Крыму, Кавказу и Востоку, вышедший в Одессе в 1902 г. [ZD7: 135]; также на палубе теплохода были куплены еще два путеводителя по Кавказу и Крыму, в одном из которых были словарь и грамматика татарского языка [Kos 2006: 10]. Ашкерц педантично приводит картографические данные, цену билетов на поезда и пароход, указывает класс, которым он путешествует, стоимость входных билетов на различные культурные мероприятия, описывает условия в купе, каютах, гостиницах и ресторанах.
Однако подобные документальные части текста перемежаются оживленным рассказом, лирическими описаниями живописных пейзажей, которые он проезжает, событий, свидетелем которых он является, и людей, которых он встречает в своем путешествии [Basak 2013: 321].
В 1893 г. Ашкерц отправился в Турцию. Прибыв в Стамул, он поселился в наиболее «европейском» районе Пера, взял переводчика-чеха и посетил основные достопримечательности (Галатскую башню, мечеть Айя Софья, дворец Топкапы, Гранд-базар, Галатский мост).
У Галатского моста он сел на пароход османской компании «Mahsuse» и доехал до железнодорожной станции Хаидар Паша (Haidar Paљa), где купил билет в первый класс на поезд Малоазийской (Анатолийской) железной дороги, чтобы доехать до Пендика, откуда на теплоходе добрался до Принцевых островов. Вернувшись обратно в Царьград, он посетил несколько христианских церквей. Он съездил в Скутари, где посетил несколько монастырей дервишей и посмотрел на их танец. Вернувшись на побережье Царьграда, Ашкерц на пароходе осмотрел Босфор. Также он посмотрел на процессию султана Абдул-Хамида II, а после направился к так называемым «европейским пресным водам» в северную часть Золотого Рога. Покинув Царьград, он отправился почтовым поездом через Адрианаполь в Болгарию, в Пловдив, где провел несколько дней. Из Пловдива, который его очаровал, он поехал в Софию, далее в Сербию, через Ниш в Белград. Оттуда по Дунаю на пароходе он добрался до станции Оршова на румынской границе, и через Румынию и Венгрию (путь по Румынии и Венгии Ашкерц предпочел не описывать) отправился домой в Любляну.
Описание этого путешествия вышло в 1893 г. в журнале «Словенски народ» (Slovenski narod), и в этом же году в форме отдельной брошюры (1893, переиздана в 2006).
Безусловно, Ашкерц не был первым словенцем в Царьграде. В первой половине XVI в. состоялся визит словенского дипломата Сигизмунда Херберштейна (Sigismund (Ћiga) Herberstein), который посетил Царьград с дипломатическим визитом. Второй задокументированный визит, который стоит отметить — это путешествие в качестве переводчика в 1530 г. Бенедикта Курипечича (Benedikt Kuripeиiи), монаха из Любляны, который сопровождал двух посланников Габсбургов. Он описал эту экспедицию в путевом дневнике. Позднее, конечно, в Царьград приезжали словенцы, однако Ашкерц в своем травелоге отмечает, что его современники в то время в Турцию ездили мало, так как имели опасения по поводу безопасности путешествия. «Тем более странно, что так мало словенцев едет в Царьград. Некоторые, наверное, имеют какие-то предрассудки касаемо безопасности непосредственно передвижения» («Tem bolj je иudno, da tako malo Slovencev potuje v Carigrad. Nekateri imajo morebiti, kar se tiиe potovanja samega, kake predsodke») [ZD7: 55].
Ашкерц серьезно готовился к этому путешествию. В Царьград он поехал как типичный турист, но уже что-то знал о месте, куда собирался ехать, был знаком, как минимум, с основами туристических путеводителей по Турции, которые в XIX в. были доступны повсеместно [Jazbec 2013: 230].
Поездка была ограничена по времени (неделя) и деньгам (несмотря на успех литературной деятельности, Ашкерц принадлежал к среднему классу и не мог себе позволить более длительной поездки) [Borљnik 1981: 66]. В Турции его привлекала восточная культура, положение Царьграда «между Востоком и Западом» — там, где «встречаются Европа и Азия».
Ашкерц не знал турецкого, что ограничило его в общении с местными жителями, и во время визита в Царьград он общался только с другими туристами.
В отличие от Турции, на обратном пути по территориям Болгарии и Сербии он уже не был «одиноким туристом» [Jazbec 2013: 243]. В Пловдиве он остановился у своего земляка Безеншка, познакомился с его братом и еще с несколькими представителями болгарской интеллигенции, в том числе и с мэром Пловдива.
В сентябре 1901 г. Ашкерц в первый раз отправился в Россию. Целью этого визита были, прежде всего, Санкт-Петербург, Москва и Киев. Через Польшу, где он остановился в Варшаве, Ашкерц доехал до Санкт-Петербурга. Там он (после неприятного случая с извозчиком) поселился в гостинице «Дагмар», осмотрел достопримечательности (Невский проспект, «Медный всадник», Васильевский остров, Петропавловский собор, Исаакиевский и Казанский соборы) музеи и коллекции искусства (Эрмитаж, музей Александра III (Русский музей), выставку русских художников в Конногвардейском манеже). Также он встретился с И. А. Бодуэном-де-Куртене, а позднее, уже в Царском селе, со своими земляками.
Из Петербурга Ашкерц отправился в Москву по Николаевской железной дороге. Поезд делал остановки в Твери и Малой Вишере, где представилась возможность познакомиться с национальной кухней. Поездка длилась двенадцать часов. Прибыв в Москву, Ашкерц поселился в гостинице «Отель Континентал» на Театральной площади. В Москве он пробыл неделю и осмотрел все традиционные туристические места — Кремль, Китай-город, Красную площадь, торговые ряды, храм Христа Спасителя, Румянцевский музей, Третьяковскую галерею. В трех разных театрах посетил балет — постановку «Горя от ума» и «Ревизора». Он также побывал на Тверской улице и на Воробьевых горах. Из Москвы Ашкерц на поезде поехал в Киев через Тулу и очень надеялся встретиться со Львом Толстым в Ясной поляне. Однако Толстой был в тот период в Крыму, и встрече не суждено было состояться. В Киеве Ашкерц осмотрел Киево-Печерскую Лавру, где похоронен Нестор. Вечером посмотрел пьесу на украинском языке в драматическом театре. На следующий день Ашкерц на поезде через Галицию вернулся в Австрию.
Вторую поездку в Россию Ашкерц предпринял менее чем через год после первой. В этот раз он посетил Крым и Кавказ. Описание второго своего путешествия по России он начал в Одессе 3 июля 1902 г., куда прибыл через Галицию на поезде. Он осмотрел город, искупался в море, и съездил на Куяльницкий лиман. В Одессе 5 июля Ашкерц купил билет до Батуми в первый класс и сел на теплоход «Великий князь Константин». Ашкерц описал весь свой круиз по Черному морю. Пароход сделал трехчасовую остановку в Севастополе, где Ашкерц стал свидетелем празднования столетия со дня рождения адмирала Нахимова. Далее была остановка в Ялте, и Ашкерц надеялся застать там Толстого и Чехова, но ему снова не повезло — оба уехали на север за пять недель до его приезда. Также Ашкерц посетил Феодосию и Керчь, и через Новороссийск и Туапсе доплыл до Сочи 7 июля. Далее, проплыв мимо Сухуми и Поти, пароход остановился в Батуми. Ашкерц осмотрел город и поехал по относительно новой (1871 — 1883 гг.) Закавказской железной дороге в Тбилиси.
В Тбилиси он провел три дня. Там он осмотрел город, посетил «Храм славы» (сооружение, построенное в честь победы русских над кавказскими родовыми общинами и колонизации Кавказа), Исторический музей, армянский базар, горячие источники, ботанический сад. 12 июля он посетил военную церковь, Сионский собор и монастырь св. Давида, где был похоронен Грибоедов.
Из Тбилиси Ашкерц направился на почтовой карете (которую он назвал Ноевым ковчегом) во Владикавказ по Военно-грузинской дороге. Путь занял два дня. Ашкерц жаловался на неудобства (задержки в дороге, в одной части пути ему даже пришлось идти пешком) и сетовал на то, что там еще не проведена железная дорога — даже придумал план ее строительства. Вышеприведенные факты довольно любопытны, так как в одном из русских путеводителей по Кавказу 1888 г. автор считает эту военную дорогу значительным улучшением маршрута и даже называет ее «прекрасной» [Вейденбаум 1888: 272]. Ашкерц проехал станцию Казбек, переехал Терек в Дарьяльском ущелье и приехал во Владикавказ. Там он переночевал, на следующий день осмотрел город на извозчике, и на поезде через Ростов-на-Дону и Минеральные воды поехал по Ростово-Владикавказской железной дороге (1847 г.) в Пятигорск. Ашкерц увидел место, где погиб Лермонтов, осмотрел город, и на следующий день вернулся в Минеральные воды, откуда с ночной пересадкой добрался до Новороссийска. Там он сел на пароход «Великий князь Алексий», который привез его обратно в Феодосию, где он осмотрел музей И. К. Айвазовского. Дальше пароход останавливался в Ялте, а 23 июля пришвартовался в одесском порту. Ашкерц остановился в отеле «Европа», встретился с земляком из Любляны и пересел на скорый поезд через Галицию до Вены.
Обе его поездки заняли, по его словам, восемь недель.
Визит в Царьград, как отмечает Й. Фаганел, написан с использованием «журнально-публицистического» языка, который не перегружен художественными элементами — что характерно для публикаций в ежедневниках, а не в журналах [Faganel 2006: 181]. Уровень языка в «Двух поездках в Россию» значительно выше [Faganel 2006: 182]. В обоих травелогах Ашкерц использует много цитат и отдельных слов из разных языков — русского, турецкого, греческого, сербского (записанного латиницей и кириллицей), болгарского и немецкого. Какие-то слова и цитаты он дословно переводит в скобках, какие-то он сам переводит художественно, остальные сохраняет в оригинале.
Ашкерц подчеркивал, что его путевые заметки — лишь краткое описание, свой травелог он рассматривал, прежде всего, как описание личных впечатлений и переживаний, и тем, кто хочет поближе узнать Россию, он советовал съездить туда самому и почитать непосредственно путеводители.
2. Создание образа «Другого» у Ашкерца Образ «Другого» возникает задолго до реальной встречи с иной культурой. На создание этого представления влияет множество вещей — прежде всего, исторически сложившийся, традиционный взгляд на «другое», присутствующий в «своем» сообществе. Созданию такого «миража» способствуют история, культура и литература, в которой отражен и описан «другой». Перед путешествием всегда существуют какие-то ожидания от поездки, а сама поездка преследует какую-то цель.
Поскольку Ашкерц был приверженцем панславизма, в Россию он отправился как в страну мечты, не имея «ни доли критицизма» [Козак 2014: 200].
3. Цель путешествия и ожидания от поездки Ашкерц говорит, что давно мечтал о путешествиях и в Царьград, и в Россию. Говоря о своих травелогах, он пишет, что у него не было литературных или научных амбиций.
В Турцию он едет за восточной экзотикой, контрастами, чтобы увидеть, где «встречаются» Европа и Азия. Он интересуется этнографией и культурой, его всегда интересовал Восток, он изучал Ислам и буддизм, находя в них параллели с христианством. Однако целью путешествия сам Ашкерц указывает посещение славянских стран на Балканах по дороге в Царьград. Тут, конечно, играет роль его идея славянской взаимности. Про Болгарию, Сербию и Хорватию он говорит, что для каждого славянина важно знакомиться с другими славянами и путешествовать по славянским землям [ZD7: 55]. Турция полностью оправдывает его ожидания, цель поездки тоже оказывается достигнутой.
Побывав в России однажды, он говорит, что это не туристическая страна. В Европе сделано все для комфорта туриста, в России же путешественника ждут испытания. При переходе через границу Ашкерц сообщает, что «ходят байки о драконовской бюрократии, касающейся паспортного контроля и проверки багажа» [ZD7: 64]. Но «что-то гонит его назад через границу» обратно. Скорее всего, это желание совершить путешествие по «литературным местам» (во всяком случае, именно туда он и направляется, двигаясь через Кавказ и Крым, и то и дело вставляя в свое повествование литературные референции и эпиграфы из творчества Лермонтова и Пушкина), то есть имагинарное путешествие, когда он заранее знает, что он хочет увидеть, и видит именно это. Во-вторых, что уже не столь очевидно, имела место очередная попытка присоединиться к «братскому народу», который оказывается практически абсолютно индифферентным к существованию словенцев. И в-третьих, попытка найти подкрепление своей панславистической идеологии. Ашкерц, конечно, пишет, что его травелоги — это лишь запись личных впечатлений, однако тут он несколько лукавит, поскольку описания поездок пронизаны его идеологической программой. Истинная же цель путешествия — по-видимому, убедиться, насколько Россия готова взять на себя отведенную для нее Ашкерцем роль опоры славянского самосознания и центра славянской взаимности, а также насколько Россия близка словенцам.
От поездки в Россию Ашкерц ожидает экзотики, народного духа — золотых куполов церквей, церковного пения, березовых рощ, красных рубах крестьян «В России нет значимой церкви, на которой бы не было золотых куполов…» («Na Ruskem je ni imenitejљe cerkve, ki bi ne imela zlate kupole…») [ZD7: 67]. Представления об этой экзотике скорее сказочные — зимой в России так холодно, что «воробьи падают от мороза», метель такая, что днём ничего не видно, а «с бороды и усов свисают сосульки»; тогда русские одеваются в шубы и шапки-ушанки и ездят на санях-тройках, а по вечерам сидят у камина. «Rusa najdeљ namreи najbolj gotovo doma љele takrat, kadar je Neva Njeva zamrznila, ko љvigajo sani trojke po љkripajoиem snegu, ko mete, da se dele ob belem dnevu tema ter padajo vrabci od mraza ta tla. Po ulicah hodijo tedaj zaviti v tople kosmate koћuhe (љube), na glavi nosijo astrahanske kape, potegnjene preko uљes. Roke vtikajo v mufe; po bradi in po brkah pa jim visi ivje. Takrat je „visoka sezona“ na Ruskem; takrat, pri zakurjenem kaminu se poиuti Rus najbolj sreиnrga.» [ZD7: 72]. Осенью «по нивам работает народ в своих красочных костюмах: мужчины в красных рубахах, женщины в красочных сарафанах». «Po njivah dela ljudstvo v svoji pisani obleki: moљki v rdeиih srajcah, ћenske v pisanih sarafanih» [ZD7: 75], однако описанная Ашкерцем одежда — праздничная, и на полях в такой не работают.
Петербург разочаровывает Ашкерца, он описывает его как отсталую копию европейских мегаполисов, зато в Москве Ашкерц, наконец, находит тот национальный колорит, который искал: Москва — это русский национальный оригинал, благочестивая матрона, которая видела русских князей, татарских ханов, Ивана Грозного и Наполеона [ZD7: 77].
Общий результат поездки в Россию оказывается во многом разочаровывающим. Россия не осознает своего «славянства», игнорирует своих славянских братьев, в чем Ашкерц обвиняет, прежде всего, немцев, которые, по его мнению, проникли в основные системы государства — в бюрократический аппарат и систему образования. Благодаря этому русским просто не хватает образованности, осведомленности о славянской проблематике, знаний, касающихся славянских стран. Еще одна причина такого кризиса — архаичная система власти, абсолютная монархия, которую Ашкерц считает тиранической и устаревшей. Еще одна причина столь холодного отношения к «братьям-славянам» — кириллический алфавит. Хоть Ашкерц и признает, что на тот момент на нем пишет 85 миллионов человек, и что именно кириллица является средством письма «варварских» народов российских колоний, куда она несет луч европейской культуры, он все равно считает, что будущее славянского мира за латиницей. В целом, можно сказать, что поводы для визита в Россию, перечисленные Ашкерцем, во многом основаны на неосуществимой мечте о создании общеславянского государства.
4. Турция в глазах Европы И. Нойманн отмечает, что в формировании европейских идентичностей всегда участвовали различные образы «другого», на протяжении веков европейские философы и историки пытались осмыслить конфликт между «неверными», «варварами» и «цивилизованными» народами. При этом главным «другим» оставался «Турок» [Нойманн 2004: 71]. Это обусловлено непосредственной географической близостью Османской империи к Европе, а также наличием «сильной религиозной традиции» [Нойманн 2004: 71].
Несмотря на то, что большая часть Османской империи в XIV—XIX вв. находилась на территории Европы, она никогда не отождествлялась с европейским государством. Только после заключения Парижского мирного договора в 1856 г. Османская империя стала первым «восточным» государством, включенным в европейскую правовую систему.
В эпоху крестовых походов образ турка и ислама служил для создания идеологического единства мира латинского христианства, подталкивая последний к сплочению против общего «другого». В начале XIV в. образовалась Османская империя, а в 1453 г. пал Константинополь, противоречия между христианами в Европе возросли, и «Турок» из исключительно религиозного оппонента перешел в разряд политического [Нойманн 2004: 83].
В 1699 г. был подписан Карловицкий мирный договор, положивший начало отступлению Османской империи из Центральной Европы, военная угроза со стороны империи ослабла, но культурная по-прежнему была сильна. Эпоха Просвещения принесла с собой новые секулярные ценности, на место религии пришли «гуманность», «право» и «общественные нравы», которые стали признаками цивилизации [Нойманн 2004: 86]. Нойманн говорит о том, что к «Турку» все чаще стало применяться определение «варвар», придя на смену «неверному». Именно цивилизация стала основным критерием отличия просвещенной Европы от варварства [Нойманн 2004: 86].
В XVIII и XIX вв. для определения общности Европы использовалось понятие «общего культурного поля», культурного подобия европейских государств, основывавшегося на институтах монархического правления, единстве христианской веры, наследии римского права и феодальных институтах. И. Нойманн подчеркивает, что неотъемлемой частью такого определения было противопоставление Османской империи [Нойманн 2004: 87]. Империя все больше подпадала под зависимость Европы, не имея возможности самостоятельно защищать свои границы, она прибегала к союзу с европейскими государствами, были открыты постоянные посольства в европейских странах. После заключения мирного договора с Россией в 1774 г. последней достались территории, торговые привилегии на Черном море, возможность иметь консульства и церковь в Константинополе и покровительствовать христианским общинам Османской империи. После заключения Тройственного союза Османская империя поддерживалась исключительно для сохранения баланса сил в Европе, опасность последствий ее распада была выше опасности ее существования. И. Нойманн говорит о том, что Османская империя теперь рассматривалась в качестве «лишнего человека» [Нойманн 2004: 89].
Положение Османской империи в XIX в. носило довольно неопределенный характер. С одной стороны, ей предлагалось место среди европейских государств, с другой стороны экономика и политико-культурный уровень Османской империи, по мнению европейских политиков, был недостаточен для союза с ней. В XIX в. утверждается идея о том, что международное сообщество — это «привилегированное содружество христианских, европейских или цивилизованных стран» [Нойманн 2004: 91]. Несмотря на Парижский договор 1856 г., правоведы считали, что мировое право неприменимо к Османской империи.
5. Россия в глазах Европы Восточная Европа в западноевропейском сознании всегда занимала промежуточное положение между Европой и Востоком. До XVIII в. Россия в глазах европейца воспринималась варварской страной. Несмотря на принадлежность к христианскому миру, который определял границы цивилизации, особенно после раскола церкви, Россия выступала последним оплотом Европы, сдерживающим Азию. При раздробленности церкви определением Европы стала «культурность», но на основании этого критерия Россия не включалась в Европу [Нойманн 2004: 108]. В XVI в. Россия считалась восточной, и даже мифологической страной и ставилась Рабле в один ряд с индейцами, персами, и троглодитами [Вульф 2003: 20]. И. Нойманн отмечает, что путешественники описывали Россию в тех же выражениях, что и Османскую империю [Нойманн 2004: 108]. Л. Вульф пишет, что в XVIII веке понятие «скифы» включало в себя все восточноевропейские народы, «пока Гердер не позаимствовал другое наименование у варваров древности, благодаря чему Восточная Европа обрела свой сегодняшний образ славянского края» [Вульф 2003: 20]. С приходом к власти Петра I Россия начала проводить политику европеизации, «окультуривания» с целью модернизации и укрепления своих позиций в Европе. Поэтому в европейском сознании «варварская» Россия пыталась реабилитироваться и учиться у Европы. С наращиванием военной мощи России, которая стала основной силой на Балтике, возникла надежда на то, что она станет союзником Европы в борьбе против «Турка», а, возможно, и связующим звеном между Европой и Китаем, неся европейское Просвещение. Появилась идея универсализма, в центре которой была Европа, и по которой континент должен двигаться по направлению унификации с западноевропейской культурой, не подчеркивая инаковости остальных стран, но подводя их под одинаковость Европы [Нойманн 2004: 110]. С укреплением военной мощи России и победой в Северной войне возникает представление о России как о «варваре у ворот» [Нойманн 2004: 115]. А попытка признать Россию европейской страной подчеркивает представление о том, что возникла она как цивилизация азиатская, и между Россией и Османской империей проводятся политические параллели [Нойманн 2004: 117]. Россия оказалась амбивалентной, пограничной территорией между Европой и Азией.
К XIX в. Россия включилась в баланс сил в Европе, однако ощущение «варвара у ворот» усилилось.
Ларри Вульф называет изобретение Восточной Европы «недо-ориентализацией», мягкой формой изобретения Востока [Вульф 2003: 17]. Россия и Восточная Европа в целом находились в положении амбивалентности между Востоком и Западом, на «шкале сравнительной развитости» [Вульф 2003: 22], определяющей соотношение варварства и цивилизации.
6. Стереотипы у Ашкерца Путешествуя в Россию, Ашкерц, безусловно, имеет набор стереотипов относительно этой страны и народностей, проживающих на ее территории. Так, на станциях и в гостиницах он пьет чай — по его мнению, национальный русский напиток, который он противопоставляет «нашему» (то есть словенскому, австрийскому) кофе. Он тщетно пытается найти в Варшаве кофейню, которая была бы похожа на «нашу» (словенскую, австрийскую). И даже в Царьграде он пьет из «японских чашек» «русский» чай. Что, впрочем, неудивительно, учитывая сколько описаний чаепитий встречается у Лермонтова.
Русские солдаты, которых он встречает в Варшаве — «почти все — красивые люди с военной выправкой» («Ruski vojaki! /…/ …skoraj sami lepi ljudje, marcialne postave») [ZD7: 67].
Для Востока у Ашкерца просматривается несколько стереотипных представлений. Восток всегда яркий, разнообразный и красочный, полный контрастов, Ашкерц описывает яркость и пестроту народных костюмов в России, разноликую толпу в Царьграде, контраст между Санкт-Петербургом и Москвой. «Россия большая, и в ней проживает много народов с разнообразными народными костюмами самых ярких цветов» («Rusija je velika in v njej prebivajo raznovrstni narodi z raznovrstnimi narodnimi noљami v najbolj pisanih barvah»).
«…всё мне говорит: „Восток!“ Лица, одежда, речь! Действительно, это тот самый Тифлис, о котором я мечтал уже в молодости. Но действительно ли тот самый? Возможно, я представлял его себе в более пестрых красках» («…vse mi govori: „Orient!“ Obrazi, noљe, govorica — iztok! Res, to je tisti Tiflis, o katerem sem sanjaril ћe v mladosti. Ali je res isti? Morebiti sem si ga predstavljal v nekoliko pestrejљih barvah») [ZD7:113]. «Нас, одетых по-европейски, во втором классе было довольно мало. Большинство носит народный костюм, довольно живописный. Чаще всего они [ножны грузинского кинжала] серебряные, или хотя бы стальные, украшенные серебряной и золотой инкрустацией» («Po evropski obleиenih nas je bilo tudi v drugem razredu jako malo. Prevesna veиina nosi narodno obleko, ki je kaj slikovita.
Najveиkrat (noћnica gruzinskega kinћala) je srebrna, ali vsaj jeklena in okraљena s srebrnimi in zlatimi inkrustacijami").
«Они [женщины в гареме] обернулись в шелковые покрывала разных цветов … И так крутится этнографический калейдоскоп час за часом, полный интересного, полный контрастов — без конца и края» («Ogrnile so se v svilene plaљиe razliиnih barv … In tako se vrti etnografski kalejdoskop uro za uro, poln zanimivosti, poln kontrastov — brez konca in kraja») [ZD7: 24].
Еще один стереотип, применяемый к Востоку Ашкерцем — отсталость. Воображаемая география разделяет мир на регионы по степени развитости. В Европе такая воображаемая граница между развитостью и отсталостью перенеслась с севера на восток, и впервые тема отсталости Восточной Европы была затронута в XVIII в. [Вульф 2003: 19]. Отсталость, или скорее полное отсутствие цивилизации в Османской империи подразумевалось и пропагандировалось со времен крестовых походов. Ашкерц описывает отсутствие электрического трамвая на Невском проспекте в Санкт-Петербурге [ZD7: 70], плохое транспортное сообщение в горах Кавказа [ZD7: 123], отсутствие моста между Царьградом и Шкодером [ZD7: 31]. Деревни в России — «бедные и печальные», и церкви там вовсе не с золотыми куполами, а деревянные, как и все остальные постройки [ZD7: 76].
В то же время Восток богат. Ашкерц описывает золотые купола русских городских церквей [ZD7:67, 73, 79], сравнивая их с золотой крышей в Инсбруке, процессию султана в Царьграде [ZD7: 36, 37], приводит стоимость Медного Всадника и Исаакиевского собора.
На Востоке грязно. Ашкерц описывает турецкие деревни, которые в дальнейшем превратились в русские города. «В 1794 г. тут стояла грязная татарско-турецкая деревня Хаджибей, из которой русские по инициативе царицы Екатерины II создали до сегодняшнего дня один из красивейших европейских городов [Одессу]». (Leta 1794. je stala tukaj љe umazana tatarsko-turљka vas Hadћibej, iz katere so Rusi po inicijativi carice Katarine II. ustvarili do danes eno najlepљih evropskih mest) [ZD7: 87]. «Батуми всего 25 лет. Пока его не освоили русские в последней войне 1878 г., там была грязная турецкая деревня с тем же именем». («Batъm љteje pravzaprav љele 25 let. Dokler si ga niso osvojili Rusi v zadnji vojni l. 1878., je bila tamkaj umazana turљka vas enakega imena») [ZD7: 107]. О Тбилиси: «Грязь и вонь, куда не посмотришь. Азию видишь и дышишь ей в особенности на так называемом „Майдане“». «Umazanost in smrad, kamor pogledaљ. Azijo vidiљ, sliљiљ in jo duhaљ zlasti na takozvanem „Majdanu“» [ZD7:117−118]. В Санкт-Петербурге: «Я осматриваю номер, который мне не подошел, потому что он был слишком грязен …». «Ogledam si sobo, ki pa mi ni ugajala, ker je bila preumazana …» [ZD7: 70].
7. Влияние литературы на травелоги Ашкерца Будучи литературным деятелем, Ашкерц рассматривает многое в своих путешествиях сквозь призму литературы. Особенно это заметно в «Двух поездках в Россию», так как Ашкерц считался знатоком русской литературы в Словении, много ее переводил.
Всем, кто бы хотел познакомиться с Россией, он советует прежде всего познакомиться с её литературой и историей. Являясь большим поклонником русской литературы, он в своем повествовании во многом основывается на знаниях, которые он почерпнул из русской литературы. Описывая Россию, Ашкерц цитирует русских авторов, часто приводя цитаты в оригинале, сохраняя кириллическое написание. Эпиграф к «Двум поездкам в Россию» взят из сказок Пушкина — «Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил» [ZD7: 60].
Приезжая в новое место, он всегда указывает, прежде всего, на имеющиеся там памятники деятелям литературы. Так, в Варшаве он упоминает памятник А. Мицкевичу.
Описывая Петербург, Ашкерц также отчасти основывается на русской литературе, прежде всего — на произведениях А. С. Пушкина. Для описания летней погоды он приводит цитату (в оригинале) «наше северное лето / карикатура южных зим» [ZD7: 73]. Зима же в России — как у Пушкина в «Мороз и солнце…» — время, когда все вокруг замерзает, «воробьи падают от мороза на землю» и наступает «высокий сезон», когда «у затопленного камина русский чувствует себя наиболее счастливым»: «Takrat je visoka sezona na Ruskem; takrat, pri zakurjenem kaminu se poиuti Rus najbolj sreиnega…» [ZD7: 72]. Он не может пройти мимо памятника Петру I — «Медного всадника», называя его «самым красивым памятником, который он когда-либо видел» [ZD7: 71]. Отношение к Петру Ашкерц тоже отчасти разделяет с Пушкиным — это прогресс России, символ культурного развития в европейском направлении. Однако у Ашкерца не просматривается того мотива тирании власти, который есть у Пушкина, для Ашкерца это, скорее, идеализированный и, в некотором смысле, сказочный персонаж — «герой и святой в одном лице» [ZD7: 72]. Приехав в Царское село, в гости к своему земляку, Ашкерц описывает памятник Пушкину в садике Лицея [ZD7: 75].
В Грузии в селении Казбек он упоминает грузинского поэта князя Казбека, которому там установлен памятник. В Пятигорске Ашкерц описывает памятник на месте дуэли Лермонтова.
В Москве он упоминает памятник Пушкину на Тверской улице, а также цитирует строчки из его стихотворения, написанные на постаменте [ZD7: 82]. Также в Москве Ашкерц вспоминает войну с Наполеоном 1812 г. и тут же советует любому интересующемуся этим периодом истории прочитать «Войну и мир» Толстого, заявляя, что это произведение дает представление о том времени значительно лучше трудов по истории [ZD7: 82].
В Крыму, в Севастополе Ашкерц вспоминает «Севастопольские рассказы» Толстого, где описывается оборона Севастополя, в которой принимал участие сам Толстой, а также строчки из стихотворения А. Н. Апухтина «Солдатская песня о Севастополе» (которая была переведена и опубликована Ашкерцем в «Русской антологии», о чем он тоже сообщает) [ZD7: 97].
Весь текст пронизан литературными цитатами, в особенности кавказская часть. Ашкерц приводит цитаты Лермонтова о Кавказе, упоминает Пушкина и Толстого. Он говорит, что многие авторы писали о Кавказе, и приводит в пример «Путешствие в Арзрум во время похода 1829 г.», многочисленные лирические стихотворения и поэму «Кавказский пленник» Пушкина, роман «Герой нашего времени», поэмы «Измаил-Бей», «Демон» и «Мцыри» Лермонтова [ZD7: 132]. Также он сообщает, что узнал из газеты, что Толстой закончил рукопись повести «Хаджи-Мурат» [ZD7: 132]. Во время поездки по Закавказской железной дороге, проезжая реку Куру, он называет местность «грузинским раем» и цитирует часть поэмы «Демон» Лермонтова, где Грузия так же описывается как некий райский уголок [ZD7: 110]. Проезжая гору Казбек и Дарьяльское ущелье он цитирует строчки из «Демона», в которых описывается эта местность [ZD7: 129]. Цитату он приводит в латинице с пояснениями в скобках. Лермонтов, описывая этот край, называет его «диким», и этот же эпитет употребляет Ашкерц по отношению к реке Терек, а также называет Терек «свободолюбивым кавказцем» [ZD7: 129−130]. Даже стихи Лермонтова Ашкерц сравнивает с кавказской природой, а его кавказские поэмы называет «апофеозом Кавказа» [ZD7: 132].
Кроме того, Ашкерц часто строит свое путешествие (и повествование) под влиянием литературы. В Москве он смотрит спектакли «Ревизор» и «Горе от ума». Он посещает могилу Грибоедова в Тбилиси и заезжает в Пятигорск, чтобы посмотреть на место дуэли Лермонтова и город, в котором он умер [ZD7: 133]. Ашкерц описывает местечко Душет на Военно-грузинской дороге и рассказывает о комическом случае, который произошел там с Пушкиным [ZD7: 124].
Помимо русской литературы, в тексте неоднократно появляются имена Гомера, Гёте, Стритара, Его восприятие мира основывается, прежде всего, на европейской литературной традиции.
Для Ашкерца большое значение при составлении мнения о стране и народе имеют история и культура. Так он не раз обращается к историческим событиям, рассказывая о Петре I, о царице Тамаре, об античных городах, стоявших на месте тех русских, которые он посещает. Он упоминает Наполеона, а также крымские и кавказские войны.
Кроме того, в путешествиях Ашкерц черпает и мотивы для собственного творчества. После путешествия к рыбакам Адриатического моря Ашкерц, послушав их рассказы, пишет сборник «Жемчуг Адриатики».
8. Ашкерц, этноцентризм и панславизм Шипилов отмечает, что этноцентрическое понимание нации сформировалось у славянских народов Габсбургской и отчасти Османской империй тогда, когда к середине XIX в. филологи, литераторы и широкие круги интеллектуалов-«будителей» начали будить национальное самосознание славянских народов в составе империй. При этом преследовались цели обладания политическими правами, материальными выгодами и достижения статусно-символического роста. В этом буржуазно-интеллигентным группам в составе империй противостояло, прежде всего, иноэтничное (в первую очередь, австро-немецкое) дворянство, бюрократия и бюргерство [Шипилов 2008: 110−111].
Пропагандируя идею славянской взаимности, Ашкерц оглядывается на пангерманизм (основанный на языковом родстве), ставя его в пример: «Австрийские немцы, несмотря на границу между государствами, находятся в теснейшей духовной и народной связи со своими братьями в Пруссии» [ZD7: 142].
Особо стоит выделить отношение Ашкерца к языку. Безусловно, этноцентрическое восприятие нации у Ашкерца основывается, прежде всего, на языковом родстве. Главным поводом для визита в Россию для любого словенца должен быть вовсе не сам русский язык как таковой, но его «сила и власть» [ZD7: 63]. Он указывает на значимость русского языка для славянского мира. Важным фактором является количество носителей русского языка — Ашкерц подчеркивает — «85 миллионов», — и тут же стремится присоединиться к обладанию огромной территорией «от Вислы до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Индии», добавляя — «наших братьев», и сообщая, что на территории распространения этого языка «словенец чувствует себя дома», и что именно господство славянского языка на столь обширной территории должно привлекать словенцев в Россию. Ашкерц считает русский язык тем языком, который мог бы объединить всех славян. «Ne samo juћni, nego tudi vsi severni Slovani bodo morali … teћiti za tem, da si izbero za svoj diplomatiиni, znanstveni skupni jezik — jezik ruski» [Borљnik 1939: 309]. В Москве он покупает платок у монгола только потому, что тот хорошо говорит по-русски [ZD7: 81].
Русский язык — колониальный язык на Кавказе. Ашкерц видит распространение русского языка и российскую языковую политику того времени с империалистической и колонизаторской точки зрения — он гордится, что вся эта огромная территория теперь говорит на славянском языке. Ашкерц признает значение кириллического алфавита, говорит о его исторической и современной значимости (язык православной церкви, язык русской литературы), опровергая Стритара, но при этом почему-то не видит за ним будущего, полагая, что в итоге такой консервативный народ, как русские, откажется от исторической традиции и перейдет на латинский алфавит. Он также видит в кириллическом алфавите тот объединяющий самобытный элемент, который бы привел к свержению абсолютной монархии в России и обретению конституционной свободы [ZD7: 116].
Сродни тому восхищению, которое вызывают у Ашкерца славянские языки, является и его восхищение морем. Оно играет почти такую же символическую роль, как язык. В отношении Ашкерца к морю также проявляется его габсбургский, австрийский империализм. Б. Баскар отмечает, что образ моря в Габсбургской империи после победоносной битвы при Лиссе в Адриатическом море в 1866 г. был связан с геополитическими фантазиями Австро-Венгрии о морском господстве, сравнимом с британским [Baskar 2008: 29]. Однако в уме Ашкерц, кажется, держит скорее некую будущую славянскую империю. Первое путешествие Ашкерца было в Триест, именно там он в первый раз увидел море. После этого визита вышел его сборник «Жемчуг Адриатики». Об этом визите он также написал статью «У словенских рыбаков Адриатики». В этой статье он описал свое путешествие к берегу Адриатического моря, где ему не понятно равнодушное отношение своих земляков к наличию выхода к морю. Адриатическое море он называет «словенским», и в Триесте сетует, что Австро-Венгрия (и Словения) не использует этого выгодного положения [ZD7: 163]. О море он говорит и в небольшом отрывке «На палубе парохода Семирамида» (который не был опубликован). Ашкерц разговаривает с попутчиком-французом и они приходят к выводу, что море — самая величественная вещь в мире [ZD7: 152, 174]. Множество описаний Черного моря есть в травелоге «Две поездки в Россию», где Ашкерц много передвигается на пароходах. Каждое такое описание поэтическое и подчеркивает величие моря. В Белграде он мечтает, что тот наконец-то станет «морским городом» и «большие морские пароходы будут приходить из Черного моря туда! Прекрасное будущее…» [ZD7: 53]. Море становится практически еще одним символом власти, силы и империалистических притязаний — наравне с языком.
9. Свое Как в Турцию, Болгарию и Сербию, так и в Россию Ашкерц отправляется прежде всего как славянин (как «человек» он едет в Италию и Швейцарию). Он неоднократно это подчеркивает. О подобном отношении идеологизации говорит Э. Саид, отмечая, что, например, «занимающийся исследованием Востока европеец или американец не может отрицать основные обстоятельства своей действительности. А именно того, что он подходит к Востоку, прежде всего, как европеец или американец, и лишь затем как индивид» [Саид, 2016: 22]. Будучи горячим сторонником идей панславизма, он безусловно относит себя к славянам. В заключении «Поездки в Царьград» он пишет «Spoznavanje slovanske bitnosti, t. j. spoznavanje samege sebe, ali ni to tudi koristno in pouиno?» [ZD7: 55]. При этом Я. К. Козак указывает, что в начале XX в. в Европе идея панславизма и славянского братства уже угасала, и казалась «почти анахронизмом» [Козак 2014: 200]. Ашкерц считал, что славяне — это одна семья, и пропагандировал идею славянского единства в журнале «Люблянский звон», в котором работал. Кроме того, Он занимался переводами с русского, считался одним из знатоков русского языка и литературы. И в Турции, и в южных славянских странах, и в России Ашкерц подчеркивает свое славянство и необходимость объединения.
Говоря о своем пути через славянские Балканы, он подчеркивает, что едет по славянской земле. «Ako potujeљ iz Slovenije preko Hrvatske, Srbije in Bolgarije, — voziљ se do Adrijanopola nepretrgoma po иisto slovanski zemlji. In lep kos je je! Gredoи vidiљ vse naљe juћne brate, sliљiљ jezik njihov, vidiљ narodne noљe, љege in obiиaje njihove, pogovarjaљ se z brati naљimi…» [ZD7: 55].
В Царьграде он сетует, что никто не говорит славянских языках, а на обратном пути, в Болгарии и Сербии, радуется, что, наконец, слышит «земляка» [ZD7: 44] и видит в паспорте штамп о пересечении границы на болгарском и сербском языках [ZD7: 41], а в библиотеке есть журналы на болгарском и русском языках [ZD7: 43]. Ашкерц, конечно, осуждает «братоубийственную» войну 1885 г. между сербами и болгарами [ZD7: 44, 49]. Он подчеркивает, что граница между Сербией и Болгарией — только политическая, и что в Сербии до Ниша говорят по-болгарски [ZD7: 49].
Россия в представлении Ашкерца — крупнейшая славянская страна, где славянин — сам себе хозяин, а потому должна интересовать «каждого сознательного славянина». В России он говорит, что чувствует себя как дома. Русские в его представлении — большой славянский братский народ, который должен помогать своим братьям в составе других империй, а в конечном итоге, и объединить славян «под эгидой русского орла». Именно России должны быть благодарны болгары за освобождение от «турецкого рабства» и обретение независимости [ZD7: 48, 49]. Ашкерц указывает на то, что у словенского путешественника, первый раз приезжающего в Россию, есть иллюзия (которая, по-видимому, была у самого Ашкерца), что там его будут принимать как-то по-особому, так как он — славянин.
В каких-то аспектах Ашкерц считает Россию более прогрессивной по сравнению с Европой — ему нравится идея того, что в России гимназисты носят униформу, что должно сглаживать социальные и национальные различия [ZD7: 74], в Царском Селе и в Москве он отмечает наличие женских гимназий [ZD7: 75], [ZD7: 81], а в университетах нет богословских факультетов [ZD7: 80]. Он рассуждает о том, что в России много делается для женского образования, университеты в России уже давно принимают абитуриенток, в Европе же об этом еще только дебатируют [ZD7: 81]. Посетив Эрмитаж и Русский музей (тогда музей Александра III), Ашкерц признает за русским изобразительным искусством индивидуализм, самобытность и уровень, достойный европейского: «Ruski upodabljajoиi umetniki so tako veliki, da Rusi ne potrebujejo Evrope niti v umetniљkem oziru. Poleg velikih modernih pisateljev in pesnikov se tudi upodabljajoиi ruski umetniki smelo kosajo s svнojimi tovariљi na zapadu…» «Русские мастера изобразительного искусства настолько великие, что русским не нужна Европа и с точки зрения искусства. Вместе с великими современными писателями и поэтами русские мастера изобразительного искусства смело конкурируют со своими товарищами на западе…» [ZD7: 73].
Во-вторых, Ашкерц относит себя к Европе, к Западу. В соответствии с той идеологией, которая присутствовала в Западной Европе на протяжении веков, для Ашкерца Италия является если не центром мира, то, во всяком случае, центром «культурного» мира. Он пишет, что, несмотря на то, что это «итальянские места», они имеют огромное значение и влияние на европейскую духовную жизнь и на все «наши» мысли и чувства; эти места «международны», они являются «собственностью» всего «культурного мира». Таким образом, «культурный мир» для Ашкерца — это тот, для которого наивысшими ценностями являются античная и христианско-латинская культура и искусство. И Ашкерц, несомненно, причисляет себя к этому миру.
Обосновывая превосходство европейской культуры, Ашкерц использует распространенный в то время научный расизм (использовавшийся для оправдания европейского империализма), объявляя кавказскую расу «самой благородной, с которой не могут сравниться другие», причем этот вывод он делает исходя из физического строения человека, прежде всего — «из формы головы». Ашкерц был сторонником идей социал-дарвинизма, а также монизма Э. Геккеля [Borљnik 1939: 14]. Он утверждает, что раз Аполлон в Ватикане и Венера в Лувре являются идеалами человека, и они представляют собой европеоидный тип, то и все представители кавказской расы ближе к идеалу и представляют собой вершину человеческой гармонии и наиболее достойных носителей человеческого интеллекта и духа [ZD7: 120].
Россия же несет эту европейскую культуру другим («варварским») народам, которые вошли в состав Российской империи. Путешествуя по Кавказу, Ашкерц видит Россию в качестве сдерживающей силы восточных варваров, щита, который препятствует их продвижению в европейский мир, окультуривая их. «Da, Rusi so veliko storili za obиo evropsko kulturo na Kavkazu, tukaj na meji tako zvane Azije. To priznavajo celo Nemci in Angleћi. Do koder sega ruska oblast, do tja sega tudi moderna civilizacija v teh pokrajinah. Pod egido ruskega orla se tudi v centralni Aziji poиuti Evropec varnega.» («Да, русские много сделали для общей европейской культуры на Кавказе, здесь, на границе так называемой Азии. Это признают даже немцы и англичане. Докуда достаёт власть России, дотуда достаёт и современная цивилизация в этих регионах. Под эгидой русского орла европеец и в средней Азии чувствует себя в безопасности») [ZD7: 115]. Восток воспринимается как что-то неизведанное, а потому пугающее, Россия же, осваивая его, делает его своим, знакомым, безопасным. Такая концепция, безусловно, вписывается в империалистическую идеологию, так как последняя создана «одновременно империями и романами, расовой теорией и географическими спекуляциями, концепцией национальной идентичности и городской (или сельской) рутиной вместе».
10. Другое Амбивалентное положение России и Восточной Европы отражается и в тексте Ашкерца. Россия, конечно, предстает романтически-сказочной страной, «достаточно удаленной, чтобы его не касались ее проблемы, и достаточно братской, чтобы производить впечатление родной» [Козак 2014: 204], но как только Ашкерц направляется на Восток (Крым, Кавказ), Россия становится империалистическим и колониалистическим символом европейского господства. Именно русские несут на Восток цивилизацию и прогресс, именно Россия прекрасно справляется с управлением ориентальными ордами (лучше, чем англичане [ZD7: 142]), именно русский язык делает из восточных варваров образованных людей, изменяя их в соответствии со «своей», европейской культурной моделью, и за это, в соответствии с практикой ориентализма, колонизированные народы должны быть благодарны России.
С другой стороны, Россия — варварская страна, требующая луча «солнца европейской культуры», который ей даровал Пётр Великий: «Tukaj je /Peter I/ Прим. переводчика hotel imeti okno, skozi katero naj bi sijalo sonce evropske kulture v njegovo veliko slovansko poslopje — Rusijo» («Пётр хотел, чтобы тут было окно, сквозь которое сияло бы солнце европейской культуры в его великое славянское строение — Россию») [ZD7: 69]. За это Ашкерц хвалит его, называя «великим по праву» гением, «героем и святым в одном лице» [ZD7: 72].
В Петербурге, несмотря на то, что это «окно для солнца европейской культуры», по-прежнему не заметно технического прогресса. Ашкерц жалуется — как же так, на Невском проспекте, в центре столицы Российской империи — до сих пор конный трамвай! «Kar me je pa spet malko jezilo, to je bil poиasni konjski tramvaj /…/. Nevski prospekt pa — konjski tramvaj! Brr! Ta ulica je kakor ustvarjena za elektriиno ћeleznico! Zdaj pa ta anahronizem!» «Что меня снова немного злило, так это медленный конный трамвай /…/. Невский проспект — и конный трамвай! Брр! Эта улица как будто бы создана для электрической железной дороги! А тут такой анахронизм!» [ZD7: 70]. Ни следа европейской цивилизации, совсем не то, чего хотел Пётр I.
С прибытием в Москву еще присутствующее в Петербурге ощущение Европы сменяется ощущением Востока — Ашкерц описывает кривые улочки Москвы, восклицая «To je ruski, slovanski orient! Orient v slovanski obleki. Oziram se s hodnika na vse strani in povsod mi иuti srce: orient!» «Это русский, славянский восток! Восток в славянском образе. С тротуара я оглядываюсь по сторонам, и везде моё сердце чувствует: восток!» [ZD7: 77].
Хотя Ашкерц и говорит, что чувствует себя в России как дома, что как славянин ощущает связь с русским народом, называя его братским, он отделяет Россию от других славянских стран, утверждая, что русские не осознают своего славянства, как это делают, например, чехи. А словенцам ближе всего хорваты и сербы, которые «более горячие и темпераментные, чем русские».
Уже в Польше Ашкерц чувствует противоречия в том идеологическом конструкте России, который построен в его сознании. По его мнению, Россия должна помочь освободиться остальным славянским народам, стать основным оплотом свободного славянского мира, она является для Ашкерца символом панславизма. Однако Польша находится в составе Российской империи, где она, хоть и обладает определенной автономией, весьма ограничена в правах, например, в важнейшем для Ашкерца вопросе языка. Он подмечает, что на всех официальных печатях название Варшава написано только по-русски, хотя сам город, по его мнению, совершенно польский город, где больше всего слышна именно польская речь. Он не согласен с российской языковой политикой по отношению к Польше, считая, что Россия наносит ущерб «своим самым близким братьям», не позволяя им получать образование на польском языке и, таким образом, укрепляя польскую политическую зависимость, в то время как, по мнению Ашкерца, Россия должна, наоборот, вести освободительную политику.
Описывая исторические польские замки, Ашкерц не забывает упомянуть, что теперь они являются собственностью русского царя: «Zadnje veиje mesto pred Varљavo so Skierniewicze, /…/. Tukaj je velik grad familije Paskiewiczev, sedaj carjeva last…» («Последний большой город перед Варшавой — Скерневице /…/. Здесь находится большой замок рода Паскевич, теперь — собственность царя…») [ZD7: 66], «…zunaj mesta pa je zanimiv botaniљki vrt z velikim gozdom, sredi katerega stoji prelestni grad Lazienki, ki ga je bil dal postaviti kralj Poniatowski; sedaj je carska last.» («…а за городом находится интересный ботанический сад с большим лесом, среди которого стоит прелестный замок Лазенки, который приказал построить король Понятовский; теперь — собственность царя») [ZD7: 67].
Описывая увиденный им в Варшаве полк русской армии, он сообщает, что кто-то ему пояснил, что хотя полк составляют солдаты разных народностей, офицеры — только русские: «…moљtvo tega polka ni vse slovanske narodnosti, paи pa so иastniki sami Rusi» [ZD7: 67].
Но даже осознание подобной несправедливости не в силах изменить его про-российской идеологии. Хотя Ашкерц и описывает Польшу как страну с развитой индивидуальностью («Poljaki so ћilav narod s krepko razvito individualnostjo» [ZD7: 66]), он ее все равно называет частью России: «Nikjer na Ruskem nisem videl veи lepih ћensk nego v Varљavi» («Нигде в России я не видел столько красивых женщин, как в Варшаве») [ZD7: 67]. Возможно, подобное пассивное согласие с колонизаторской политикой России в Польше связано с отношением поляков к панславистическим идеям. Как отмечает П. Водопивец, поляки на территории габсбургской империи «не проявляли солидарности с освободительным движением других славянских народов и прагматически строили свою политику с учетом лишь собственных интересов. /…/ …словенцы же им в особенности не могли простить национальных притязаний украинцев в австрийской Галиции» [Петер Водопивец, О путевых заметках Богумила Вошняка из России, написанных перед Первой мировой войной: 139]. Ашкерц, говоря о поляках в Галиции, утверждает, что во многом там виновата «надутая польская шляхта», которая не предоставляет равноправия украинцам и презирает простых людей [ZD7: 141].
Ашкерц рассматривает Россию и русских скорее в качестве Другого, так как несмотря на отчаянное стремление ко-идентификации, он сразу говорит об «особенностях» — топографических и этнографических. Эти особенности вызывают интерес, а не страх — Ашкерц рассчитывает ознакомиться с «народной жизнью», «знаменитыми произведениями литературы и искусства». Но в то же время, он хочет увидеть скорее некую идею о России, чем непосредственно Россию, заявляя, что намеревается увидеть все «национально-оригинальное и исторически примечательное», то есть лишь чем-то выделяющуюся, «экзотическую» часть культуры, которая интересна «европейскому» (словенскому) человеку.
В то же время, будучи гражданином Австро-Венгрии, Ашкерц не может полностью отделить себя от немецкой культуры. Как русские, так и южнославянские города неизбежно получают сравнение с Веной, в котором они проигрывают. Петербург не является самобытным городом, он — всего лишь копия Венеции, только сделанная в русских масштабах. «Kaj je torej prevzaprav Peterburg? Niи drugega kakor v velikanskem merilu poveиane — Benetke!» («То есть что такое Петербург по сути? — Не что иное, как в огромном масштабе увеличенная — Венеция!» [ZD7: 69]). «…Peterburg je kopija velikih evropskih velemest» «…Петербург — копия больших европейских мегаполисов» [ZD7: 70]. Однако архитектура города не сравнится с венской: «Dunajski „Ring“ je paи slikovitejљi, lepљi in raznoliиnejљi, ker je zasajen z drevoredi, a Nevski prospekt napravi na gledalca na prvi hip veиji vtisk, ker je raven (prem)» («Венский Ринг более живописный, красивый и разноликий, потому что на нем высажены аллеи, но Невский проспект в первое мгновение производит на зрителя большее впечатление, потому что он прямой») [ZD7: 70]. Впрочем, София тоже не производит на Ашкерца особого впечатления. Так же, как Петроград относится к Москве, София относится к Пловдиву. В Пловдиве — славянский Восток: «Пловдив носит в основном народную шапку, тюрбан или феску на голове, на ногах также иногда все еще опанки», в то время как София «переоделась» в «лакированные туфли, венские брюки, фрак и цилиндр», на улицах все «по венскому вкусу», улицы называются «бульварами, как в Париже», один из которых окружает город «как венский Ринг» [ZD7: 47].
Даже процессия султана в Царьграде приобретает оценку триумфа империи потому, что карета султана венская и все сделано в европейском стиле, а новая резиденция султана вестернизирована.
Как и отношение к России, отношение к южнославянским государствам довольно неоднозначно, хотя проявляется это не так заметно. В Болгарии Ашкерц описывает Пловдив, говоря, что город наполовину европейский, а наполовину «абсолютно восточный» [ZD7: 43]. В Пловдиве колокольни христианских церквей перемежаются с довольно большим количеством минаретов, которым «своенравные русские пушками „случайно“ отстрелили верхушки» («Nekaterim takim minaretom so muhasti Rusi „po nakljuиju“ odstreljali rtove») [ZD7: 43]. Белград — это «сербский Париж», который с прошлого визита Ашкерца в 1886 г. сделался более-менее цивилизованным — «по главным улицам уже ездит трамвай и появилось электрическое освещение» [ZD7: 53].
11. Чужое Противоположность Европы у Ашкерца — Азия, Восток. Это враждебный «другой», не обладающий культурой. В европейской истории Восток олицетворяла, прежде всего, Османская империя. Турок для Ашкерца — практически синоним варвара. Ему чужда человеческая (европейская) культура, Ашкерц красочно описывает зверства турок в Сербии [ZD7: 50]. Именно турок и их колонизаторскую политику он винит в отсталости Сербии (малая заселенность, соломенные крыши): «Конечно. Разве могли люди учиться прогрессу у турок?» («Navadno. Ali so se ljudje od Turkov mogli uиiti napredka?») [ZD7: 52]. «Турок», по мнению Ашкерца, вообще не способен к прогрессу, за него это делают греки и армяне, у которых лучшие школы в империи. «Sploh ne ponaљata ta dva naroda med vsemi v Turиiji ћiveиimi orientalskimi narodi z veliko kulturo in vsak njiju misli, da bode dediи onemoglega in za kulturni napredek nesposobnega Turиina…» [ZD7: 29].
Первый человек, которого Ашкерц встречает на русской границе, как символ Востока — еврей, одетый в восточный «кафтан», «седобородый потомок Авраама», предлагающий ему поменять деньги.
К евреям у Ашкерца особое отношение, еще более негативное, чем к немцам. Он отмечает, что в Варшаве при 600.000 населения 200.000 евреев. В Галиции же евреи — причина всех бед, этот регион он называет «австрийской Палестиной». Евреи, по словам Ашкерца, берутся за любой бизнес, лишь бы он приносил деньги. А в Словении «евреев нет», и из этого можно заключить, что «тело словенского народа здорово» («Slovenci nimamo Judov. Ali ne smemo sklepati iz tega dejstva, da je naљe narodno telo zdravo…») [ZD7: 141].
Кавказские народы также воплощают образ «чужого», «восточного человека», которого нужно подчинить для его же блага, европеизировать и обезопасить, чем и занимаются русские. Путешествуя по Российской империи, Ашкерц четко разграничивает европейскую и азиатскую цивилизации и их культурное наследие. Граница между Австро-Венгрией и Российской империей для него является границей между двумя цивилизациями, которые он противопоставляет друг другу. Несмотря на его рассуждения об отсутствии границы между Европой и Азией и о том, что континент стоит называть Евразией [ZD7: 117], в тексте четко просматривается разграничение двух культурных традиций, причем европейская культура, несомненно, ставится выше азиатской. Именно европейский тип общества, по мнению Ашкерца, должен нести «цивилизацию» в восточный мир. Если северо-запад и центр России — это хоть и Восток, но приближенный к Европе, то Кавказ до прихода русских — это откровенно территория варваров, практически нелюдей: «Rusi so izpremenili Kavkaz v kulturno deћelo in uvedli red» («Русские превратили Кавказ в культурную страну и навели порядок») [ZD7: 114], «…z orientalci znajo Rusi љe pametneje ravnati nego Britanci, zato pa imajo tudi uspehe…» («…с азиатами русские умеют обращаться еще умнее, чем британцы, поэтому они добиваются успеха…») [ZD7: 109]. На их языках невозможно говорить — «Для нашего горла и для нашего речевого аппарата грузинский язык был бы необычайно труден» («Za naљe grlo in za naљ govorilni organ bi utegnil biti gruzinski jezik nenavadno teћak») [ZD7: 111]. Ашкерц сравнивает армян с евреями, причем в плане бизнеса они ведут себя еще хуже последних, а потому большая часть экономики Кавказа в их руках, а не грузин. К тому же армянки не такие красивые, как грузинки, и больше похожи на евреек. Россия приносит на Восток европейский порядок (хотя, по сути, российский порядок не является европейским, так как Россия по Ашкерцу — не совсем Европа). Хотя Ашкерц выступает против австрийского империализма и колониализма в отношении «австрийских» славян, он лишь вскользь упоминает о подобной политике России по отношению к Польше и полностью оправдывает и поддерживает российский колониализм на Кавказе, видя в нем славянский, а, следовательно, справедливый колониализм.
Поскольку чужой — это всегда угроза, что-то, вызывающее страх, он требует насмешки, иронии, помогающей этот страх побороть. Описывая свою поездку на турецком почтовом поезде по пути в Царьград (кстати, весьма некомфортную), Ашкерц с иронией замечает, что проезжает «тот исторический край», где два года назад «„славный“ Афанасиос проверял паспорта у путешественников первого и второго класса». «Bliћali smo se baљ tistemu ‚historiиnemu` kraju, kjer je /…/ pred dvema letoma ‚‚slavni`` Athanasios popotnikom I. in II. razreda revidiral potne liste» [ZD7: 18]. В Сербии «человеколюбивые» турки построили башню из голов побежденных [ZD7: 50].
В отличие от Турка и других восточных «варваров», играющих роль внешнего «чужого», внутренний «чужой» у Ашкерца — это «Немец». Немец не только не является этническим чужим, он, к тому же, входит в культурный круг Ашкерца, будучи представителем Европы и европейской культуры. Однако являясь колонизатором, он приобретает свойства социального «чужого». То есть, немцы играют ту же роль для славян в Австро-Венгерской империи, что и «монархия, дворянство и духовенство» для третьего сословия во Франции [Шипилов 2008: 110]. Венгры, конечно, тоже являются частью правящей этнической элиты, однако в меньшей степени, и Ашкерц лишь вскользь их упоминает, когда говорит о том, что на южной железной дороге в Австро-Венгрии надписи только на венгерском, что задевает словенцев [ZD7: 110].
По мнению Ашкерца, именно немцы запрещают славянам из Австро-Венгрии проявлять взаимность. Немцы находятся у власти и во всех бюрократических органах. В школе используется немецкая система образования. На Волге и на Кавказе есть немецкие поселения и колонии, в каждом русском городе есть немецкая лютеранская церковь. Ашкерц говорит, что для него, «как для славянина», совершенно немыслимо, что немцы в России имеют такие привилегии, и что «русские должны бы знать, что немец не желает ничего хорошего русскому народу» («Nam izvenruskim Slovanom se zdi popolnoma nepotrebno, da se Nemci v slovanski Rusiji tako proteћirajo, ko bi Rusi vendar morali vedeti, da Nemec ne ћeli dobrega ruskemu narodu») [ZD7: 122]. При этом он пытается причислить русскую интеллигенцию к панславистическому движению, говоря, что и она жалуется на то, что немцам в России слишком хорошо живется. Он заканчивает свою мысль цитатой из Некрасова, говоря, что если бы того спросили, «кому на Руси жить хорошо», то он бы без сомнения ответил: «Немцам…» («In иe bi vpraљali pesnika Nekrasova «кому на Руси жить хорошо», odgovoril bi nam brez dvoma: «Немцам…») [ZD7: 122].
Стереотипный немец для Ашкерца — символ бюрократии, причина большинства проблем в славянских странах. Говоря о немцах, он подчеркивает их скупость и чрезмерную национальную гордость.
«Ko smo sedeli na gimnazijskih klopeh, nam nemљki profesor geografije ni mogel dovolj proslaviti tistega „goldenes dachl“ v Innsbrucku. Ko bi naљi nemљki pedagogi, ki jim tako straљno imponira majhna pozlaиena streљica v tirolskem glavnem mestu, potovali po Rusiji, potem bi љele videli, kaj so pozlaиene strehe!» («Когда мы сидели на гимназийских скамьях, нам наш немецкий профессор географии не мог нахвалить эту „goldenes dachl“ в Инсбруке. Если бы наши немецкие педагоги, которым так ужасно импонирует маленькая золоченая крыша в тирольской столице, путешествовали по России, вот тогда бы они видели, что такое позолоченные крыши!») [ZD7: 67].
Немецкий язык также противопоставлен славянским языкам. Ашкерц утверждает, что словенский язык больше похож на русский, чем на гореньско-штирийский диалект словенского (на который влияет, прежде всего, немецкий язык) похож на берлинский или швейцарский немецкий. Ашкерц отмечает, что к двухсотлетию Петербург нужно переименовать, как переименовали Дерпт в Юрьев, чтобы избавиться от немецкого имени. «…Da bi se prekrstilo njegovo nemљko ime! /…/ zakaj pa bi Peterburg moral imeti nemљko kapo! … Pa tudi tisti Schlьsselburgi, Oranienbaumi, Kronstadti, Peterhofi, Jekaterinburgi in Orenburgi so preve persiflaћa na slovanskij znaиaj Rusije…» «Чтобы изменилось его немецкое имя! /…/ почему у Петербурга должна быть эта немецкая шляпа! … А также все эти Шлиссельбурги, Ораниенбаумы, Кроштадты, Петергофы, Екатеринбурги и Оренбурги — насмешка над славянским значением России…» [ZD7: 73].
Также довольно негативным является отношение Ашкерца к Великобритании и Франции, особенно в контексте их отношений с Россией. Он говорит, что русские лучше умеют управлять своими колониями, а также припоминает антирусскую коалицию в Крымской войне. «Francozi in Angleћi so se bili spravili nad Sevastopol, da poniћajo Rusijo» («Французы и англичане переправились к Севастополю, чтобы унизить Россию») [ZD7: 97].
12. Идентификация Используя «Другого» для самоопределения, Ашкерц выстраивает систему бинарных оппозиций, в которых прослеживается базовая оппозиция «свой-чужой».
Первая оппозиция, которая возникает у Ашкерца — это оппозиция «Запад — Восток» (синонимичной является оппозиция «Европа — Азия» и другие ее вариации — например, «австрийские славяне — восточные славяне»). В «Поездке в Царьград» он неоднократно подчеркивает такую дихотомию. Царьград интересен Ашкерцу тем, что это место, где «встречаются Европа и Азия», и виден контраст между ними. Данная оппозиция является ключевой в европейской культуре, так как (как подчеркивает И. Нойманн) именно через восточного «Другого» происходит самоопределение Европы. Ашкерц безусловно относит себя к Западу, к Европе, называя себя западником, держа в уме античные идеалы. Ашкерц говорит, что в Италии есть места, которые значимы для европейской духовной жизни, а потому являются достоянием всего мира. Таким образом, понятие «европейская культура» приравнивается к понятию «мировая культура». В тексте Ашкерц всегда акцентирует различия между частями этой оппозиции, относя страны, народы, религию, города, одежду, архитектуру и людей к одной из сторон данной оппозиции.
Еще одна важнейшая оппозиция, которая возникает в тексте — это оппозиция «славянин-немец». Немец для Ашкерца олицетворяет все, что препятствует процветанию славянских стран. В нем все проблемы в России, в нем он видит причину отсутствия у России достаточного интереса к славянской взаимности и даже причину абсолютизма. Именно немец мешает славянам объединиться. В то время как все славянское предстает в самом положительном свете, например, осуждаемый империализм Австро-Венгрии оправдывается в России, инженеры в России лучше, Россия лучше справляется с колониями, там более прогрессивная система образования, так как женщины также могут получать образование, а в университетах нет богословских факультетов. Тем не менее, Ашкерц говорит, что Словения на триста лет обгоняет Россию в развитии. («Proti Rusom smo Slovenci pritlikovci, toda naљe ljudstvo je v kulturnem razvoju in sploљni omiki najmanj za tristo let pred ruskim») [ZD7: 144].
Устанавливая бинарные оппозиции, Ашкерц идентифицирует себя с одной из частей каждой, однако за этим часто следуют противоречия. Например, Ашкерц определяет себя как словенца, однако уровнем выше происходит колебание между южнославянскими народами и австрийскими славянами. Оказывается, что Балканские славяне еще не достаточно развиты, их государства молодые, и он с иронией говорит о том, как тщательно проверяют его — австро-венгерский! — паспорт на каждой границе. Он, конечно, винит турок в отсталости Балкан, тем не менее, это не изменяет их позиции в его иерархии. Чехи для него куда более авторитетны, они более европейские. Оппозиция «австрийские-неавстрийские славяне» работает и для Польши с Россией. Польша не особо занимается славянской взаимностью, заботясь о собственных интересах, а Россия и вовсе к ней равнодушна. Ашкерц, являясь ярым русофилом, безусловно, хочет присоединиться к России, идентифицировать себя с ней как с будущей панславянской империей «под эгидой русского орла», но практически полное игнорирование и отсутствие каких-либо сведений о словенцах в России не позволяет ему это сделать.
Он относит себя и словенцев то к западному, немецкому миру, то к его противоположности — славянскому миру. В таком случае немецкий мир скорее является носителем «европейской» культуры. Отнесение к славянскому миру предполагает идею славянской взаимности и борьбы против немецкой этносоциальной элиты.
С самого начала своего повествования в «Двух поездках в Россию» Ашкерц четко устанавливает оппозицию «славянин — неславянин», подчеркивая, что он сам едет в Россию именно как славянин: «V Italijo in Љvico sem bil potoval kot иlovek, na Rusko pa pred vsem kot Slovenec, kot Slovan. In Rusija je slovanska drћava» [ZD7: 63]. При этом в понятие «человек» Ашкерц тут вкладывает, прежде всего, значение «европеец, представитель т.н. европейской культуры».
Таким образом, данная оппозиция развивается в еще одну — «славянин — европеец», которая будет прослеживаться и далее в тексте. Здесь номинация «словенец» рассматривается как часть славянской культуры и является синонимом слова «славянин».
Ашкерц устанавливает противопоставление «Россия — Европа», «Россия — Запад», разделяя эти части не только географической, но и ментальной границей: «…zopet na Rusko! Nekaj me je gnalo nazaj „иrez mejo“» [ZD7: 62]. Переход границы между Австро-Венгрией и Россией воспринимается как переломный момент, шаг на «чужую землю» [ZD7: 64]. Перейдя границу, Ашкерц отмечает, что стоит на польской земле, «только государство русское». Отъезжая от пограничной станции Граница вглубь страны, он пишет: «Zbogom, Evropa! Zdaj smo v Rusiji…» («Прощай, Европа! Теперь мы в России…») [ZD7: 65]. Такое разделение не ново, в 1788 г. американец Джон Ледъярд попытался пересечь Сибирь в одиночку, но был арестован. Только перейдя польско-прусскую границу, он почувствовал себя в Европе. По его словам, именно на этой границе проходил «великий водораздел между азиатскими и европейскими манерами», который он с горячим энтузиазмом «перепрыгнул», чтобы «вновь принять Европу в… самые горячие объятия» [Ledyard 1966: 64]. Ларри Вульф отмечает, что благодаря интеллектуальным достижениям эпохи Просвещения ось соотношения север-юг заменила новая ось запад-восток, что привело к обособлению Западной Европы и Европы Восточной. «В сознании современников Польша и Россия более не ассоциировались со Швецией и Данией, а взамен оказались связанными с Венгрией и Богемией, балканскими владениями Оттоманской империи, и даже с Крымом» [Вульф 2003: 15, 16]. Причем в какой-то момент Польша стала своеобразным крепостным валом между Европой и Россией.
«Россия — не Италия» — пишет Ашкерц. Принадлежность её к европейской (то есть «культурной») культуре нечетка. По Европе (Италии и Швейцарии) путешествовать легко и приятно, там все нацелено на комфорт туриста — конечно, «за деньги». По России же путешествие означает трудности, оно далеко от комфорта и удобства, предполагает вторжение на чужую территорию, через границу, нахождение среди чужих. Ашкерц отделяет Россию от европейской культуры и снова теряет возможность идентифицироваться с ней.
К.-Я. Козак выделяет у Ашкерца трехчастную оппозицию, где «мы» — это словенцы, принадлежность к которым Ашкерц четко выражает. В то же время он относит себя и к южным славянам, и к австрийским славянам. «Они» у Ашкерца — это Запад (немцы, англичане, французы). А «великим „мы“» должны были бы стать русские, если бы с ними можно было идентифицироваться. Такая трехчастность позволяет ему относить себя к одной из частей оппозиции в зависимости от ситуации [Козак 2014: 205]. Происходит «наложение различных национальных кодов» [Бодрова 2015: 42].
Выводы
Таким образом, отношение Ашкерца к иному и его идентификация основываются на:
- — традиционном для Европы дискурсе ориентализма по отношению к Турции и Восточной Европе;
- — положении Словении как этнического меньшинства в составе Австро-Венгерской империи;
- — Этноцентрическом понятии нации на основе языкового родства и, как следствие этого, панславизме;
- — Художественной литературе (прежде всего русской);
Для определения своей идентичности Ашкерцем были использованы два «других»: внешний — восточный, и внутренний — немец.
Восточный «Другой» является наиболее важным для формирования европейских идентичностей. Ашкерц, безусловно, причисляет себя к европейской культуре, а потому также противопоставляет себя Востоку. К Востоку Ашкерц относит, прежде всего, Турцию и Кавказ. Турка и Кавказца он видит в дискурсе ориентализма, это колонизированный варвар, почти прирученный «чужой», обладающий романтическим шармом и загадочностью. Однако к восточному «Другому» относится и Россия, а также Балканские славянские страны. Для Ашкерца это славянский Восток, недо-Европа, подвергшаяся «мягкой ориентализации», что тоже соответствует историческому отношению Запада к Восточной Европе.
Внутренний «Другой» — это немец, этот «Другой» возник в ответ на империалистическую колонизаторскую политику по отношению к славянам. Немца Ашкерц зачислят в разряд «чужого», его отношение к немцам враждебно.
В процессе идентификации Ашкерц выстраивает оппозиции, основанные на базовой дихотомии «свое-чужое», либо на тройственной оппозиции, при этом он выбирает наиболее удобный для себя вариант в каждой конкретной ситуации. «Своим», «другим» и «чужим» может являться каждая часть оппозиции, в зависимости от контекста. Идентичность Ашкерца является смазанной и «плавающей» в результате наложения нескольких культур.