Игра в природе человека
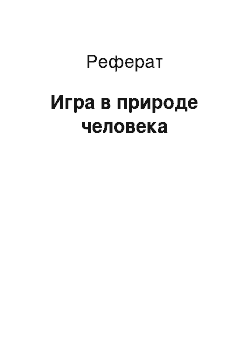
Берлянд предлагает обратить внимание на взаимосвязь эстетики и проблемы видимости, которые поднимаются в работах Канта и Шиллера. Рассмотреть это можно на примере произведений искусства, которые вовлекают зрителя в игру. Мы осознаем, что картина, музыка, скульптура — это условный предмет, в то же время мы в воображении соединяем его с некими реальными категориями природы или чувств. Берлянд… Читать ещё >
Игра в природе человека (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
К вопросу об определении игры
В данной части работы мы рассмотрим различные подходы к определению игры, существующие в научном поле. В исследовании мы хотели бы уйти от этимологических аспектов, так как считаем, что они не смогут раскрыть новые грани рассматриваемой проблемы. Таким образом, наибольший интерес для нас представляют работы психологов и философов, в которых рассматриваются функции и характеристики игры, а также её влияние на поведение человека.
Обзор различных подходов к определению игры составляет Ирина Берлянд в книге «Игра как феномен сознания» (1992), в которой она, синтезируя различные взгляды на игру как явление, предпринимает попытку продвинуться в исследовании сознания детей.
Биологический подход к игре представлен в работах Карла Грооса и Фредерика Бойтендайка. Предложенные ими концепции приписывают игре исключительно биологическое значение и отрицают её глубинные психические основы. Стоит отметить, что учёные работали в одно время и вступали в полемику относительно проблематики игры: существует как критика Грооса Бойтендайком, так и наоборот. Однако в их работах научное сообщество видит также и много общих мест, таких как внешнее объяснение игры — её наполненность исключительно биологическим смыслом, — и отказ связывать психическое и игровое.
Гроос рассматривает игру как некое явление подготовки к жизни, период тренировки. Значение игрового для взрослых учёный определяет как побочное, уступающее «серьёзной жизненной борьбе», в то время как для ребёнка игра имеет центральное значение, является «главным содержанием» жизни. Смысл детства, а вместе с тем и игры, по Гроосу, заключается в том, чтобы человек мог реализовать унаследованную природу, получил время для становления навыков, которые будут необходимы в дальнейшем, во взрослой жизни. Таким образом детство рассматривается им исключительно как свободное время для реализации генетически заложенных параметров, а игра — как процесс, в котором выполняется эта задача. Таким образом, Гроос отрицает независимую природу игры, а также существование «влечения к игре» и «инстинкта игры» [Берлянд].
Общая теория игры Бойтендайка критикует концепцию Грооса, утверждая, что, во-первых, инстинкты созревают независимо от упражнения, и, во-вторых, что такие упражнения не являются игрой. В качестве примера учёный приводит противопоставление «ребёнок учится ходить, его деятельность серьёзная» — «ребёнок умеет ходить, но делает вид, что у него плохо получается, т. е. играет в ходьбу». По мнению Бойтендайка, в отношениях «игра» — «детство» первично второе, т. е. не игра обуславливает необходимость детства, а детство провоцирует игру.
В своих исследованиях Бойтендайк наблюдает за тем, с какими объектами и как играют детёныши зверей и дети, и приходит следующему выводу: в игре реализуются влечения и присущие детенышу особенности динамики. Ссылаясь на психолога Даниила Эльконина («Психология игры», 1978) Берлянд указывает, что для Бойтендайка «сфера игры — это сфера образов, и в связи с этим сфера возможностей и фантазии». Если сопоставлять исследования Грооса и Бойтендайка, то можно обозначить, что первый отвечает на вопрос «Зачем играет ребёнок?», а второй на вопрос «Почему играет ребёнок?». Если в первом случае ребёнок обучается в игре и для этого играет, то во втором — играет, потому что реализует свои фантазии.
В предисловии к русскоязычному изданию книги Грооса «Душевная жизнь ребёнка» (1916), философ Василий Зеньковский пишет: «Насколько глубока и ценна биологическая концепция детских игр, развитая Гроосом, настолько же, надо сознаться, слаб и поверхностен порой психологический анализ их» у него. Эльконин также указывает на недостатки этой концепции, упрекая Грооса в том, что тот «не проанализировал игру по существу» [Эльконин: 69]. На недостатки теории Бойтендайка указывает Берлянд, говоря о том, что тот «уходит от проблемы природы игры — она оказывается сведенной к природе влечений, динамики и т. п., объясненной из них, а не из своей природы».
Первый сдвиг от вопросов «зачем» или «почему» к вопросам «как играет ребенок» и «что есть игра» можно наблюдать в упомянутых исследованиях Бойтендайка, когда он описывает игры животных, уделяя внимание не столько объяснению целей и задач, сколько рассмотрению процесса игры. В этом можно углядеть косвенный поиск ответа на вопрос «Что есть игра?». Однако в полной мере эта проблема изучается только при философском анализе игры.
Философский подход к определению игры Берлянд предлагает рассмотреть на примере «Писем об эстетическом воспитании» Фридриха Шиллера (1795). Основываясь на философской системе Иммануила Канта, Шиллер предполагает, что человек живёт двумя противоположными побуждениями: обнаруживать свои способности в реальной деятельности и придавать форму внешнему миру. Первое можно охарактеризовать как «чувственное» (физическое), а второе — «формальное» (моральное). Освободиться от этих побуждений человек может только в игре, в которой он достигает состояния свободы, которое в свою очередь имеет эстетическое начало. Игра для Шиллера — «эстетическое расположение духа», которое примиряет внутренние противоречия. Он пишет: «Из всех состояний человека именно игра и только игра делает его совершенным и сразу раскрывает его двойственную природу» [Шиллер: 301].
Берлянд предлагает обратить внимание на взаимосвязь эстетики и проблемы видимости, которые поднимаются в работах Канта и Шиллера. Рассмотреть это можно на примере произведений искусства, которые вовлекают зрителя в игру. Мы осознаем, что картина, музыка, скульптура — это условный предмет, в то же время мы в воображении соединяем его с некими реальными категориями природы или чувств. Берлянд пишет: «…одновременность этих двух отношений и игра между ними и создает эстетическую реакцию. Когда ребенок, играя, скачет на палочке, он сознает, что это палочка, в то же время он ведет себя так, как если бы это была лошадь; одновременность и несовпадение этих отношений и определяет особенность игрового сознания» и указывает на то, что именно принятие условности определяет игру. «Если нет видимости, нет игры; если видимость не осознается (претендует на реальность), игры тоже нет», — отмечает Берлянд.
В спор с трактовками игры Канта и Шиллера вступает философ Ханс-Георг Гадамер («Истина и метод», 1960). Берлянд называет его подход сугубо философским и «анти-психологическим», согласно которому «играет не игрок, но сама игра». Таким образом участник игры — зритель — познаёт игру как «превосходящую действительность» и реализует её. Гадамер пишет: «…закрытость игры в себе и создает ее открытость для зрителя. Зритель лишь осуществляет то, чем является игра как таковая» [Гадамер: 155]. Процесс реализации этого идеального игрового потенциала в искусстве философ описывает по аналогии с театральным представлением: когда играющие представляют роли для зрителя, они приглашают последнего к действию, и в случае, если актёры (объекты) верно исполняют замысел произведения искусства (субъекта), то зритель преображается в игрока.
Берлянд пишет, что взгляд Гадамера на исследуемую проблему ярко иллюстрирует разность философского и психологического подходов к игре: первого в предложении «зритель осуществляет то, чем является игра» интересует то, что зритель игру всего лишь осуществляет, второго — то, что именно зритель это реализовывает. Берлянд указывает на то, что проникновение в суть игры и развитие каждого из этих взглядов основано на взаимодействии противостоящих концепций, так как «без укорененности в психологии философский анализ утрачивает „субъективность“, важную для понимания игры (и культуры); без анализа „преобразовательной“ (в смысле Гадамера) тенденции игры психологический анализ сводится к пониманию игры либо как переживания, либо как усвоения, становится невозможным анализ игры как целостного феномена сознания».
Социокультурный подход к игре представлен в работах Ю. Левады и М. Бахтина. Левада акцентирует внимание на двух критериях игры: наличии замкнутой структуры действия и её обособленности по отношению к социально-культурной среде («Игровые структуры в системах социального действия», 1984). Таким образом, игра имеет двойственное значение: как социальное действие и как культурное. Левада также указывает на непродуктивность игрового действия: оно не решает внеигровых задач. По этому признаку, например, игровое действие отличается от риатуального, которое в свою очередь всё-таки имеет воздействие на окружающий мир, хоть и «мнимое». Также, согласно учёному, барьер, разделяющий игровое и неигровое поля, осознаётся всегда, в том числе и в игре ребёнка, а сама граница ощущается как игроками, так и наблюдателями [Берлянд].
Стоит отметить, что указанные Левадой характеристики игрового поля вступают в спор с моделью игрового пространства философа Йохана Хёйзинги, который находит ритуальные акты, лишь привитой, видоизменённой игрой, которая в своей форме и функции находит «чувство человеческой включенности в космос», «свое самое первое, самое высшее, самое священное выражение» [Хёйзинга: 45]. Однако Хёйзинга, также как и Левада, признаёт жёсткость границ игровых миров.
Теория культуры Михаила Бахтина («Вопросы литературы и эстетики», 1975) представляет игру как явление культуры, в котором ярко проявляются особенности последней. Бахтин пишет: «Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает». Таким образом, по его мнению, игра может быть понята только в рассмотрении всего разнообразия культуры.
Выше мы изложили основные непсихологические подходы к изучению игры. Берлянд утверждает, что игра «может быть понята только как явление сознания, а значит, как существующее на границе, как активно относящееся к тому, что не-игра, как диалог». По её мнению, именно диалогичность является сутью игры, которая в свою очередь — с точки зрения психологии — является феноменом сознания, явления которого также диалогичны сами по себе. Анализ игры, таким образом, должен позволить науке дальше продвинуться в изучении сознания как такового.
Одним из представителей психологической теории игры является Вильям Штерн («Психология раннего детства до шестилетнего возраста», 1922), который предлагает две позиции, с которых можно рассматривать игру: как «явление сознания», и как «жизненную функцию». Если рассматривать игру в первом качестве, Штерн определяет следующие её характеристики: «свободная, являющаяся самоцелью деятельность», которая противопоставляется «работе» и «всегда есть только средство для достижения какой-нибудь цели». Штерн отмечает, что как только какая-либо посторонняя цель сознательно связывается с игрой — получение выигрыша или установление рекорда, — то «деятельность перестает быть чистой игрой». Однако, если игра принимается как функция, то становится понятным, что она имеет цели и вне игрового поля [Штерн: 167].
Штерн во многом соглашается с Гроосом, и пишет, что игры действительно могут выходит далеко за рамки «игры ради игры», иногда готовя человека к деятельности, которая ему только предстоит: «Каждая тенденция игры есть заря серьезного инстинкта» [Штерн: 168]. Примеры он приводит из ситуаций взросления, когда в играх — в войнушку или куклы — ребёнок готовит себя к будущей неигровой активности.
Курт Коффка (1934) также в основном изучает детскую игру. Он предполагает, что в сознании человека могут параллельно существовать две структуры. Одна составляет мир игры, а вторая — мир взрослых. В качестве примера Коффка рассматривает ситуацию, в которой ребёнок играл с куском дерева, с которым обращался, как с живым существом, и через мгновение, отвлекшись от игры, бросил деревяшку в костёр или сломал. Мир игры и среда взрослых затрагивают как уровень сознания, так и уровень поведения, формируя две независимые конструкции, переход от одной к другой как раз и выразился в перемене отношения к игрушке. «Иллюзия», — описывает концепцию Коффки Берлянд, «присуща ребенку при обращении с какой-нибудь вещью до тех пор, пока она находится в его детском мире». Согласно Коффке, структура мира взрослых в сознании со временем расширяется, и постепенно то, что было для ребенка полноправным миром, становится только игрой [Коффка: 224−225].
В отношении данного исследования нам кажется важным отметить то, что Коффка обозначает игровую реальность ребёнка как полноправную. Подобный психологический параллелизм описывает также Жан Пьяже («Речь и мышление ребенка», 1932).
Другие психологические теории, которые также обозревает Берлянд, во многом касаются развивающего и педагогического потенциала игры. В данном исследовании мы не находим необходимым учитывать эти аспекты Выше мы привели обзор психологических и непсихологических подходов к определению характера и принципов игры. Особое внимание мы хотели бы обратить на исследования философа Йохана Хёйзинги, в котором игра определяется как всепроникающая в культуру и направляющая человеческую деятельность.