Поэтические опыты вятских стихотворцев XVIII века
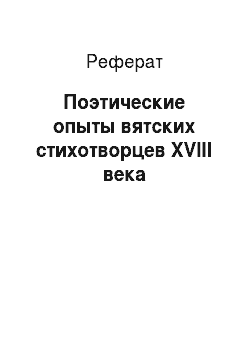
Еще одним талантливым поэтом и учителем был Григорий Софроньевич Шутов. В вятской исследовательской литературе Г. Шутов часто связывается с сатирическим направлением, так как он писал басни и эпиграммы. Они стали известны по публикациям А. С. Верещагина. Однако его перу принадлежат оды и хвалебные стихи «высоким» лицам. А. С. Верещагин писал, что в период учительствования Г. Шутова в классе… Читать ещё >
Поэтические опыты вятских стихотворцев XVIII века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Русский классицизм и жанр оды привлекал и привлекает внимание известных филологов на протяжение XIX—XXI вв. К теории оды обращались в свое время А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер, В. Г. Белинской и другие. В XX в. такие известные филологи, как Ю. Н. Тынянов, П. Н. Берков, Г. А. Гуковский, И. З. Серман, Г. П. Макогоненко, Л. И. Кулакова, В. А. Западов, выявили специфику оды как универсального жанра мировой литературы, а также ее черты русские национального своеобразия.
Ода на протяжении XVIII ст. являлась основным жанром, который претерпевал внутренние и внешние изменения, но оставался «образцом» возвышенной лирики [1, с. 684 685]. Как отмечал И. З. Серман, «Судьба оды в русской литературе — это и судьба самого классицизма» [2, с. 26]. Ода на российской почве, в том числе и провинциальной, представлена различными жанровыми модификациями: похвальная (торжественная, пиндарическая), духовная (Божественная, парафрастическая), горацианская, анакреонтическая, нравственно-философская, историческая и др. [3, с. 117]. Горацианская традиция начиналась с од В. К. Тредиаковского, а пиндарическая традиция — с од М. В. Ломоносова. Эти жанровые разновидности разрабатывали А. П. Сумароков, а затем М.М. Xерасков и его «кружок» (В.И. Майков, А. А. Ржевский, А. В. Нарышкин, С. В. Нарышкин, А.А. Нарышкин).
Торжественная ода, по преимуществу панегирическая, была связана с торжествами, имеющими общегосударственное значение. Как отмечала Н. Ю. Алексеева, «К таким торжествам в XVIII веке относили одержанную победу, заключение мира, четыре ежегодных царских дня (день восшествия на престол, день коронации, день тезоименитства и день рождения царствующей особы), рождения и кончины лиц царской семьи, отъезд или въезд монарха в город. Оды, посвященные нецарствующим особам, какое бы высокое положение они ни занимали, не были „торжественными“» [4, с. 7].
В 1770—1790-х гг. В. П. Петров всецело посвятил свои оды восхвалению власть предержащих. Н. А. Львов, В. В. Капнист, И.И. Xемницер и Г. Р. Державин образовали своеобразную дружескую группу, которая особо почитала Горация и его творчество. Г. А. Гуковский писал об одическом творчестве Г. Р. Державина: «В начале своего творческого пути Державин воспринял различные системы, переданные ему историей, как системы различных жанров. Потом, выйдя на собственный путь, он отрывает все стилистические признаки от слитых с ними прежде жанровых понятий, произвольно, по-новому выбирает из общей их суммы то, что ему нужно, и соединяет их в немыслимых прежде сочетаниях. Самые жанры, лишенные своих стилистических характеристик, также спутываются. Реформа Державина с этой точки зрения оказывается жанровым переворотом, уничтожением жанрового классификационного мышления, характерного для середины ХVШ столетия» [5, с. 201].
Популярность оды в последней трети ХVNI в. в общероссийском масштабе угасала, однако в провинциальной литературе, которая имела некоторую инерционность развития, ода продолжала занимать видное место. Этому явлению способствовали провинциальные учебные заведения, в которых преподавалась пиитика, основанная на классицистических традициях.
Вятская поэтическая школа сложилась в первой половине XVIII в. при славянолатинской, а затем и духовной семинарии. Вятская духовная семинария принадлежала к наиболее организованным и передовым духовным школам России XVIII в. Период ее расцвета приходится на 1760−1780-е годы.
Характерной чертой семинарской жизни было всеобщее увлечение литературой, прежде всего поэзией. Дошедшие до нас варианты «Поэтик», ученические тетради свидетельствуют о том, что поэзия определяла основной (впрочем, не официальный) профиль этого учебного заведения. Сосланный в Вятку, Лаврентий Горка неутомимо продолжал свою просветительскую деятельность. Велика его роль не только в воспитании учеников созданной им здесь славяно-латинской школы, но и в развитии традиционной поэзии и школьной драмы, поскольку он сам был одаренным, ярким литератором. Можно с уверенностью сказать, что его роль в формировании духовной ауры будущей Вятской семинарии, которой суждено было стать эпицентром «областного культурного гнезда» была заметна, и не учитывать ее нельзя. У истоков вятского стихотворства стояли, помимо Лаврентия Горки, Иоаким Богомедлевский и Михаил Евстафьевич Финицкий, Петр Матвеевич Глемаров — ский — учителя, посвятившие вятчан в тайны «пиитических трудов».
Известный вятский исследователь культуры и литературы XVIII — начала XIX вв. А. С. Верещагин писал, что «вятское стихотворство, поэтому, в начале и не было собственно русское, а так называемое славянороссийское, и первые вятские стихи, появившиеся в конце 30-х годов прошлого века среди вятского грамотного люда, иначе и не назывались, как versus sclavonici» [6, с. 71].
Иоаким Богомедлевский — первый учитель пиитики в славяно-латинской школе — не оставил формальных следов своего пребывания в Вятке. Он прибыл на Вятскую землю в 1732 г. по указу Святейшего Синода в ссылку, так же, как и Лаврентий Горка. Отбывать ссылку ученый-монах должен был в отдаленном Чердынском монастыре, в оковах за «бродяжество». Иеромонах Иоаким Богомедлевский был человеком незаурядным: ученик Киево-Могилянской академии, он входил в число наиболее образованных людей своего времени. Известно о И. Богомедлевском немного.
Уже одно то обстоятельство, что И. Богомедлевский был связан с традицией польской силлабической школы чрезвычайно важно, так как эта традиция несла отчетливое влияние стиля барокко [см.: 7, с. 176−189]. Отчасти эта традиция проявилась и в деятельности другого заметного преподавателя Вятской семинарии — Михаила Евставьевича Финицкого. Как и многие образованные люди начала XVIII в., М. Е. Финицкий получил образование в Киево — Могилянской духовной академии. В июне 1735 г. он был приглашен Лаврентием Горкой в Вятскую духовную семинарию. М. Финицкий прошел путь от преподавателя грамматики до преподавателя пиитики, риторики и диалектики, и даже с 1740 по 1744 гг. возглавлял семинарию. М. Финицкий сочинял стихи, проповеди и произносил их с кафедры, о чем красноречиво говорят документы ГАКО [8, л. 4; 9].
В Региональном центре книжных памятников Кировской государственной областной научной библиотеки имени А. И. Герцена под № 246 хранится рукописный учебник поэтики М. Финицкого «Idea artis роёБеоБ, ad usum et institutionem studioses juventutis Roxolanae tradia in orthodoxo collegio wiatcesis a domino M. Finicky, professore poёseos, 1741 anno sep — tembri 22 Dic» («Учебник по искусству поэзии») [см.: 9, с. 265−301]. Необходимо отметить, что традиция написания учебников «Поэтики» восходит к Аристотелю, к «Посланию к Пи — зонам» («Epistola ad Pisones»), названному позднее «Ars poёtica» Горация, и их латинским интерпретаторам. В период средневековья многие преподаватели пиитики создавали собственные учебники, но они традиционно опирались на предшественников: в структуре, в расположении материала, даже в примерах использовали переводы своих учителей. Одним из таких ответвлений являлась традиция, связанная с польско-украинской школой. Особое место в ней занимала Киево-Могилянская академия [см.: 10, с. 383−391].
Учебник М. Финицкого написан в духе поэтических трактатов первой трети XVIII ст. Комплекс идей и поэтических воззрений, предложенных М. Финицким ученикам Вятской семинарии, схож с комплексом идей поэтики Феофана Прокоповича (Феофан Прокопович «О поэтическом искусстве») [11, с. 57−63]. Однако «Idea artis poёseos…» М. Финицкого свидетельствует о том, что ее автор не был лишь подражателем, напротив, М. Финицкий в «Idea artis роёБеоБ…» выступил как новатор. Труд М. Финицкого во многом развивает идеи учебника пиитики Феофана Прокоповича и Лаврентия Горки (1707 г.). М. Финицкий несколько сократил и изменил рукопись Горки, сохранив композицию, структуру, основной корпус примеров. «Idea artis роёБеоБ…» разделена на четыре книги. В первой говорится о природе, предмете и цели поэзии, о поэтическом вымысле, поэтических средствах и видах стихов subsidia роёБеоБ. Вторая книга рассказывает об эпической, комической и трагической поэзии. Третья — о поэзии элегической, буколической, сатирической и лирической. Четвертая книга посвящена поэзии эпиграмматической и «стихам менее важным», так называемым artificosis.
Изложение поэтических правил сопровождается примерами из Вергилия, Горация, Овидия. Многие латинские и польские стихи даны в переводе на «славянороссийский язык». Вероятно, переводы выполнены Л. Горкой и М. Финицким. А. С. Верещагин приводит двенадцать латинских двустиший (с русским переводом), посвященных преосвященным Лаврентию и Вениамину. Художественный уровень гратуляций М. Финицкого свидетельствует о мастерстве и талантливости их автора:
Угасшу Лаврентию на его престоле, Вениамин сияет по Божьей воле.
* * *.
Угасе добротою лампада горяща, Вторая возжеся равнее светяща.
* * *.
Упаде веры Божией столб неколебимый, Днесь инна утверди Бог везде хвалимый.
* * *.
Сконча Лаврентий труды от смертныя страсти, А Вениамин прииде овцы его пасти.
* * *.
По умершем Лаврентии преподобном пастыре Полно все слез в сем вятском мире.
* * *.
Вениамин же прииде слезы утолити Вятские овцы гладны оживити [6, с. 83−84].
В силу ряда причин провинциальная жизнь и вместе с ней литература несколько отставали от столичных тенденций. Однако эти тенденции воспринимались особенно быстро в «школьной среде». Так, в 1760-е гг. в Вятку широко проникают произведения М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова. Их оды, сатирические произведения, басни оказывают большое влияние на местных пиитов. Вятские пииты писали оды, поздравительные стихи, как и в других провинциях России, на определенные торжественные события. Они откликались как на общероссийские события, но чаще на события в своей губернии или городе.
В 1740—1750-х гг. в Вятской семинарии сменилось несколько учителей пиитики и риторики. «Предназначенный быть, — писал А. С. Верещагин, — „обязательным“ пиитом и учителем пиитики был Петр Матвеевич Глемаровский. Он прожил в Хлынове около трех с половиной лет (с октября 1744 года по март 1748 года) и оставил учебник пиитики под заглави — ем „Liber de arte poetica, in orthodoxo Wiatcensi collegio anno 1745 oblatus“. Сам П. Глемаровский учился пиитике в Казани или у Вениамина Григоровича, или Филиппа Скаловского, студентов Киевской академии, приехавших в Казань не позже сентября 1739 года и. следовательно, привез с собою в Хлынов пиитику тоже „киевскую“ тридцатых годов прошлого столетия» [6, с. 91]. После П. Глемаровского были назначены (правда, не сразу): учителем пиитики Федор Лукич Порошин (Радикорский), а учителем риторики — Мина Тарасьевич Мышкин. Оба учителя были в семинарии не долго [6, с. 94−98]. Этих учителей сменили иеромонах Трифилий Сокольский и протодиакон Алексей Андреевич Свирепов. А. С. Верещагин отмечает, что Сокольский, «один их киевских студентов», вероятно, пользовался учебником «Пиитики» Конисского [6, с. 97].
После «восстановления» преосвященным Варфоломеем духовной семинарии на Вятке в 1758 г. (класс пиитики восстановлен в 1761), недолгое время учителем пиитики был Григорий Демьянович Хрещатинский.
Одним из талантливых учеников Вятской духовной семинарии был Матвей Александрович Ушаков, который учился у П. Глемаровского [см.: 6, с. 99−104; 12, с. 12−13]. Талант вятского пиита проявился в том, что он обращался к различным жанрам, свойственным русскому классицизму. Он писал оды, торжественные, похвальные стихи, сатиры, элегии. В его произведениях нашли отражение просветительские идеи. Как и его предшественники, Л. Горка и М. Финицкий, М. Ушаков создает свой учебник «Clasis Artis poeseos ad usum et instutionem neonavarcha rum instrusta Propter conficiendam tum ligatam Solutama oratio — nem Jseminario Wiatcensi sub auspitiis ac directione Jllusrissimi Bartholomei antistitis Wiatcen — sis nec non magna Permia, manifestata Fnno Domini 1761 mens octobmbri 15 Die. Ex libris Gabrieles Szutov». В этом учебнике есть словарь «Epitome Phrasium poetica» [13, л. 146]. В нем на латинском языке даются словарные статьи по теории поэзии и риторики.
В одном из вариантов учебника М. Ушакова, сохранившемся в отрывках, есть «приветственная песнь» Екатерине Алексеевне, написанная трехстопным и четырехстопным ямбом. Торжественный пафос «приветственной песни» придают уже не «тяжелые» силлабические строки, а более простые, но эмоционально окрашенные эпитеты:
Тобою мы все благосчастны, Всем ныне дни сияют красны:
Обилие, богатство вновь!
У всех мы видим дух спокойный, Порядок зрится всюду стройный, Усердность, искренность, любовь… [6, с. 101].
Основа поэтического сюжета оды — это противопоставление «что было» и «что есть» при правлении Екатерины Алексеевны. Создается своеобразное противопоставление тьмы и света, ночи и дня, хаоса и порядка, бедности и обилия, косности и науки.
В стихотворении «Похвала наукам» (58 строф) поэт говорит о любви к просвещению, науке, поэзии. В «Элегии на кончину славного разумом и благочестием стихотворца» М. Ушаков подчеркивает безвременность кончины поэта, скорбь, которая разрастается до вселенских масштабов. Естественно, автор употребляет в этом стихотворении традиционные образы мифологии Древней Греции:
Как громки плачущих здесь крики Разят всех жалостью сердца!
Как дождь шумит из туч великий, Так льются слезы без конца!
Внезапным горести ударом Олимп покрылся светлым хмаром И всколебался наш Парнас, Замолк изящной музы глас! [6, с. 101].
Однако можно заметить влияние украинских учителей, например, в «Элегии» встречаем украинизм — «хмара» (облако, туман).
Вятские поэты осознавали, что возникла потребность заменить тяжелые латинские грамматические формы и синтаксические конструкции русского книжного языка более гибкими формами и тем самым придать им легкость и естественность разговорной речи. Таковым является стихотворение М. Ушакова «Моим завистникам», написанное уже в силлабо-тонической системе и в «песенной» стилистике.
Зависть свой язык презлобный Изострила будто меч, Погубить меня способный, Чтобы счастье мне пресечь.
Растворила рот как бездну, Чтобы жертву поглотить, Погрузить во тьму беззвездну, Бед горами подавить.
Начала шептать и в уши Сильным людям на меня, И вливала гнев в их уши, Подозренья вкореня… [6, с. 103].
Еще одним талантливым поэтом и учителем был Григорий Софроньевич Шутов. В вятской исследовательской литературе Г. Шутов часто связывается с сатирическим направлением, так как он писал басни и эпиграммы. Они стали известны по публикациям А. С. Верещагина. Однако его перу принадлежат оды и хвалебные стихи «высоким» лицам. А. С. Верещагин писал, что в период учительствования Г. Шутова в классе пиитики более всего упражнялись в составлении гратуляций, «то есть в составлении приветствий высшим лицам архиерею, ректору и другим. Такие гратуляции готовились к праздникам Рождества и Пасхи, к именинам архиерея, ректора, а также — по случаю посещения „пар — насса“ (sik! — В.П.) каким-либо важным лицом. Писали их и на латинском и на русском языке, — и надобно заметить, — латинские гратуляции большей частью выходили лучше, чем русские» [6, с. 112].
Г. Шутов написал гратуляцию (поздравление и пожелание счастья) ректору Вятской семинарии Андрею. Эта гратуляция была преподнесена Ермилом Костровым в день Пасхи, поэтому она возвышенна и глубоко пронизана мифологией.
Ифмону в Риме признавали Владычицею всех садов В знак чести храмы созидали, Давали жертвы от цветов.
Тебя мы также поздравляем, Начальник нашего сада, Но в дар привет такой дерзаем Дать вместо храмов и плода:
Не дремлющее Божье око Пусть здравие всегда хранит И счастие твое высоко Как кедр в Ливане возрастит. [13, л. 148].
И хотя Г. Шутов в учебнике ориентировал учеников на классические образцы силлабической поэзии, в своем стихотворном творчестве он был одним из первых, кто применил на Вятке силлабо-тоническое стихосложение. В статье А. С. Верещагин отмечал, что стихотворения Г. Шутова сохранились в большом количестве.
Г. Шутов написал две оды, восхваляющие архиерея Варфоломея, который благосклонно относился к стихам поэта. Эти гратуляции дошли до нас: одна в учебнике, переписанном Пенягиным (20 строф), другая — в сборнике Г. Шутова (16 строф) [6]. Первая ода была преподнесена, как писал А. С. Верещагин, «в дар преосв. Варфоломею во время посещения им школ». Эта ода тоже выдержана в духе классицизма.
Я Господа благодарю, Что своего ума плод первый В руках у пастыря уж зрю:
Он сам худой стих исправляет, А где приятной, похваляет, Как вертоградарь чистит плод… [6, с. 116].
В этой оде поэт выдерживает довольно официальный тон, но в ней Г. Шутов делает намек на то, что его стихи известны «пастырю». Он является для автора своеобразным «редактором»: «худой стих исправляет», а «приятный — похваляет».
Во второй оде традиционно используется восхваление лучших времен, связанных с правлением архиерея. Варфоломей открывает для стихотворца лучшие перспективы своей «десницей».
Сии лета благословенны В бессмертие достойно внесть;
Путь к радости безпреткновенный В них мне открыла ныне честь.
Мое блаженство увенчала Десница, пастырь мой, твоя.
И то желанье окончала, К чему стремилась мысль моя:
Взвела на верх горы Парнасской, Водою окропив Кастальской, Поставила в средину муз. [6, с. 116].
У Г. Шутова такое обращение к Парнасу, Кастальскому ключу — символам поэтического мастерства — использовалось, как и у Тредиаковского, Ломоносовова, Сумарокова и других одописцов той поры. В гратуляции Г. Шутова можно видеть заимствования из Ломоносова, почти дословные, например, из «Оды на день восшествия на престол Елизаветы Петровны, 1747 г.».
Он в Хлыновском поспешно граде Возвысил мудрой дом Палладе, Где сладких муз живет собор, Веселой составляя хор.
Из уст народных пролетает По пастве звучной славы глас, Похвальны песни соплетает, Колеблет громом наш Парнас, Что в пастыре Варфоломее, В незлобивом архиерее, Лаврентий Горка с мертвых встал, Невежство, грубость разогнал, Ученья светом облистал.
Теперь прекрасно расцветает Средина Вятския страны, В ней пастырь кроткий обитает, Отец утех и тишины, Наук полезных всех любитель, Упадших школ возобновитель, Рачитель храмовых красот, Защитник бедных правосудной, Щедрот источник неоскудной, Питатель алчущих сирот.
Те ныне веселятся грады, Которы под его рукой, Являют знак живой отрады Кунгур, наш Хлынов, Слободской… [6, с. 118].
Г. Шутовым используется традиционная одическая конструкция, которая тесно связана с риторическим заданием возвеличить архиепископа. Такая традиция восходит именно к Киево-Могилянской пиитической школе. Ода являлась своего рода неотъемлемой частью ритуального действия: поздравления Варфоломея. Основная тема оды — процветание Вятского края, города Хлынова под эгидой Варфоломея. Однако в ней автор не чужд и личной благодарности за то, что Варфоломей назначил Г. Шутова учителем пиитики.
И ты, моя усердна лира…
Возникни, ободрись, гласи:
Да пастырь Вятский безвозвратно Цветет во здравьи долголетно, Пока не прейдет к небеси [6, с. 119].
Еще одним из талантливых учеников Вятской духовной семинарии был Антон Иванович Попов. В 1766 г. Антон Попов преподнес епископу Варфоломею «Оду великому господину преосвященному Варфоломею епископу Вятскому и Великопермскому на вожделен — нейший день его тезоименитства, которую приносил всеусерднейший и всенижайший раб семинарии его преосвященства ученик Антон Попов, 1766 году месяца июня 11 дня». (24 строфы).
1.
Расторгла радость тьму печали, Объял палящий жар сердца, Отважный дух все восприяли.
Поздравим своего отца, Великого архиерея, Дражайшего Варфоломея. [14, л. 2].
Автор традиционно говорит о том, что на Вятскую землю, в ее храмы Бог послал «новое светило», «в сердцах свет новый воссиял». Этот свет — архиепископ Варфоломей.
4.
Своим прозрачным вышним оком Смотрел на бедность сих людей, Что все в невежестве глубоком Живут до старости своей.
Послал он к ним Варфоломея, Кой пастрыскую власть имел.
Людей тех начал просвещати, Сердца учением благим На то науки насаждати, Чтоб быть учеными грубым (нрзб.).
5.
Науки оны насажденный Везде растут, везде цветут;
Везде плоды уж совершенный На свет обильно издают.
Так что ж, то насаждали руки, Что принесли мнозе плод науки.
Един Варфоломей трудился, Своим старанием насаждал [14, л. 2 об. — 4].
Поэтика одического жанра потребовала от авторов соблюдения некоторых устойчивых жанровых клише, своего рода «общих мест». К типично одическим «общим местам» можно отнести, помимо обращения к восхваляемому и приема гиперболизации, также мотив «возглашения» (ср.: у Г. Шутова «И ты, моя усердна лира. Возникни, ободрись, гласи.»; у А. Попова «взнеси на верх высоко глас.», «сие в себе всяк возглашает.»). Ода как ораторский жанр в обязательном порядке предполагала установку на выразительное произношение, эмоциональное заражение аудитории слушателей.
В целом творчество вятских поэтов XVIII в. заслуживает внимания и серьезного изучения. У вятских поэтов проявилась важнейшая для эстетики русского Просвещения особенность — понимание литературы как фактора нравственного воспитания человека. Отсюда особенности поэтики, интерес к жанру оды, басни и сатиры вообще. Среди произведений вятской поэзии XVIII в. есть произведения, раскрывающие новые грани литературы эпохи Просвещения, духовного облика людей этой поры, многообразие форм и жанровых поисков, поисков в рамках эстетики русского классицизма, что открывает определенные грани его национального своеобразия.
Список использованных источников
вятский поэтика ода пиит.
- 1. Гаспаров М. Л. Ода / М. Л. Гаспаров // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — М.: НПК «Интелвак», 2001. — С. 684−685.
- 2. Серман И. З. Русский классицизм. (Поэзия. Драма. Сатира) / И. З. Серман. — Л.: Наука, 1973. — 284 с.
- 3. Зырянов О. В. Развитие жанра оды в поэзии Урало-Сибирского региона / О. В. Зырянов // Эволюция жанров в литературе Урала XVII-ХХ вв. в контексте общеевропейских процессов. — Екатеринбург: УрО РАН, 2010. — С. 62−84.
- 4. Алексеева Н. Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII—XVIII вв.еках / Н. Ю. Алексеева. — СПб.: Наука, 2005. — 369 с.
- 5. Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века / Г. А. Гуковский // Ранние работы по истории поэзии XVIII века. — М.: Языки русской культуры, 2001. — 352 с.
- 6. Верещагин А. В. [А.С. Верещагин]. Вятские стихотворцы XVIII века / А. В. Верещагин // Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1897 год. — Вятка: б. и., 1896. — Ч. 1. — С. 3−92; Верещагин А. В. [А.С. Верещагин]. Вятские стихотворцы XVIII века / А. В. Верещагин // Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1898 год. — Вятка: б. и., 1897. — Ч. 2. — С. 3−60.
- 7. Лужный Р. Древнепольская традиция в литературе русского Просвещения / Р. Луж — ный // XVIII век. Русская литература XVIII века и ее международные связи. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1975. — Сб. 10. — С. 176−189.
- 8. Государственный архив Кировской области. — Ф. 170. — Оп.1. — Д. 162. — Лл. 4, 9; Государственный архив Кировской области. — Ф. 215. — Оп. 2. — Д. 1.
- 9. Кудрявцева И. М. Археографические поездки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в 1953;1956 годах / И. М. Кудрявцева, Б. А. Шлихтер, Я. Н. Щапов // Археографический ежегодник за 1958 год / под ред. акад. М. Н. Тихомирова. — М.: Наука, 1958. — С. 265−301.
- 10. Lewin P. Rosyjskie przeklady «Gofreda» w wykladach poetyki z XVIII w. / P. Lewin // Sla — via orientalis. — 1969. — № 4. — S. 383−391; Lewin P. Wyklady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII (1722−1774) / P. Lewin. — Wroclaw: Ossolineum, 1972. — 192 s.
- 11. Лужный Р. «Поэтика» Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской академии / Р. Лужный // XVIII век. Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. — М.-Л.: Наука, 1966. — Сб. 7. — С. 57−63.
- 12. Изергина Н. П. Матвей Александрович Ушаков / Н. П. Изергина // Писатели в Вятке. — Киров: Волго-Вятское книжное издательство, 1979. — С. 12−13.
- 13. Государственный архив Кировской области. — Рук. № 100. — Л. 148.
- 14. Государственный архив Кировской области. — Рук № 105. — Л. 2.