«Достоевская» тематика и форма в публицистике А. И. Солженицына
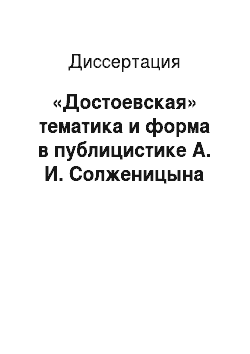
Необходимо подчеркнуть, что «лагерное пространство» Солженицынаэто еще и (уже в унисон с Достоевским) уникальное место обретения человеком утраченных духовных основ. Сам писатель, переживший такое состояние, приходит к Вере, которая способна высветлить душу в лагерном мраке. По утверждению Ж. Нива, «Четвертая часть солженицынской эпопеи (&bdquo-Душа и колючая проволока») — величайшее духовное… Читать ещё >
Содержание
Глава I. Художественно-публицистические произведения Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына: к проблеме жанра -преемственность и новаторство («Зимние заметки о летних впечатлениях», «Дневник писателя», «Записки из мертвого дома», «Бодался телёнок с дубом», «Архипелаг ГУЛАГ»).
Глава II. А. И. Солженицын как продолжатель христианской традиции русской литературы: pro и contra.
Глава III. «Достоевская» проблематика в публицистике А. И. Солженицына.
3.1. Проблема народа и власти в публицистических рассуждениях
Ф.М. Достоевского и А. И. Солженицына.
3.2. Россия и интеллигенция в публицистике Достоевского и
Солженицына.
Глава IV. Философско-публицистические рассуждения А. И. Солженицына конца XX — начала XXI века: традиции и новаторство.
4.1.0 России, ее перспективах.
4.2.0 кризисе гуманизма. История и современность.
4.3. Россия и православие: взгляд из сегодня.
«Достоевская» тематика и форма в публицистике А. И. Солженицына (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Творчество Ф. М. Достоевского (1821−1881) и А. И. Солженицына (род. в 1918) в настоящее время широко изучается как в нашей стране, так и за рубежом.
Монографические исследования, отдельные статьи, докторские и кандидатские диссертации касаются самых различных аспектов их творчества. В исследованиях, посвященных Солженицыну, речь идет, главным образом, о его рассказах, романах, литературном памятнике «Архипелаг ГУЛАГ», художественно-публицистическом произведении «Бодался телёнок с дубом».
На данный момент по творчеству А. Солженицына защищено более десятка диссертаций: Белопольской Е. В. Роман Солженицына «В круге первом»: Дис. канд. филол. наук — Ростов на Д., 1996; Кузьмина В. В. Рассказы Солженицына: Проблемы поэтики: Дис. канд. филол. наук — Тверь, 1997; Лавренова П. П. Проблемы русского национального характера в творчестве Солженицына: Нравственно — философский аспект: Дис. канд. филол. наук — М., 1992; Прокоповой Е. В. Сюжет и характер в художественной прозе Солженицына: на материале романа «В круге первом» и повести «Раковый корпус»: Дис. канд. филол. наук — М., 1998; Шумилина Д. А. Способы воплощения позиции автора в «Архипелаге ГУЛАГе» Солженицына: Дис. канд. филол. наук — М., 1999; Щедриной Н. М. Исторический роман в русской литературе последней трети XX века (пути развития, концепция личности, поэтика): Дис. д-ра филол. наук — М., 1996; Урманова A.B. Поэтика прозы А. И. Солженицына: Дис. д-ра филол. наукМ., 2001; Лукьяновой Л. В. «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни» А. И. Солженицына как художественно-публицистический феномен: Дис. канд. филол. наук — Ростов на Дону, 2002; некоторые другие.
Творчество Достоевского, его феномен изучаются многогранно, в частности, «Дневник писателя» рассматривают как критическую прозу, его место в творчестве писателя в общем и в целом и многое другое. Этой проблеме посвящены диссертации: Захарова В. Н. Система жанров Ф. М. Достоевского: Дис. д-ра филол. наук — Л, 1988; Власкина А. П. Творчество Достоевского и народная религиозная культура: Дис. д-ра филол. наукЕкатеринбург, 1994; Захаровой Т. В. «Дневник писателя» и его место в творчестве Ф. М. Достоевского 1870-х годов: Дис. канд. филол. наук — JI, 1975; Муртузалиевой Е. А. Критическая проза Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя»: Дис. канд. филол. наук — Махачкала, 2001; Ху Сун Вха Вопросы эстетики Ф. М. Достоевского в православном контексте: Дис. канд. филол. наук — СПб., 2001; Габдуллиной В. И. Литературная критика в идейно-художественной системе «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского: Дис. канд. филол. наук — Свердловск, 1987; Владимирцева В. П. Ф. М. Достоевский и русская этнологическая культура: Дис. канд. филол. наукНовгород, 1998; Панфиловой H.A. Экзистенциальные «уроки» Достоевского в русской литературе первой трети XX века: Дис. канд. филол. наукМагнитогорск, 2000; Тарасова Ф. Б. Евангельский текст в художественных произведениях Достоевского: Дис. канд. филол. наук-М., 1998.
Проанализировав диссертации, написанные по творчеству Солженицына, мы пришли к следующему выводу.
Далеко не все из них созданы по специальности — 10.01.01 — русская литература. Есть работы по журналистике, истории, русскому языку. Все это побуждает к выводу, что Солженицын — фигура уникальная, охватившая в своем творчестве многочисленные аспекты — он не только литератор, но и глубокий историк, блестящий лингвист.
С другой стороны, напрашивается мысль о некоем синтезе — личностном и художественном — который неизбежен в веке XX при том многообразии и многосложности информации, нуждающейся в обработке с разных сторон.
Время Достоевского также активно побуждало его не только к сугубо художественному творчеству, но и к публицистическим обобщениям. Назревала настоятельная необходимость высказывать свои мысли прямо, открыто. Поэтому точек соприкосновения у Достоевского и Солженицына немало. Назовем некоторые существенные аспекты, сближающие этих далеких художников слова.
Уже достаточно давно определено, так сказать, некое «центральное духовное ядро» (И. Виноградов), вокруг которого всегда собирается крупная личность: «Духовный центр личности Солженицына, обеспечивающий столь очевидное и мощное единство его жизненной и творческой судьбы, лежит, несомненно, в области его религиозного мирочувствования, миропонимания и самосознания. Это могло оставаться затемненным разве лишь при самом начале солженицынского появления в литературе, когда вчерашний зэк, а затем подпольный и полуподпольный летописец ГУЛАГа опасался раскрыть себя, свой взгляд на мир дольше той черты, которая могла бы помешать ему довести задуманное дело до конца и выкрикнуть свой &bdquo-главный крик». Но сегодня вслед за &bdquo-Иваном Денисовичем" и &bdquo-Матрениным двором" мир прочитал уже и &bdquo-Раковый корпус", и &bdquo-В круге первом", и потрясение &bdquo-Архипелагом" переменило уже, кажется, сам состав нашей души, изменило сам способ нашего видения и чувствования сегодняшней реальности, и лежат уже перед нами все десять томов &bdquo-Красного колеса" (.), и уже соединились со всем этим и дневниковый &bdquo-Теленок", и неохватная солженицынская публицистика, обращенная к нам уже и всей окончательной высловленностью прямого солженицынского исповедания и проповеди. И сегодня констатировать, что Александр Солженицын (.) — художник религиозный, это, несомненно, так, и с этого, несомненно, и следует начинать, коль скоро мы пытаемся найти путь к тому духовному ядру, которое лежит в основе его личности, и его судьбы, и, конечно, его художественного творчества" [77, 645−646].
Безусловно, что «религиозная природа духовного ядра личности и творчества Солженицына и должна указать нам явно тот духовно-культурный ряд, в типологические параметры которого нам прежде всего следует поставить его прозу. А это значит, что Александра Солженицына нужно рассматривать в непосредственном сопоставлении прежде всего с такими писателями, как Достоевский и Толстой (при всей условности христианства последнего)» [Там же].
Итак, миропонимание, идеалы Достоевского и Солженицына во многом схожи, в частности, обоих привлекает Христос. Оба они воспитывались в духе православия и впитали в себя с детства веру в Бога, в то, что русский народ не сможет выжить без неё, преодолеть все трудности. Оба писателя, конечно же, совершенствовались в своей вере и через тяжкие жизненные испытания (оба были на каторге, переболели безверием и сомнениями), через обращение к каким-то другим, чуждым им идеалам, они пришли к пониманию своего истинного предназначения, органичности своего идеала.
Есть и более веские основания их сопоставления.
Достоевский и Солженицын — весьма колоритные фигуры своих эпохвека XIX и века XX. Всегда можно вести речь о той или иной схожести «соседних» двух веков. Кроме того, Достоевский предвосхитил собою «серебряный век» — «калейдоскопичную» эпоху, эпоху брожения в умах и смятения в сердцах. Развязка стала роковой — революция, хаос, апокалипсис (заметим, что об этом как раз и предупреждал Ф. М. Достоевский, в том числе и в своем «великом пятикнижии» и, конечно же, в «Дневнике писателя»).
А. Солженицын тоже словно бы определял свою эпоху, являясь для XX века фигурой органичной, знаковой, всеобъемлющей. Минувшее столетие также нельзя назвать спокойным и согласным: разрушительные войны, эпоха тоталитаризма с устрашающими последствиями, вновь и вновь заставляющими задумываться над вечными вопросами бытия каждое новое поколение. Об этом А. Солженицын говорил как раз в так называемой «Темплтоновской лекции» в 1983 году буквально следующее: «Сегодня мир дошёл до грани, которую если бы нарисовать перед предыдущими векамивсе бы выдохнули в один голос: &bdquo-Апокалипсис!» «[21, Т.1, 341].
Повторимся: в литературоведении прямое сопоставление писателей на материале их творчества не всегда является нужным и продуктивным. Однако в этой связи интересно суждение нашего современника А. И. Солженицына о предшественниках: «К Толстому я ближе по форме повествования, по форме подачи материала, по множеству лиц, реальных обстоятельств. А к Достоевскому я ближе по старанию понять духовную, человеческую сторону процесса истории». [14, Т. З, 335]. Таким образом, сам писатель, чье творчество мы исследуем, в той или иной степени, предоставляет нам право прибегнуть к определенному сопоставлению.
Проанализировав публицистику последнего десятилетия о Солженицыне, можно прийти к выводу, что сопоставительное исследование этих гигантов уже назрело. Когда-то Сергей Залыгин писал: «.иногда я думаю, что рассказанное Достоевским читается нынче как предисловие к Солженицыну. Не мы, читатели, не они сами так рассудили между собой — так рассудила история, наша действительность недавних десятилетий, те события, наступление которых Достоевский и представить себе не мог» [112, 236]. Другой не менее известный литературный критик, А. Немзер, считает, что «как солженицынский полифонический психологизм (восходящий к Достоевскому) сопряжен с его этикой, так солженицынский реализм, если угодно, документализм (писать должно о том, что тобой увидено) сопряжен с его онтологией, представлениями о сущностном устройстве бытия» [179, 5].
В очерках литературной жизни «Бодался телёнок с дубом» Солженицын нередко приводит слова Достоевского, иногда и защищая его (например, когда в «Молодой гвардии» в 1968 году была опубликована статья, где негативные высказывания Достоевского по поводу социализма были изменены в пользу «буржуазного Запада»), Все это свидетельствует о том, что мысли, идеи Достоевского очень близки Солженицыну, они совершенно органично вошли в его сознание, и писатель может своими словами передать ту или иную идею, высказывание великого классика, потому что хорошо знает их суть. Например, Солженицын как бы в доказательство своих мыслей о земле, без которой не может жить человек, тут же приводит цитату Ф. М. Достоевского.
Но, пожалуй, лучшим доказательством взаимосвязи и преемственности этих двух писателей является высказывание нашего современника о своем великом предшественнике. В своем интервью Витторио Страда для «Коррьера Дела Сера» Солженицын так говорит о своем отношении к Достоевскому: «Достоевского я высочайше ценю. Для меня он образец глубокого пророческого проникновения в суть вещей. Он мог по ранним росткам, когда еще никто не замечал явления, уже увидеть во что оно выльется через полвека и век. Это прозорливость, которой никто в русской литературе не являл.» [10, 161]. Такая оценка творчества великого писателя из уст Солженицына весьма интересна, так как современники называют его самого «пророком». В 2005 году многие научные, политические деятели вспомнили о пророчестве Солженицына в связи с пятнадцатилетием с момента выхода в свет его работы «Как нам обустроить Россию?» В ней он предрёк развал Советского Союза, чем вновь вызвал бурю негативных высказываний и эмоций в свой адрес. По словам самого писателя, данная работа прошла не понятой, не принятой в то время. В настоящий момент с позиции прошедшего десятилетия мы можем констатировать тот факт, что писатель во многом оказался прав, причем пророческие мысли прослеживаются не только в его публицистических работах, но и в художественных и, в частности, в литературных воспоминаниях «Бодался телёнок с дубом».
Следует подчеркнуть особо, что Солженицын был убежден в том, что собственное мнение не является полной и окончательной истиной. Интересно, что он не раз высказывался о том, что не любил публицистику, однако всегда при этом подчеркивал ее необходимость. Он признавался, что публицистикой вынужден заниматься поневоле, поскольку этого настоятельно требует время. Писатель повторял, что художественное творчество многомерно, многолинейнотам сконцентрировано множество мыслей, высказанных многими людьми, что способствует наиболее полному отражению сущности бытия. Жанровый полифонизм его произведений убедительно доказывает, что писатель собирал воедино самые разные мнения, точки зрения. Исследователи многократно отмечали особенности солженицынской композиции, которая воссоздает художественную многомерность реального мира.
Достоевского и Солженицына сближают и способы выражения авторского сознания. Общеизвестно, что Достоевский вкладывал свои размышления, сомнения в уста многих персонажей, далеко не всегда «положительных». Нечто похожее, правда с заметным расширением жанровых параметров, мы наблюдаем у писателя XX столетия. Есть основания говорить о некой деконструкции образа автора в таких его гигантских произведениях, как «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное колесо» и других.
С другой стороны, следует признать некую парадоксальную мысль, что Солженицын — во многих своих высказываниях «максималистски» категоричен, прямолинеен, безапелляционен. Отчасти черты таких настроений заметны на некоторых страницах «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского, однако у Солженицына это проявляется более ярко и является его имманентной особенностью. Яркая категоричность суждений побудила его к существенному варьированию традиционных жанров, бытующих как в художественном творчестве, так и в публицистике.
Талант Солженицына многогранен, однако при этом следует заметить, что его художественное творчество нередко обнаруживает публицистические черты. Так, в романе «В круге первом», к примеру, заметно некоторое ослабление сюжетно-фабульного аспекта в пользу многочисленных рассуждений, монологов, разговоров, споров различных действующих лиц. С другой стороны, его знаменитые рассказы — «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Пасхальный крестный ход» при всех их несомненных художественных достоинствах в некотором отношении тяготеют к очерковости. Точка зрения автора просматривается здесь вполне откровенно и однозначно. Мир, как и в большинстве солженицынских произведений, четко делится на «своих» и «чужих».
Актуальные вопросы бытия, смысла жизни решаются Солженицыным, как и Достоевским, в соответствии с христианским миропониманием. Этим, кстати, писатель XX столетия резко отличается от многих своих современников и тяготеет более к предыдущему столетию, где у него находится гораздо больше единомышленников, чем среди современников.
Одной из самых главных особенностей мировидения Солженицына (что, кстати, роднит его с Гоголем, Достоевским, Тютчевым, Ильиным), является то, что человека он рассматривает как синтез духовного и материального. Именно поэтому он не принимает коренной социальной ломки, а является убежденным в том, что начинать необходимо с внутреннего обновления человека, совершенствования его духа. Формирование веры — основы нравственного чувства, святости семейных отношений, чувства личностного и национального достоинства — все эти критерии существенно девальвированы в XX столетии и попадают во многом в сферу неких идеальных отношений, нежели являются отражением реальной действительности.
Что касается изучения творчества Солженицына, то вопрос, рассматриваемый нами в данной работе, привлекал внимание некоторых критиков и литературоведов, но эпизодично. В частности, написан ряд статей весьма уважаемыми людьми — Л. Сараскиной, Ю. Сохряковым, В. Захаровым, речь в которых идет о некоторых аспектах сближения Солженицына с Достоевским. Серия работ, посвященная этим вопросам, сама постановка подобной проблемы свидетельствует об ее актуальности и назревшей необходимости ее подробного рассмотрения.
В исследованиях упомянутых ученых, в частности, говорится о современности многих проблем, повторно поставленных Солженицыным вслед за Достоевским — об интеллигенции, о ее роли в истории России, о том, прав или не прав Солженицын, высказывая свои соображения на страницах работы «Как нам обустроить Россию?», о роли православия в современной России и мире в целом, о сущности культуры, о роли научно-технического прогресса и так далее.
Единичные, эпизодические исследования по данному вопросу носят серьезный, глубокий, но далеко не системный характер. На сегодняшний день не существует труда, в котором различные аспекты сближения двух авторов были бы разноаспектно изучены и обобщены. Между тем проблемы, порожденные днем сегодняшним, позволяют глубже понять те эстетические и социально-философские грани сближения, которые имеют место.
Актуальность целостного рассмотрения публицистики А. И. Солженицына в русле обозначенной проблемы, отражающей аксиологический, философско-концептуальный и жанрово-эстетический параметры в аспекте традиций и новаторства, определяется, прежде всего, связью с приоритетными направлениями современной науки о литературе, в той ее части, которая занимается изучением особенностей литературного процесса конца XIX и рубежа XX — XXI веков. Анализ публицистики Солженицына в сопоставлении с его великим предшественником, а также с привлечением художественных произведений одного и другого писателя позволяет определить контуры сходства и различия их философско-поэтической и культурно-аксиологической парадигм, выявить связь с рассказами и романами, установить эстетическую доминанту художественного мира нашего современника.
Объектом исследования являются публицистические произведения Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына.
Материалом послужили «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Дневник писателя», «Архипелаг ГУЛАГ», «Образованщина», «Жить не по лжи!», «Как нам обустроить Россию?», «Раскаяние и самоограничение», «Нобелевская лекция», «Наши плюралисты», «Перерождение гуманизма», «Исчерпание культуры?», а также ряд статей и интервью с 2000 по 2005 год. К работе также привлечен ряд художественных произведений Достоевского и Солженицына — «великое пятикнижие», роман «В круге первом», рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Пасхальный крестный ход», а также произведения, которые принято воспринимать на стыке художественности и публицистичности -«Записки из мертвого дома» и «Бодался телёнок с дубом».
Предмет исследования — философско-поэтический и аксиологический аспекты и жанровая структура публицистических произведений Солженицына в традиционном и новаторском понимании.
Целью диссертации является осмысление «Достоевской» тематики и формальных признаков в публицистических произведениях А. И. Солженицына разных лет с осознанием ее философско-поэтической и аксиологической парадигм, а также трансформации указанных параметров под воздействием как объективных, так и субъективных причин.
Задачи диссертации связаны с воплощением ее основной цели:
1. Выявить идейно-художественные связи публицистики Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына, привлекая для анализа художественное творчество того и другого.
2. Установить сходство и различие мировоззренческого, поэтико-философского, других аспектов двух писателей разных эпох.
3. Выявить типологическое изменение указанных параметров на художественно-философском и формальном уровнях.
4. Рассмотреть публицистическое творчество Солженицына последних лет и проанализировать его художественно-философскую и аксиологическую наполненность.
Методология исследования сочетает структурно-поэтический, историко-литературный методы изучения литературы, а также рассмотрение произведений в рамках культурно-аксиологической парадигмы.
Теоретико-методологической базой диссертации стали работы ученых, философов и литературоведов разных лет — С. С. Аверинцева, В. В Агеносова, М. М. Бахтина, H.A. Бердяева, С. Булгакова, Б. П. Вышеславцева, И. И. Виноградова, И. А. Есаулова, М. М. Дунаева, И. П. Золотусского, В. Н. Захарова, И. А. Ильина, Ю. М. Лотмана, М. Н. Липовецкого, Д. С. Лихачева, К. Мочульского, Л. Сараскиной, Ю. Сохрякова, В. Тюпы, Г. Федотова, П. Флоренского, других.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в рамках специального рассмотрения представлен сопоставительный анализ публицистических и художественных текстов Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына с выявлением их идейно-тематических и формальных пересечений на основе принципа не «усовершенствования и улучшения», а «существования и взаимодействия» (М. Бахтин). Публицистическое и (фрагментарно) и художественное наследие разных лет одного и другого писателя рассматривается в работе как два «единых текста», что позволяет выявить как ряд специфических закономерностей, так и некоторые очевидные различия в мироощущении Достоевского и Солженицына.
С научной новизной связана и рабочая гипотеза, согласно которой выявляются некоторые аспекты отступления А. И. Солженицына от православно-христианского вектора традиций русской классики, во многом заложенных Ф. М. Достоевским. Позиция Солженицына скорректирована как объективными реалиями XX столетия, так и личными пристрастиями и логикой его индивидуального становления и развития.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. А. И. Солженицын, вслед за Ф. М. Достоевским, развивает традицию об особом статусе русского писателя, ответственного за судьбу своей страны и всего человечества.
2. «Достоевская» тема каторги трансформируется у Солженицына в свою полную противоположность: «Каторга — „институт“ необходимого очистительного страдания на пути грешника к раскаянию» (Достоевский) — «Каторга — один из общественных механизмов „наказания невиновных“ на пути построения грядущего земного рая» (Солженицын). Трансформация темы побуждает автора XX века к варьированию формы. «Записки из мертвого дома» — роман, тяготеющий к публицистичности- «Архипелаг ГУЛАГ» -полифоническое жанровое образование с «прямым авторским голосом» разоблачителя с заметным ослаблением художественности. «Бодался телёнок с дубом» обнаруживает в своей основе черты традиционного в русской словесности жанра дневника.
3. Достоевский и Солженицын — писатели, продолжающие в русской словесности христианскую традицию. Апокалиптические предвидения писателя XIX столетия побудили к выступлению Солженицына в роли беспощадного разоблачителя антихристианского, античеловечного режима в веке XX. Неизбежная трансформация позиций Солженицына — христианина обнаружила в его публицистике и художественной прозе ряд черт, уводящих его от постулатов православной традиции, развиваемой писателями XIX века.
4. Философско-поэтические размышления Достоевского о природе добра и зла, места и роли интеллигенции в историческом процессе, о природе национального начала, о сущности свободы, о пагубности безрелигиозного сознания, о кризисе гуманизма, о взаимодействии России и Запада обнаружили вариативное воплощение в публицистическом творчестве Солженицына разных лет.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что работа способствует более глубокому пониманию теоретических аспектов жанровой диффузии, происходящей в русской литературе в середине XIX и в XX веке и в ее отрасли — художественной публицистикепомогает выявлению характерных признаков типологических разновидностей некоторых жанров.
Практическая значимость диссертации связана с возможностью использования ее результатов в курсах лекций по истории русской литературы XIX и XX веков, при чтении спецкурсов по проблемам современной литературы и журналистики.
В ходе апробации исследования научные результаты диссертации многократно обсуждались на заседаниях кафедры русской филологии Тамбовского государственного технического университета. Часть материалов послужила основой доклада на Второй Всероссийской научной конференции в г. Липецке в 2003 году, на V Всероссийских чтениях «Оптина пустынь и русская культура», посвященных братьям Киреевским (Калуга, 2004), на Международной научной конференции в Волгограде в 2006 году. Материалы исследования также неоднократно обсуждались в рамках спецсеминара по истории русской литературы на 4 курсе дневного отделения института филологии ТГУ им. Г. Р. Державина.
Основные положения диссертации изложены в 8 публикациях.
Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Приложен список использованной литературы, включающий 264 наименования.
Заключение
.
На основании проведенного исследования необходимо сделать следующие выводы.
Достоевский и Солженицын — писатели, появление которых в литературе и истории, было явлением закономерным и знаковым. И тот, и другой, помимо писательского дара, обнаружили еще очень яркие общественные пристрастияоба как бы «вели и ведут» своих соотечественников по духовно-нравственному пути, открывали те истины, без которых нет предпосылок для преображения как человека, так и человеческой жизни в целом.
Предъявляя большие требования к человеку, они напоминали своим поколениям и потомкам, что каждый индивид является хозяином собственной судьбы, и нет в мире иного пути улучшения, усовершенствования жизни и бытия в целом, кроме постоянного улучшения, усовершенствования своей собственной натуры.
Решению поставленных перед собою глобальных общественно-политических и духовно-нравственных задач способствовало не только художественное творчество, но и публицистика. Именно она открыто объясняла те неизбежные недосказанности, которые являются основой литературы художественной.
Эпохи Достоевского и Солженицына рождали свои специфические, новые разновидности жанров, сочетающих в себе как художественное, так и публицистическое начало. Писатель XX века довел до совершенства те публицистические находки, которые обнаружил Достоевский, сочетая в своих произведениях черты очерковости, дневника, путешествий, летописи, проповедей, фельетона.
Основой публицистических произведений как Достоевского, так и Солженицына, следует признать, на наш взгляд, жанр дневника. Его основы в сочетании с другими жанровыми разновидностями создавали и у одного, и у другого черты своеобразной днеениковости — вольной, творческой интерпретации указанного жанра: элементы мемуаристики, эпистолярия, летописности, жития и так далее.
Если вести речь о таких произведениях А. И. Солженицына, как «Архипелаг ГУЛАГ» и «Бодался телёнок с дубом», то здесь, помимо элементов художественных жанров, о которых говорили многие, можно обнаружить синтез следующих характерных особенностей: показ текущих, повседневных событий, подача исторических подробностей с максимальной точностью и убедительностью, художественной выразительностью и внешней бесстратностью, сменяющейся гневным, обличительным пафосом, «энциклопедические» подробности бытовых характеристик, тенденция к умелому обобщению мгновенных впечатлений, включение лирического начала в публицистические откровения.
В солженицынских произведениях наблюдается трансформация «достоевской» темы «несвободы». Ситуация «несвободы» в тоталитарном государстве исследуется Солженицыным уже не на индивидуально-личностном уровне, а на уровне глобально-общественном, выходящем даже за пределы России. Каторга Достоевского как «институт» духовного перерождения индивида превращается у Солженицына в бесчеловечный инструмент перековки личностей в покорных особей — строителей «светлого будущего». «Преступник» Солженицына — уже не преступник с точки зрения общественного законажертва и палач поменялись местами: «После ареста гражданин тоталитарного государства претерпевает тюремное заточение и, наконец, становится представителем &bdquo-нации зэков» «[182, 210]. „&bdquo-Архипелаг.“ Солженицына — попытка исчерпывающего описания этой нации. Машина карательных органов стремится превратить человека в субстанцию, которой можно придать любую форму — в мясо (не случайно на тюремном фургоне, появляющемся на последней странице романа &bdquo-В круге первом», можно прочесть надпись на нескольких языках: &bdquo-Мясо. Viande. Fleisch. Meat"). Солженицын создает и географический расцвет ГУЛАГа. Писатель действует подобно антропологу, изучающему неисследованную или погибшую цивилизацию. Ибо история ГУЛАГа — история великого утаивания, диссимиляции. Метафора Архипелага пронизывает произведение от первой до последней страницы, от розовоперстой Эос, богини утренней зари, до бесконечных эшелонов, путей, перекрестков, пунктов назначения и отбытия этой цивилизации рабства" [Там же].
Необходимо подчеркнуть, что «лагерное пространство» Солженицынаэто еще и (уже в унисон с Достоевским) уникальное место обретения человеком утраченных духовных основ. Сам писатель, переживший такое состояние, приходит к Вере, которая способна высветлить душу в лагерном мраке. По утверждению Ж. Нива, «Четвертая часть солженицынской эпопеи (&bdquo-Душа и колючая проволока») — величайшее духовное сочинение нашего века: здесь поиск Бога начат с нуля, с той точки, откуда некогда начинал Авраам. Солженицын начинает с нуля и открывает в человеке красную нить веры. Все великие религиозные реформаторы стремились изгнать бесов, восстановить ответственность человека за себя. &bdquo-На гнилой тюремной соломе я впервые ощутил, как во мне шевельнулось Благо" «[182, 79−80]. Далее Жорж Нива приводит беседу Ивана Денисовича и Алешки из «Одного дня Ивана Денисовича». Алешка объясняет ему, что молитва — непростое действо, и должна она идти от сердца, к тому же не всякая просьба соизмерима с молитвой: «Сколько ни молись, а сроку не скинут», -рассуждал Иван Денисович. Алешка с ужасом ему возразил, что об этом не надо молиться: «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать! Апостол Павел вот как говорил: «Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса!» Жорж Нива резюмирует: «С помощью скромного посредникабаптиста Алешки — советская литература попыталась озарить светом первоначального христианства время испытаний. «Мир», в котором другой Алеша мечтал исполнить наставления своего старца, — этот мир лагерного барака, микрокосм ГУЛАГа» [182, 80].
Возможно, что Нива прав, когда утверждает, что это первые подобные размышления в советской литературе, однако, необходимо заметить, что для русской классической литературы в целом такие мысли отнюдь не новы. Достоевский — это понятнокаторга, несущая состояние «внешней» несвободы, удобное место обретения Божьей благодати — духовного очищения. Но такие примеры имеются и у Л. Н. Толстого, если вспомнить, например, сюжетную линию, связанную с Пьером Безуховым: «Прежде он искал Его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Богаи вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уже говорил нянюшка: что Бог вот Он, тут, везде. Он в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной» [5, Т.30, 18−19]. Другими словами, состояние неволитрадиционное место для духовного прозрения героев русской классики, и советская литература (мы это видим на примере Солженицына) в данном случае продолжает подобные традиции.
Все произведения Солженицына — художественные и публицистическиесвязаны между собой единой темой и контурами единого сюжета, сводимого к общему, глобальному вопросу — «Как нам обустроить Россию?» Общее единство подчеркивает нераздельная целостная система писателей XIX и XX веков.
В отличие от Достоевского, Солженицын выносит беспощадный, гневный приговор государственному режиму, причем когда этот режим перестает существовать, писатель отнюдь не изменяет свой привычный пафос и не меняет свою авторскую — «публицистическую» функцию: роль бескомпромиссного судьи и отрицателя всех и вся. Как и все русские писатели, он ищет некую «положительность» в характерах и находит их, как в свое время Достоевский, в «маленьких», незаметных, обыкновенных людях. С другой стороны, нельзя не заметить, что в этом смысле у Солженицына просматривается некий вакуум, ибо реально ни Матрена, ни Иван Денисович не способны стать нравственным ориентиром для «больного» общества. Обращается внимание на то, что Солженицын не пытается отыскать праведника, как Достоевский, среди духовных лиц. Его Матрена чем-то напоминает Достоевского Марея. Можно обнаружить схожие структуры, если сравнить «Дневник писателя» с его вставными новеллами «Бобок», «Мужик Марей» и публицистическое «образование» А. И. Солженицына, склонное к дневниковости, с его рассказами, похожими своей различностью по «противоположному» содержанию и тенденции к очерковости — «Матрениным двором», «Пасхальным крестным ходом», другими.
По своим духовным представлениям А. И. Солженицын был близок писателям и философам XIX и XX веков: Ф. М. Достоевскому, Ф. И. Тютчеву, И. А. Ильину. Как и они, Солженицын был абсолютно убежден в «целостности» мироздания, в его Божественном происхождении. Однако, взращенный иным веком, иной эпохой, он, разумеется, не мог не впитать иных противоречий, иных сложностей, чем те, которые были рождены веком XX. Век всеобщего кризиса, по словам Солженицына, был по всем параметрам «проигран» Россией. Российское бытие XX столетия в публицистических исследованиях подвергается писателем жесточайшей и беспощадной критике. Общая тенденция к обличению, проявляющаяся как на языковом, так и на иных уровняхдаже в высокохудожественных произведениях заметны черты очерковости, публицистичности в первую очередь за счет острокритического пафоса, авторского голоса, отличающегося своей беспощадностью и воинственностью.
Одной из основных центральных тем, берущих свое начало из творчества Достоевского, являются размышления о России, ее месте в мировом пространстве. Эта тема перекликается с другими — подчиненными, но не менее важными — о роли интеллигенции в жизни общества («образованщины»), о законе и благодати, о народе и власти как в условиях тоталитарного общества, так и в рамках постсоветского пространства и так далее. В соответствии с реалиями XX и XXI столетий Солженицын неизбежно во многих моментах вынужден отступать от Достоевского, однако в основном и целом его рассуждения вполне традиционны и ведутся в унисон с его великим предшественником. Писатель в самом главном является верен себе на протяжении всего своего трагического и великого жизненного путион всегда жил и живет «не по лжи».
Список литературы
- Блок, A.A. Стихия и культура / A.A. Блок // Поли. собр. соч.: В 20-ти томах. -М., 1999.
- Гоголь, Н.В. Собрание сочинений / Н. В. Гоголь: В 4-х т. М.: Библиосфера, 1999.
- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф. М. Достоевский: В 30-ти т.-Л.: Наука, 1972- 1984.
- Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений в 20-ти т. М.: Терра, 1998.
- Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой: В 30-ти т. М., 1951.
- Солженицын, А. И Избранное: проза, лит. критика, публицистика / А. И. Солженицын. М., 2004.
- Солженицын, А.И. Собрание сочинений: В 8-ми томах. М.: Центр, «Новый мир», 1990.
- Солженицын, А.И. Малое собр. соч. / А. И. Солженицын // М., 1991.
- Солженицын, А.И. Бодался телёнок с дубом / А. И. Солженицын. Новый мир, 1991.
- Солженицын, А.И. Исторически и мировосприятно православие для нас на первом месте// Москва.-М., 1995.-№ 9.-С. 157−161.
- Солженицын, А.И. Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного исследования 1918 1956. М.: Советский писатель, Новый мир, 1989.
- Солженицын, А.И. К нынешнему состоянию России. Ст., написанная для газеты «Монд» // Русская мысль. Париж, 1996. — 5/11 дек. № 4152. — С. 8−9.
- Солженицын, А.И. На возврате дыхания и сознания / А. И. Солженицын // Собр. соч. в 9-ти т. Т.7 — М., 2001
- Солженицын, А.И. Публицистика: В 3-х томах. Ярославль, 1995.
- Солженицын, А.И. Россия в обвале / А. И. Солженицын. М., 1998.
- Солженицын, А.И. Самое драгоценное. Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета 8 июня 1978 г. // Слово. 1990. — № 4. — С. 28 -29.
- Солженицын, А. И В круге первом: Роман / А. И. Солженицын. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006.
- Солженицын, А.И. Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни // Звезда. 1994. — № 6
- Солженицын, А.И. Рассказы. Из серии: Мировая классика / А. И. Солженицын. М., 2002.
- Солженицын, А.И. Наши плюралисты // Новый мир. 1992. -№ 4.
- Солженицын, А.И. Темплтоновская лекция / А. И. Солженицын // Публицистика.-Т. 1 Ярославль, 1995.
- Солженицын, А.И. Интервью с Петером Холенштейном. Декабрь 2003 // Там же. С. 48 — 56.
- Солженицын, А.И. Интервью с Рудольфом Аугштайном для ж. «Шпигель» // А. И. Солженицын // Публицистика. Т. З — Ярославль, 1995.
- Солженицын, А.И. Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения // А. И. Солженицын // Собр. соч. в 9-ти т. Т.7 — М., 2001.
- Солженицын, А.И. Как нам обустроить Россию? / А. И. Солженицын // Избранное: проза, лит. критика, публицистика М., 2004.1.
- Аверинцев, С.С. Византия и Русь: два типа духовности С. С. Аверинцев // Новый мир, 1989. № 9.
- Аверинцев, С.С. Крещение Руси и пути русской культуры / С. С. Аверинцев // Контекст 90. — М., 1990.
- Аверинцев, С.С. Мы и забыли, что такие люди бывают // Общая газета. -М&bdquo- 1998.- 10/16 дек. -№ 49.-С. 8.
- Авсеенко, Н. Женские образы в романе Солженицына «В круге первом» // Современник. Торонто. 1979. — № 43−44, — С. 89−96.
- Агеносов, В.В. Советский философский роман / В. В. Агеносов. М.: Прометей, 1989.-300с.
- Андреев, Д. Роза мира. М.: Мир Урании. 1999. — 608 с.
- Архангельский, А. Н. О символе бедном замолвите слово: «Малая» проза Солженицына: Поэзия и правда. Лит. обозрение. — М., 1990. -№ 9. — С. 20 -24.
- Архангельский, А. «Поэзия и правда» в малой прозе Солженицына / А. Архангельский // У парадного подъезда. М., 1991.
- Архиепископ Никон (Рождественский). «Козни врагов наших сокруши.»: Дневники / Архиепископ Никон. Минск: ЗАО «Православная инициатива», 2004. — 1166 с.
- Архимандрит Константин (Зайцев) Чудо русской истории. М., 2000.
- Астафьев, В.П. Не надо опять отбирать и делить. Царя бы выбрать культурного / Беседа с В. Г. Бондаренко. Общая газ. — М., 1996. — 18/24 января. — С. 11.
- Астафьев, В.П. Солженицын. Дорога домой. Виктор Астафьев размышляет о судьбе писателя, чьи книги вернулись на Родину / беседу вел Е. Черных // Коме, правда. М., 1989. — 25 окт. — С. 4.
- Ажгихина, Н. Уроки «третьей волны» / Н. Ажгихина // Общественные науки и современность. 1992. — № 3. — С.З.
- Басинский, П.В. Сюжеты без романа? // Лит. газета. М., 1996. — 31 июля. -№ 31.- С. 4.
- Баталин, А. «Я возвращаюсь в Россию, которая меня не читала.»: Александр Солженицын в Иркутской области // Там же. 1994. — 22 июня. -№ 25.-С.З.
- Белль Г. Четыре статьи о Солженицыне // Иностранная лит. М., 1989. -№ 8.-С. 228−237.
- Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. М.: Советская Россия, 1979. — 320 с.
- Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин.: Искусство, 1979.-423 с.
- Бахтин, М.М. Эпос и роман / М. М. Бахтин. СПб.: Азбука. 2000. — 301 с.
- Белая, Г. А. Художественный мир современной прозы / Г. А. Белая. М.: Наука, 1983.
- Белопольская, Е.В. Роман Солженицына «В круге первом»: Дис.. канд. филол. наук / Е. В. Белопольская. Ростов на Д. — 1996.
- Бердяев, H.A. Алексей Степанович Хомяков / H.A. Бердяев // Сочинения. -Т. 5.
- Бердяев, H.A. Великий инквизитор / H.A. Бердяев // О великом инквизиторе: Достоевский и последующие. -М., 1992.
- Бердяев, H.A. Судьба России / H.A. Бердяев. М.: Советский писетель, 1990.-346 с.
- Бердяев, H.A. Самопознание / H.A. Бердяев. М.: ДЭМ, 1990. — 334 с.
- Бердяев, H.A. Русская идея. Основные проблемы Русской мысли XIX и начала XX века / H.A. Бердяев // О России и русской философской культуре. -М., 1990.
- Берестов, В. «И опять я в мыслях полагаюсь на слова людей.» / В. Берестов // Новый мир. 1988. — № 2. — С. 246−250.
- Бернштам, М.С. Проклятый вопрос о цене идей//Дружба народов. М., 1992.-№ 4.- С. 167- 185.
- Битов, А. Давид победивший Голиафа // Лит. газета, 1998. 9 дек. — С. 10.
- Болохов, В. Крестный. Звезда. — 1994. — № 6.
- Бондаренко, В. Стержневая словесность (Проза Солженицына) // В. Бондаренко // Взгляд: Сб. Критика. Полемика. Публикации. Вып. № 3. М., 1991.
- Бродский, И. География зла / И. Бродский. Лит. обозрение. — 1990. -№ 1.
- Борисова, В.В. Национальное и религиозное в творчестве Достоевского / В. В. Борисова. Екатеринбург, 1997.
- Булгаков, С.Н. Православие: Очерки учения Православной Церкви / С. Н. Булгаков. М., 1991.
- Булгаков, С.Н. Героизм и подвижничество // С. Н. Булгаков // Вехи из глубины. -М., 1991.
- Бычков, В.В. Философия искусства П. Флоренского // Павел Флоренский // Избранные труды по искусству. М. — Искусство, 1996. — С. 285 — 333.
- Бычков, С. Пушкин глазами православного священника / Васильев, Б.А. // Духовный путь Пушкина. М., 1994.
- Вестник РХД. Париж — Москва. — 1996. — Вып. 173. — С. 235.
- Вишневская, Г. Солженицын и Ростропович / Г. Вишневская. Юность. -1989. -№ 6,7
- Винокур, Т.Г. С новым годом, шестьдесят вторым. // Вопр. лит. М., 1991.-№ 11/12.-С. 48−69.
- Виноградов, В.В. О теории художественной речи / В. В. Виноградов. М., 1971.
- Владимов, Г. Н. Режущая соринка в глазу // Моск. новости. М., 1994. — 512 июня.-№ 23.-С. 1−5.
- Владимирцев, В.П. Ф.М. Достоевский и русская этнологическая культура: Дис. канд. филол. наук / В. П. Владимирцев. Новгород, 1998.
- Власкин, А.П. Творчество Достоевского и народная религиозная культура.: Дис. д-ра филол. наук / А. П. Власкин. Екатеринбург, 1994.
- Волгин, И.Л. Возвращение билета: Александр Солженицын как плюралист // Лит. газ., М., 1995. 13 дек. — № 50 — С. 6.
- Волгин, И.Л. Достоевский журналист / И. Л. Волгин. — М., 1982.
- Волкова, Г. М. Маскарад зла и катарсис авторского голоса: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына в свете идей М. Бахтина // Бахтин и гуманитарное мышление на пороге XXI века: тезисы докладов III Бахтинских чтений: В 2-х частях. Саранск, 1995.-Ч. 2.-С. 18 — 21.
- Воропаев, В.А. Духом схимник сокрушенный. Жизнь и творчество Н. В. Гоголя в свете Православия / В. А. Воропаев. М., 1994.
- Вышеславцев, Б.П. Этика преображенного эроса / Б. П. Вышеславцев. -М.: Республика, 1994.
- Гачев, Г. Д. Жизнь художественного сознания / Г. Д. Гачев. М.: Искусство, 1972. — 200 с.
- Газизова, A.A. Конфликт временного и вечного в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Лит. в школе. М., 1997. -№ 4. — С. 72−79.
- Галкин, А.Б. Образ Христа в творческом сознании Ф.М. Достоевского / А. Б. Галкин.-М., 1992.
- Гегель, Г. В. Ф. Жизнь Иисуса / Г. В. Ф. Гегель // Философия религии: В 2 т.-М., 1975.
- Глюксман, А. Хайдеггер и Солженицын / А. Глюксман. Континент. -Мюнхен, 1988. — № 57. — С. 223−224.
- Горбунов, А. П. Поэтика публицистического текста / А. П. Горбунов. М., 1978.-64 с.
- Гришина, Я.З. Гришин, В.Ю. Дневник как форма самопознания художника / Я. З Гришина, В. Ю. Гришин // Человек. М., 1995. — Вып. 5. — С. 162- 167.
- Грязневич В. Пророк, чудак, интеллигент: о А. Солженицыне / В. Грязневич. Звезда. -1994. — № 6
- Гулыга, A.B. Русский философский ренессанс и творческая судьба Владимира Соловьева / B.C. Соловьев // Сочинения. С. 5−12.
- Ф.М. Достоевский и Православие / Ф. М. Достоевский. М., 1997.
- Ф.М. Достоевский об искусстве / Ф. М. Достоевский. М., 1973.
- Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. Т.З.-М., 1956.
- Елисеев, Н. «Август Четырнадцатого» А. Солженицына сквозь разные стекла / Н. Елисеев. Звезда. — 1994. — № 6.
- Егоров, О.Г. Дневники русский писателей XIX века. Исследование / О. Г. Егоров. -М.: Флинта, Наука. 2002.
- Есаулов, И.А. Человек вещь и христианское сознание / И. А. Есаулов. -Грани.-Fr/M., 1994.-№ 171.
- Залыгин, С. Год Солженицына / С. Залыгин. Новый мир. — 1990. — № 1
- Заярная, И.С. К вопросу о христианской традиции в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицына / И. С. Заярная. Православие и культура. — Киев, 1993.-№ 2.
- Захарова, T.B. «Дневник писателя» и его место в творчестве Ф.М. Достоевского 1870 х годов: Дис.. канд. филол. наук / Т. В. Захарова. — JI, 1975.
- Захаров, В.Н. Система жанров Достоевского: Типология и поэтика. -1985.
- Захаров, В.Н. Система жанров Ф.М. Достоевского: Дис.. д-ра филол. наук / В. Н. Захаров. Л, 1998.
- Захаров, В.Н. О христианском значении основной идеи Достоевского / В. Н. Захаров // Ф. М. Достоевский в конце XX века. М., 1996.
- Захаров, В.Н. О глубинных совпадениях Солженицына и Достоевского /
- Золотусский, И. П. На лестнице Раскольникова / И. Золотусский // Эссе последних лет. М.: Фортуна Лимитед, 2000.
- Золотусский, И.П. Красота истины / И. П. Золотусский. Там же.
- Иеромонах Серафим (Роуз): Православный взгляд на эволюцию. СПб., 1997.-96 с.
- Известия. 11 дек. 2003. — № 228 (26 545). — СЛ.
- Ильин, И.А. Наши задачи / И. А. Ильин. М., 1992.
- Ильин, И.А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. М.: Искусство, 1993.-348 с.
- Ильин, И.А. Собр. соч.: В 10 т. М, 1993.
- Кирпотин, В.Я. Достоевский в шестидесятые годы / В. Я. Кирпотин. -М., 1966.
- Коган, Э. Соляной столп: Политическая психология А. Солженицына. -Париж, Поиски, 1982. 228 с.
- Константинов, Д. Духовные основы «Августа Четырнадцатого» / Д. Константинов. Новое рус. слово. — Нью-Йорк, 1971.-31 окт. № 22 419. — С.2
- Кондратович, А.И. Новомирский дневник (1967−1970). М.: Советский писатель, 1991.
- Кондратович, А.И. Новомирский дневник (1967−1970) / А. И. Кондратович. М.: Советский писатель, 1991.
- Кузьмин, В.В. Рассказы Солженицына: Проблемы поэтики: Дис. канд. филол. наук / В. В. Кузьмин. Тверь, 1997.
- Копелев, Л. Марфинская шарашка из воспоминаний. / Л. Копелев. -Вопросы лит. 1990. — № 7.
- Кормилов С. «Мы забыли, что такие люди бывают». Ахматова и Солженицын / Кормилов. С. Лит. обозрение. — 1999, — № 138.
- Курбатов В. Пока мы не ответим о романе А. Солженицына «Красное колесо». / В. Курбатов. Москва. — 1993. — № 5.
- Кремлевский самосуд: Секретные документы политбюро о писателе Солженицыне. М., Родина, 1994.
- Криницын, А. Б. Исповедь подпольного человека: К антропологии Ф. М. Достоевского. М.: МАКС Пресс, 2001.
- Лавров, В. Лицо Солженицын А.И., о нем. / В. Лавров. Нева. — 1993. — № 12.
- Лакшин, В.Я. Булгаков и Солженицын. Иван Денисович, его друзья и недруги и др. / В. Я. Лакшин. Берега культуры: Сб. ст./ Сост. С. Н. Лакшина. -М., 1994.
- Латынина, А. Крушение идеократии. От «Одного дня Ивана Денисовича» к «Архипелагу ГУЛАГ» // Лит. обозрение. 1990. — № 4.
- Латынина, А. Кто с Солженицыным? А. Латынина// Взгляд: Сб. Критика. Полемика. Публикации. Вып. 3. М., 1991.
- Латынина, А. Солженицын и мы / А. Латынина. Новый мир. — 1990. — № 1.
- Лифшиц, М. О повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича" — О рукописи А. И. Солженицына „В круге первом“ / Публ. Л. Я. Рейнгардт // Вопросы лит. 1990. — № 7.
- Лосев, Л. Поэзия и правда у Солженицына /Л. Лосев // Лит. обозрение. -1999.- № 1.
- Лурье, Я.С. А. Солженицын эволюция его исторических взглядов /Я. С. Лурье. — Звезда. — 1994. — № 6.
- Лавренов, П.П. Проблемы русского национального характера в творчестве Солженицына (нравственно-национальный аспект: Дис.. канд. филол. наук / П. П. Лавренов. М., 1992.
- Лихачев, Д.С. Проблема мира и добра. / Д. С. Лихачев. Лит. обозрение. — 1997. — № 5. — С. 3 — 7.
- Лопухина Родзянко, Т. А. Духовные основы творчества Солженицына. -М., Посев, 1974.
- Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Бытие имя — космос. — М., 1993.
- Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров (Человек текст — семиосфера -история) / Ю. М. Лотман. — М.: Прогресс, 1996.
- Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман, М.: Искусство, 1970. — 384 с.
- Лотман, Ю.М. Миф имя — культура / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Ученые записки Тартуского университета. — Тарту: Изд-во Тартуского университета, 1973. — Вып. 308. — С. 282 — 303.
- Лотман, Ю.М. История и типология культуры / Ю. М. Лотман. СПб.: Искусство, 2002 — 765 с.
- Максимов, В.Е. На круги своя. / Владимир Максимов // „Еженедельное русское слово“. 1987. — № 27.
- Максимов, В. Я считаю, что началась агония страны / В. Максимов // Голос. -1991.-9−15 декабря. № 48.
- Малягин, В. Достоевский и церковь // Достоевский и православие. М., 1997.-С. 9−30.
- Мень, А. Отец А. Мень отвечает на вопросы слушателей / А. Мень // Фонд имени А. Меня. М., 1999.
- Митрополит Антоний (Храповицкий) Пастырское учение идей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский и православие. М., 1997.-319 с.
- Мешков, Ю.А. Александр Солженицын. Личность. Творчество / Ю. Мешков. Время. — Екатеринбург, 1993.
- Мочульский, К.В. Достоевский. Жизнь и творчество // К. В. Мочульский /Гоголь, Соловьев, Достоевский. -М.: Республика, 1995. с.46
- Муртузалиева, Е.А. Критическая проза Ф.М. Достоевского в „дневнике писателя“: Дис.. канд. филол. наук / Е. А. Муртузалиева. Махачкала, 2001.
- Немзер, А. На валу истории / А. Немзер. Независимая газета. — 26 февраля 1992.
- Новиков, В. Раскрепощение. Воспоминания читателя А. Солженицын. В. Набоков. „Доктор Живаго“ Б. Пастернака. / В. Новиков. Знамя. — 1990. -№ 3.
- Оболенский, С. „Ткань истории“ у Солженицына / С. Оболенский. -Возрождение. Париж, 1971. Июль. № 239. — С. 151 — 159.
- Остапенко, JI.M. О месте „Дневника писателя“ в творческом наследии Ф.М. Достоевского / JIM. Остапенко // Язык и культура. Киев. — 1997. — Т 4.-С. 127−131.
- Одабашьян П.С. Духовный мир героев А, И. Солженицына // Грани. Frankfurt а/М» 1978.- № 89/90. С.246−268.
- О символе бедном замолвите слово. «Малая» проза Солженицына: «поэзия и правда» // Лит. обозрение. 1990. — № 950
- Отчизна. Симферополь. — 1919. — С. 20−35.
- Прокопова, Е.В. Сюжет и характер в художественной прозе Солженицына: на материале романа «В круге первом» и повести «Раковый корпус»: Дис.. канд. филол. наук/ Е. В. Прокопова. М., 1998.
- Померанцев К.Д. В начале был «Один день Ивана Денисовича» //Рус. мысль. Париж, 1978. — 14 дек. № 3234. — С. 9.
- Поддубная, P.M. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя и «Дневник писателя» Достоевского (жанровый аспект) / Поддубная, P.M. // Достоевский и мировая культура: Альманах. СПб., 1996. — № 6. — С. 141−151.
- Потапов, В. Сеятель слово сеет: (О Солженицыне на возврате дыхания и сознания)//Знамя. М., 1990.- № 3. — С. 204−209.
- Поремский В. Две перспективы // Посев. Frankfurt а/М., 1974. — № 6 -С. 31−37.
- Палиевский, П.В. Русские классики: Опыт общей характеристики. М., 1987.- 154 с.
- Плетнев, Р.В. А.И. Солженицын. 2-е изд./ Р. В. Плетнев. — Paris, 1973.
- Потебня, A.A. Эстетика и поэтика / A.A. Потебня. М.: Наука, 1976. -С. 280−297.
- Рассадин, С. Очень простой Мандельштам. -М.: Книжный сад, 1994.
- Ранчин, A.M. Летопись Александа Солженицына / A.M. Ранчин. -Стрелец. Париж- М.- Нью-Йорк: Третья волна, 1995. — № 1 — С. 176−192.
- Решетовская, H.A. Обгоняя время / H.A. Решетовская. Омск, 1991. -152 с.
- Решетовская, H.A. Отлучение: Из жизни Александра Солженицына. Воспоминания жены / H.A. Решетовская. М.: Мир книги, 1994. — 365 с.
- Решетовская, H.A. Разрыв / H.A. Решетовская // Иркутск: МП «ЛИК». Восточно-сибирск. кн. изд-во, 1992. 170 с.
- Ржевский, Л.Д. Творец и подвиг: Очерки по творчеству Александра Солженицына / Ржевский, Л. М.: Посев, 1972. 165 с.
- Розенблюм, Л.М. Творческие дневники Достоевского / Л. М. Розенблюм. -М.: Наука,-1981.
- Русский колокол. Журнал волевой идеи. Берлин. — 1927. — № 1.
- Русский пророк в изгнании А. И. Солженицын. // Наука и религия. -1990. -№ 1254.
- Самойлов, Д. Из книги «Памятные записки» / Д. Самойлов. Вопросы лит.-1991.-№ 6.
- Семенова, Г. П. «Чтобы слова не утекали как вода.». О языке произведений А. Солженицына / Г. П. Семенова. Рус. речь. — 1996. — № 5.
- Семин, В. А.И. Солженицын / В.А. Семин. Лит. обозрение. — 1995. -№ 6.
- Слово о Солженицыне (В.Солоухин, И. Шафаревич, В. Крупин, Л. Бородин, В. Распутин // Наш современник. 1990. — № 1.
- Соловьев, B.C. Чтения о Богочеловечестве / B.C. Соловьев // Сочинения. -М., 1994.
- Спиваковский, П. История, душа и «эго» (А.Солженицын. Эго. На краях) // Лит. обозрение. 1996. — № 1. — С. 48−50.
- Струве, Н. О «Марте Семнадцатого» // Рус. зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991.
- Сурганов, В. Один в поле воин (А.Солженицын) //Лит. обозрение. -1990.-№ 8.
- Суриков, В. О Солженицыне читая «Август» / В. Суриков. — Лит. обозрение. — 1993. -№ 7−8.
- Синдаловский, H.A. Петербург в фольклоре / H.A. Синдаловский. -СПб.: Журнал «Нева», ИТД «Летний сад», 1999. 384 с.
- Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М: Эллис Лак, 1995.-416 с.
- Стрельцов A.M. Цикл в художественном мышлении Замятина / A.M. Стрельцов // Творческое наследие Ев. Замятина: В 2- х частях. Тамбов, 1994.-Ч.-С. 144- 145.
- Соловьев, В. С. Чтения о богочеловечестве // Сочинения. М., 1994. -448 с.
- Самарин, Ю.Ф. Алексей Степанович Хомяков Предисловие / A.C. Хомяков // Полное собрание сочинений. Т. 1. — М., 1880.
- Сараскина, Л.И. «Бесы» роман предупреждение / Л. И. Сараскина. -М.: Сов. Писатель, 1990. — 480 с.
- Сараскина, Л. «Россия опять собирается с мыслями». О поздней публицистике Достоевского и Солженицына / Л. Сараскина. Звезда. — 1994. -№ 6.
- Светов, Ф.Г. Разделение.: (После «Очерков лит. жизни» Солженицына) //Вестник РХД. 1977. — № 121. — С. 195−236.
- Слово пробивает себе дорогу: Сб. статей и документов об А. И. Солженицыне / Сост. В. И. Глоцер и Е. И. Чуковская. М.: Русский путь, 1998.- 494 с.
- Святитель Феофан Затворник. Наставления в духовной жизни. Православное вероучение. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: Изд. Отдел Московского Патриархата, 1994. 188 с.
- Соловьев, B.C. Оправдание добра: Нравственная философия / B.C. Соловьев.-М.: Республика, 1996.
- Соловьев, B.C. Чтения о богочеловечестве / B.C. Соловьев // Сочинения. -М., 1994.-448 с.
- Сохряков, Ю. Творчество Ф. М. Достоевского и русская проза XX века (70−80-е годы) М.: ИМЛИ РАН, 2002.
- Спиваковский, П. Е. Феномен А.И. Солженицына: Новый взгляд (к 80-летию со дня рождения) / ИНИОН РАН, М., 1998. 135 с.
- Струве, H.A. Православие и культура. М.: Христианское издательство, 1992.- 332 с.
- Тарасов, Ф.Б. Евангельский текст в художественных произведениях Достоевского: Дис. канд. филол. наук / Ф. Б. Тарасов. М., 1998.
- Тартаковский, А.Г. Русская мемуаристика XVII первой половины XIX в. От рукописи к книге / А. Г. Тартаковский. — М., 1991. — С. 5−6.
- Трусова, A.C. Мифопоэтическая парадигма «Окаянных дней» И.А. Бунина": Дис.. канд. филол. наук/A.C. Трусова. Мичуринск, 2004.
- Тютчев, Ф.И. Россия и Запад: Книга пророчеств / Ф. И. Тютчев. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1999.
- Успенский, Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы / Б. А. Успенский. М.: Искусство. 1970. — 406 с.
- Фельштинский, Ю.Г. Солженицын и социалисты. Париж, Нью — Йорк: Третья волна, 1983. — 47 с.
- Флоренский, П. Иконостас / П. Флоренский. Собр. сочинений. -Париж, 1985.
- Франк, С.Л. Религиозность Пушкина / С. Л. Франк // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX первая половина XX в. — М., 1990.
- Фудель, С.И. Воспоминания / С. И. Фудель // Собр. соч.: В 3-х томах. -Т.1. -М., 2001.
- Ху Сун Вха Вопросы эстетики Достоевского в православном контексте: Дис. канд. филол. наук / Ху Сун Вха. СПб, 2001.
- Чалмаев, В.А. Александр Солженицын: Жизнь и творчество. Кн. для уч-ся / В. А. Чалмаев // М., Просвещение, 1994. 285 с.
- Чуковская, Л.К. Процесс исключения: Очерк лит. нравов. М.: Межд. Ассоциация деятелей культуры «Новое время» и журнал «Горизонт», 1990. -349 с.
- Чирков, Н.М. О стиле Достоевского / Н. М. Чирков. -М., 1968.
- Шнеерсон, М. Александр Солженицын: Очерки творчества. М.: Посев, 1984.-297 с.
- Штурман, Д.М. Городу и миру: О публицистике А. И. Солженицына. -Париж-Нью-Иорк, Третья волна. 1988. — 432 с.
- Шумилин, Д.А. Способы воплащения позиции автора в «Архипелаге ГУЛАГе» Солженицына: Дис.. канд. филол. наук / Д. А. Шумилин. М., 1999.- 176 с.
- Энциклопедический словарь: В 82 кн. / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. -СПб., 1894.