Пьесы Исхаки на тему интеллигенции — аспект «новой драмы»
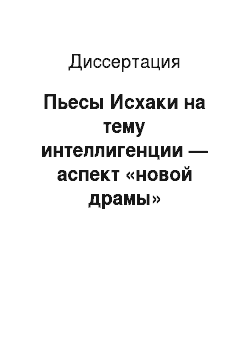
Основные методы исследования, использованные в диссертации. Ведущий в этом ряду — целостный литературоведческий анализ, осуществляемый при помощи апробированных в науке о литературе логико-понятийного инструментария. Использован в нашем анализе также герменевтико-феноменологический подход. Исходным для нас здесь явился тезис герменевтиков о том, что «символ заключает в себе обобщающий принцип… Читать ещё >
Содержание
- Глава I.
- НА ПУТИ К ТЕМЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПЬЕСА «МУГАЛЛИМ» УЧИТЕЛЬ")
- 1. Планы высокого служения — мугаллим Салих
- 2. В плену быта
- 3. Драма утраченного идеала
- 4. «Мугаллим» в критике
- 5. Пьеса «Мугаллим» на сцене
- Глава II.
- ДРАМА «МУГАЛЛИМА» («УЧИТЕЛЬНИЦА»)
- 1. Первые отклики
- 2. Торжество дела и тревоги духа
- 3. Бытовая линия пьесы
- 4. Бытийный уровень пьесы
- ГЛАВА III.
- ТИП ТАТАРСКОЙ ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА XX ВЕКА И ПРОБЛЕМА «НОВОЙ ДРАМЫ»
- 1. Татарская сцена начала XX столетия и сцена в пьесах, 110 Исхаки
- 2. Мугаллима Фатыма в изображении драматурга
- 3. Мугаллима" на сцене. Профессионалы и любители в работе над образами пьесы
- 4. «Мугаллима» в критике и проблема «новой драмы»
- 5. Символизм и будущее татарской сцены
Пьесы Исхаки на тему интеллигенции — аспект «новой драмы» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Гаяз Исхаки (1878−1954) — крупнейший деятель татарской культуры начала XX столетия. Он оставил замечательный след в развитии литературы, татарской общественной мысли, освободительной борьбы своего времени. Незаменим вклад, который он внёс В' развитие театрального, драматургического искусства своего' народа. Как и его современник Галиаскар Камал, он стоит у самых, истоков: татарской драматургии XXстолетия. Он обогатил её- произведениями, созданными во всех .её- ведущих жанрах — в жанре комедии, драмы, трагедии. Таков необычно широкий размах его дарования. Каждое новое произведение писателя вызывало громадный интерес читательской, а затем и зрительской аудитории, становилось предметом оживленных дискуссий, в том числе и по проблемам сценического искусства, новаторского значения его произведений для сцены. Поэтому татарский театр, совершенно резонно названный именем Галиаскара Камала, с таким же основанием мог бы носить имя и другого своего отца-зачинателя — Гаяза Исхаки.
После февраля 1917 наметились поистине исторические сдвиги в жизни татарского общества, в его духовном самоощущении, в его культуре, театре, как в барометре отражавших настроения своей эпохи, связанной с завершением многовековой борьбы народа против тирании царизма. И вот, как отражение этих настроений, в Казани проходит ставшая знаменитой «неделя Исхаки». В театрах города, при переполненных залах, день за днем, идут представления по трагедии писателя «Зулейха». Иные из них, сообщают газеты, продолжались до семи часов сряду — таков был необычный подъем национального духа, созвучный с духом исхаковской героини — несгибаемо-твердой Зулейхи. Высокий духовный мотив, сплотивший людей в едином для них национально-патриотическом порыве, получает свое закрепление во встречах, организованных в честь главного виновника этого всенародного торжества — Гаяза Исхаки. Развернутую статью об одной из таких встреч написал другой выдающийся деятель национальной культуры, писатель Фатых Амирхан (I, 294−300 бит)1. Публика, говорит он, была готова сидеть хоть до утра, отдавая все новые и новые почести своему кумиру. Но в три часа ночи кончался срок аренды, и она была вынуждена разойтись. И вот, желая положить конец этой бездомности.
1 Эмирхан Ф. Гаяз эфэндс шорэфснэ / Ф. Эмирхан // Исхакый Г. Эсэрлэр Унбиш томда. Гаяз ИсхакыГшыц тормышы Ьом нжаты турьища зачандашлары (1898−1917).- Казан: Тат. кит. нэшр. 8 т. 2001. 294−300 бит мира национальной культуры, все сборы от своей пьесы на тему революции (драма «Противостояние») Гаяз Исхаки обещает пожертвовать на строительство будущего «Дворца свободы» («Ирек йорты»), в проекте которого, конечно же, достойное место отводилось и национальной сцене. Драматическое представление по пьесе «Противостояние», как и было обещано, действительно состоялось — и прямо на другой день после того, как появилась статья Амирхана — 14 апреля 1917 года • (1, 443 бит.).
Но — ход истории решительно перечеркнул эти надежды. Пожертвования, которые он внес в пользу театра, оказались напрасны, а его имя, как противника советского режима, было на долгие годы вытравлено из истории татарской культуры. Возвращение его наследия народу, служение которому он не оставлял ни на один день, даже в труднейших условиях жизни в эмиграции, оказалось возможным лишь с крушением большевистской системы. Серьезное же научное осмысление его творчества началось и того позже. Возвращению Исхаки, радости приобщения к его художественному миру, ничуть не утратившему своей захватывающей силы, несмотря' на то, что прошло уже целое столетие со времени, когда стали появляться его произведения, посвятили свои выступления самые именитые деятели национальной мысли-писатели и ученые-публицисты (186, 209). Среди них выделяются развернутые монографические исследования Минахмета Сахапова, рассматривающие наследие Исхаки в контексте татарской литературы в целом, начиная с первых десятилетий XX века и до наших дней включительно (117, 118, 199, 225). Ряд работ из этого цикла трудов ученого в течение 2006;2007 гг. увидел свет также в переводе на английский и турецкие языки (225−228).
Насыщенную богатым материалом работу, посвященную жизни и деятельности возвращенного классика, посвятил известный литературовед Флюн Мусин — «Гаяз Исхаки Жизнь и деятельность» (177). Но широта исследовательских задач, рассматриваемых в работах этих авторов, не дает им возможности сосредоточить свое внимание вокруг одного жанра — драматургии. Рассмотрению отдельных сторон обширного наследия Исхаки, писателя и драматурга, посвятили свои выступления известные ученые — Танеева Р. К., X. Миннегулов и др. (148, 149, 175).
С каждым годом ширится круг диссертационных исследований, посвященных творчеству писателя1, его эволюции2, в том числе и.
1 Каримова Л ИдсПно-эстстпчсская эволюция проблемы феминизма в творчестве Г Исхаки' авторсф лис., .каид филолог, наук — Казань, 2000 — 27 с Самитова С ИдеЛно-эстетическая эволюция творчества Г Исхаки (1914;1917) авторсф. дне канд филолог наук. — Казань, 2002. — 20 с. периоду 10-х годов, когда создавалась его пьеса «Мугаллима"1. Рассматриваются различные аспекты общественно-политической деятельности писателя2, его творчество периода эмиграции3, преломление им идей женской свободы4 и т. д.
Возвращение Исхаки означало собою и возобновление жизни его творений на сцене, насильственно прерванной за годы советской власти. / В первую очередь это относится к сценической жизни единственного для начала ХХ-го столетия образца этого жанра, созданного на татарском языке, — трагедии «Зулейха» (1912). Феномен периодического взлета «Зулейхи» на авансцену истории как раз в пору крушения устоев, будь то устои царизма в 1917;ом или режима Советов начала 1990;х, властно возвращает исследовательскую мысль к феномену её- автора, затрагивающего самые глубинные пласты национального сознания, которые, оказывается, ждали своего часа, чтобы всплыть на поверхность и заявить о себе во всю свою мощь. Историки театра, активные участники театрального процесса наших дней одинаково озабочены тайной Исхаки, они пытаются осмыслить его театр в ретроспективном аспекте, как Хануз Махмутов, автор статьи «Гаяз Исхаки и татарская сцена» (179). С точки зрения открытий, имеющихся в арсенале театра нашего времени, рассматривают постановки исхаковских пьес театровед И. Илялова (103), ориентируется на пьесы Исхаки новый для них вид искусствакино (196). Один из наиболее ранних взглядов на драматургическое наследие возвращенного писателя содержится в статье литературоведа Э. Сибгатуллиной (193).
Становление метода Исхаки-драматурга, место, занимаемое им в развитии этого жанра в национальной литературе, — предмет особого интереса проф. А. Ахмадуллина, рассмотрению которого он посвятил развёрнутую статью — «Гаяз Исхаки и татарская драматургия» (221). Драматургическое искусство Исхаки как автора, вне вклада которого трудно представить себе формирование татарского театра, уже к середине 10-х годов XX века заявившего о себе в качестве школы зрелого реализма, рассматривается в статье «Исхаки и татарский театр» (133). Автор её- - известный ученый-театровед Г. Арсланов. В серии своих исследований он рисует развёрнутую картину становления у нас.
1 Самнтова С. Идейно-эстетическая эволюция творчества Г. Исхаки (1914;1917): автореф. дис канд. филолог, наук. — Казань, 2002. — 20 с.
2 Гапи Б. Общественно-политическая деятельность и исторические взгляды Г. Исхаки: автореф. дне. канд. ист. наук. — Казань, 2001. 30 с.
3 Зайнуллина Г. И. Творчество Г. Исхаки в эмиграции: автореф. дис. канд. филолог, наук. — Казань, 2002. — 22 с.
4 Никишина С. Проблема женской эмансипации в татарской литературе начала хх века: автореф. дис. канд. филолог, наук. — Казань., 2001. — 22 с. режиссёрского искусства, начиная с эпохи его зарождения и вплоть до современности. Возглавляет этот цикл работ ученого представляющая для нас особый интерес монография — «Татарское режиссерское искусство (1906;1941) — [25]. Глубокие идеи о драматургии Исхаки, могущие послужить предметом специального исследования, содержатся в работе профессора Ю. Нигматуллиной, посвященной изучению типов культур и цивилизаций на примере развития татарской и русской литератур (70).
Однако же тема Исхаки — драматург, в сознании которого этот жанр /занимает столь же значительное место, как и его развёрнутые полотна в жанре эпоса, всё- ещё- ждёт своего исследователя. При этом, разумеется, определяющее значение имеет не сам по себе объём, но несомненная высокая, художественная ценность его сочинений для сцены. Сама проблематика его пьес, средства, используемые им для раскрытия характеров, конфликт и, наконец, вершинная точка драматического действия — его финал — все эти элементы художественной формы делают драму Исхаки совершенно новым словом в татарской драматургии, выводят её- далеко за рамки одного лишь национального опыта. Опыт хорошо знакомой ему отечественной, русской драматургии в лице Островского, Чехова, а затем уже ближайшего своего современника Горького, с которым он находился в дружеской переписке, вот на что ориентируется Исхаки в своём искусстве драматурга. В отмечаемом здесь ракурсе как: раз и рассматриваются в настоящей работе его пьесы, посвящённые теме трудовой интеллигенции — «Мугаллим» и «Мугаллима» («Учитель», «Учительница»).
Избранный нами аспект, однако, ничуть не означает забвения роли восточного культурно-национального мира в творчестве Гаяза Исхаки. Остававшийся до сих пор вне поля зрения научной мысли богатый фактический материал, выявляющий многообразие связей автора «Мугаллимы» с деятелями турецкой литературы, заключает диссертационное исследование Харрасовой Р.Ф.1 Тем с большей уверенностью мы можем сосредоточить свои усилия на условно обозначаемой нами «западной» ветви, привитой им к буйно распустившей свои кроны древу национальной литературы. Но, оказывается, сама диалектика исследовательской мысли приводит нашего соавтора по Исхаки к важнейшему для нас выводу. «Турецкая поэзия, проза, драматургия, — говорится в работе Харрасовой,.
1 Харрасова Р. Ф. Раннее творчество Исхаки в контексте литературных связей (1898−1907) / Р. Ф Харрасова.: автореф. дисс.канд. филолог, наук. — Казань. — 2002. — 24 с. сохраняя свои восточно-мусульманские корни, входит в контекст философско-эстетической мысли Европы". Выходит, здесь нет кажущейся на первый взгляд непримиримой дилеммы — Восток или Запад, они соединились, слились в одной точке — под пером Исхаки.
Оригинальность метода Исхаки как художника слова и мыслителя, степень ценности вклада, внесённого им в развитие национального искусства драмы, могут быть в полной мере выявлены лишь в соотнесении его с опытом других его современников, работавших в этом роде литературы. Поэтому поэтика Исхаки рассматривается нами в известной мере в контексте творческих исканий его современников как авторов пьес женской тематики. У Исхаки же она, в частности, строится на соотнесении внешнего и внутреннего, подтекстового плана изображения, ставшего достоянием европейской драмы благодаря открытиям Чехова. Вот этот, принципиально новый ракурс, какой использовал Исхаки в своём подходе к изображению мира человеческих переживаний, обусловил и особенный накал борьбы в критике, ход которой на основе откликов, связанных с публикацией его пьес, выходом их на сцену, трактовкой образов в искусстве татарских актеров и т. д. — мы и прослеживаем в нашей работе.
В процессе осмысления своей темы мы, естественно, опирались на весь многолетний опыт, накопленный нашими предшественниками, исследователями татарской драматургии (221), становления и развития её- жанров (129,162), её- поэтики (181) и т. д. Осуществляемый в работе анализ художественной, образной структуры драматургического произведения тесно смыкается с проблемой бытования этих образов на сценической площадке, их истолкования средствами режиссёрского, исполнительского искусства. В рассмотрении этого аспекта мы имеем^в качестве основы как развёрнутые коллективные исследования (180), статьи, посвященные национальному театру до революции (147), так и его развитию в последующие периоды (101,108), работы о персоналиях — режиссёрах (102), актёрских судьбах — зачинателях национальной сцены (135,156). Своеобразие исполнительского искусства, сложившегося на татарской сцене, его истоки — объект внимания известных исследователей театра — И. Иляловой (99), X. Кумысникова (109) и др. На эту базу, методологию, сложившуюся в науке, в частности, и о драме как роде литературы (83), о театральном искусстве в целом (28) и опирается автор, выясняя новую жизнь героев.
Харрасова Р. Ф. Раннее творчество Исхаки в контексте литературных связен (1898−1907) / Р. Ф Харрасова.: автореф. дисс.канд. филолог, наук. — Казань. — 2002. — 12 с.
Исхаки уже как героев сцены. Запрещённое советской цензурой, наследие Исхаки постепенно возвращается народу, стали выходить сборники сочинений (4), отдельные произведения писателя, в том числе и в переводе на другие языки (5). Важным подспорьем в нашей работе, безусловно, явился выход 8-го тома из продолжающегося издания сочинений писателя в 15-ти томах. Составитель его, текстолог и исследователь Ф. Ибрагимова, смогла собрать под одной обложкой, привести в единую систему и прокомментировать огромный свод сведений о писателе за весь почти 20-тилетний период его жизни, проходившей в условиях России: — Исхаки Г. Сочинения в 15 томах. Современники о жизни и деятельности Гаяза Исхаки" (1898−1917). Т.8. [1]. В 2004 году появилась насыщенная богатыми фактами работа проф. X. Миннегулова «Творчество Гаяза Исхаки периода эмиграции» (176). Многосторонний творческий дар Исхаки раскрывается здесь во всей мощи его необычно широкого масштаба, одинаково естественно включавшего в свою орбиту художественные явления западного и восточного, мусульманского мира. И. культурные достижения /своего народа, его театр, в частности, он. по праву оценивает теперь в широком культурно-историческом контексте, рассматривает их как естественное звено в цепи культурного развития стран Евро-Азийского масштаба в. целом. А это, в свою очередь, позволяет нам бросить ретроспективный взгляд и на его пьесы об интеллигенции, создававшиеся, разумеется же, с учетом этих общечеловеческих достижений в драматургии и связанной с нею сфере театра.
Тематический показатель нашего названия вовсе не означает, что мы исключаем из поля зрения другие произведения драматурга. Пьесы на тему интеллигенции есть результат процесса естественной эволюции, которую претерпевал их автор как художник слова и мыслитель. С каждым годом все более расширявший круг своих творческих интересов, Исхаки начала XX столетия прочно убеждён в приоритете духовных исканий личности в изображаемой писателем картине мира и в определении этой личностью своего истинного предназначения на земле.
Проникнутые этим пафосом, пьесы об интеллигенции несут в своём содержании и отдельные черты общероссийской жизни в целом, в них угадываются мотивы, характерные для творчества его старших современников по жанру драматургии — М. Горького, А. П. Чехова, а ещё- ранее — и А. Н. Островского. Этот уровень Исхаки, внёсшего, наподобие своим предшественникам, выдающийся вклад в становление жанра драматургии, в свою очередь, послужил мощным толчком и для развития научно-критической мысли.
Проблемы типологии культур, опыт Исхаки-драматурга и опыт европейского театра современности, не исключая из него и театр символизма, — таков масштаб татарской критики, заданный ей основным в данном случае движущим толчком её- мысли — драмой «Мугаллима». Однако же этот аспект исхаковской драматургии, позволяющий рассматривать татарскую сцену в связи с проблемами русско-европейской сцены начала XX века в целом, ещё- никак не/ стал объектом внимания исследователей. И наши усилия направлены к тому, чтобы по своему заполнить этот пробел, поставить вопрос о рассматриваемых здесь пьесах* Исхаки как важнейших явлениях национально-художественной мысли начала XX столетия, выводящих её- на общеевропейский путь развития.
Напряжённая внутренняя, духовно-нравственная жизнь личности, картину которой на примере своих героев развёртывает Исхаки-драматург, получит затем своё- продолжение на сцене. Профессиональные деятели театра — актёры труппы «Сайяр», режиссёры, многочисленные любительские объединения и коллективы — все они, охваченные силою таланта Исхаки, старательно изучают, играют, ставят его пьесы. И этот многообещающий по своим результатам и всё- более расширявший свои границы, путь приобщения к миру большого искусства, который свершался на просторах едва ли не всей мусульманско-татарской части Российской империикуда доходили имя и художественное слово Исхаки, этот вопрос изучен у нас далеко ещё- неполно.
Через посредство же незамысловато простой, если судить по современным меркам, но зато и чрезвычайно мобильной, передвижной татарской сцены, на самом деле осуществлялся важнейший культуртрегерский, цивилизирующий процесс, открывался столь насущный для обширных восточных широт Российской империи новый, европейский свет мысли. Размышляя об этом в преддверии 100-летнего юбилея театра, академик М. Усманов, в частности, писал: «Хотя мы и любим нашу сцену и в особенности преданно — сцену театра имени Галиаскара Камала, всё- же признаем, что мы ещё- не поднялись до того уровня, чтобы во всей полноте уяснить себе и дать понять это другим — осознать её- подлинно историческую роль и её- истинное общественное предназначение» (21,8 бит.).
И рассматриваемый здесь аспект, связанный с историей функционирования пьес Исхаки как важнейших явлений национальной культуры первых десятилетий XX столетия, способами их сценической интерпретации, манерой актёрской игры, откликами современников различных профилей — писателей и критиков, театроведов, историков этот аспект, надеемся, и в самом деле может оказаться полезным в решении задачи, о которой говорит маститый ученый — в осознании высокой эстетичски-воспитательной, общественно-просветительской, цивилизующей миссии, выполнявшейся нашим театром в жизни не одной только татарской нации, но и других народов, исторически объединённых в пределах Российской государственности.
— Цель и задачи исследования — выявить художественное своеобразие пьес Исхаки как художника, двигавшегося к утверждению принципов «новой драмы» в истории национальной драматургии. Реализация цели, в свою очередь, предполагает постановку решение следующих задач.
— Выявить место, которое занимают пьесы на тему интеллигенции в творческой эволюции писателя и в развитии татарской драматургии в целом.
— Проследить становление метода Исхаки как драматурга, следовавшего от пьес типично дидактической формы, событийного финала к пьесам последовательно реалистического, социально-обличительного плана, а затем и к жанру новой психологической драмы.
— Выявить элементы художественной структуры пьес, систему образов, конфликт, средства психологизма, элементы, отличающие их от явлений национальной драматургии этого периода.
— Установить параллели, идейно-художественную, тематическую общность писателя с творчеством русских писателей-драматургов, его старших современников по литературе.
— Обосновать приемы, ведущие автора «Мугаллимы» к автору «Чайки» как первооткрывателю жанра психологической драмы, а через него и к предшественникам этого жанра в европейской драматургии.
— Проследить оценку, какую получили эти пьесы в критике, историческую обусловленность ее критериев и отдельные прозрения, выходящие за пределы своего времени.
— Обосновать появление жанра «новый драмы» в татарской литературе как толчок для взлета научно-критической, эстетической мысли нации, включающейся таким путем в процесс общеевропейских исканий рубежа двух столетий.
— На примере исследуемых пьес выявить роль «любительского элемента» как фактора, по своему способствовавшего развитию татарского театра, профессионального искусства сцены.
Основные методы исследования, использованные в диссертации. Ведущий в этом ряду — целостный литературоведческий анализ, осуществляемый при помощи апробированных в науке о литературе логико-понятийного инструментария. Использован в нашем анализе также герменевтико-феноменологический подход. Исходным для нас здесь явился тезис герменевтиков о том, что «символ заключает в себе обобщающий принцип дальнейшего развертывания свернутогов нем смыслового содержания» (Философская энциклопедия (240, стрЛО). Использованный в диссертации сопоставительный метод, как известно, проистекает от общечеловеческих основ литературы и искусства. В изучение подобного рода литературно-типологической общности большой вклад внесли отечественные литературоведы (Н.И. Конрад, В. М. Жирмунский, Б. М. Храпченко, И.Г. Неупокоева), из зарубежных — Д. Дюришин, А. Дима. Определение типологического сходства, которое одновременно предполагает и качественное своеобразие отдельных литератур, дано Неупокоевой И. Г.: «Это такое сходство внутренних идейно-художественных структур сравниваемых литературных явлений и процессов, которое зависит от сходства определенного комплекса исторических условий и проявляется как в сходстве основных художественных задач и решений, так и в сходстве своих общественных функций» (66, стр. 155).
Методологическая база диссертации" опираетсяна теоретические концепции и суждения, выработанные в работах отечественных историков и теоретиков литературы. Среди них Тимофеев ЛИ.,. Нигматуллина Ю. Г., Кормилов С. И., Федотов О. И., Аникст А., Бугрова Б., Громова М., Хализев В. Е., Кременцова JI. Из татарских же исследований ученых и теоретиков литературы использованы труды Миннегулова Х. Ю., Галиуллина Т. Н., Хатыпова Ф. М., Танеевой Р. К., Мусина Ф. М., Галимуллина Ф. Г., Загидуллиной Д.Ф.
Проблемы сценического воплощения образов Исхаки освещались с опорой на труды известных театроведов, знатоков теории театра, драматургии. Это Г. Арсланов, Б. Поюровский, К. Рудницкий, А. Ахмадуллин, Илялова И. И., литературовед Саяпова A.M., как автор работ о своеобразии слова в чеховской драматургии.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые в нашей науке о литературе и связанной с нею сфере театральной мысли проводится целостное изучение драматической дилогии Газа Исхаки на тему интеллигенции, особенностей ее функционирования на сцене. Она (дилогия) поставлена в контекст всей творческой деятельности ее автора как драматурга, а вместе с тем и в контекст татарской драматургии начала 20 столетия на тему женской судьбы. Мотив гнетущего давления косной среды на развитие человеческой личности («Мугаллим») сменяется утверждением силы, достоинства этой личности, способной отстаивать свою самоценность, не взирая ни на какие внешние препятствия («Мугаллима»). Таков бытийный, философский подтекст, который заложен автором в истории его героини и который выявляется при помощи средств литературоведческого анализа. .
Научно-практическая значимость работы заключается в том, что осуществленное здесь монографическое исследованиие позволяетпредставить творчество Исхаки, равно как и связанное с ним развитие национальио-художественной, литературной, научно-критической мысли в русле европейских исканий своего времени. Ее результаты могут послужить материалом при подготовке обобщающих трудов по истории татарской литературы и критики, при изучении татарского театра, утвердившихся в нем принципов исполнительского искусства, его высокй просветительской роли, которую она выполняла в жизни не одной лишь татарской нации, но и других братских народов России. Чисто литературоведческий же аспект работы может быть использован в практике школ, лицеев, при чтении общих и специальных курсов для студентов, при написании ими курсовых, дипломных сочинений.
Апробация работы осуществлялась через публикации в региональной научной печати, в выступлениях автора с докладами на итоговых научных и научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава Казанского Государственного университета культуры и искусств, Казанского государственного университета, Государственного педагогического университета г. Шуи, Государственного педагогического института г. Уфы и т. д. Ход и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры литературы и татарского языка КГУКИ, кафедры татарской литературы КГУ.
Структура работы определяется, исходя из решаемой ею основной задачи. Она состоит из введения, трех глав, заключения и списка библиографической литературы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Сказанное выше свидетельствует — сколь особенное место в пантеоне деятелей национальной культуры занимает деятельность Исхаки — драматурга. Как художник слова, чутко откликавшийся на запросы своего времени, он прошел большой и поучительный во многих отношениях творческий путь. И важнейшую веху на этом пути составили его пьесы на тему интеллигенции. Начинает он как автор драматических произведений, целиком укладывающихся в русло морально-дидактической традиции национальной литературы. Но уже в пору своих дебютных шагов он демонстрирует свою способность чутко улавливать лучшее, что есть в опыте его старших современников и предшественников в литературе.
Брак с тремя жёнами" - лучший образец татарской драмы, иллюстрирующей просветительскую идею торжества добродетели и неминуемое наказание порока. Но сюжетная схема, которую еще соблюдает начинающий драматург, преодолевается изнутри, благодаря жизненно и психологически достоверно показанной картине пробуждения морально заблудшего Карима. И решающей силой в этом преображении личности оказывается чувство любви и всепрощения, которое демонстрирует супруга Карима — многотерпеливая Асма.
И более всего её- автор напоминает здесь метод Толстогокрупнейшего писателя-психолога и моралиста. И психологический реализм его предшественника в русской литературе, /и моральная дидактика, как неотъемлемое качество самой татарской драматургии начала XX столетия, оказались сведенными здесь в единое русло. Художественный синтез, обозначенный уже первым опытом писателя в жанре драмы, получит свое продолжение в дальнейшем. «Брачный договор», «Противостояние» — это пьесы, в которых частный, внутрисемейный конфликт явственно перекликается с конфликтом общеполитическим. А это уже мотивы, столь характерные для другого ближайшего современника писателя^-Горького.
От выразительно нарисованных картин внешней, социальной жизни татарского мира, все более вовлекаемого в общероссийские процессы начала XX столетия, он обращается к исследованию отдельно взятого, индивидуального мира личности как выразителя этой общей атмосферы эпохи. Так появляются его пьесы па тему интеллигенции.
Мугаллим" - это связующее звено в цепи национальной драматургии, идущей к овладению новым для нее жанром психологической драмы. Характерный для прежней драмы внешний, эмпирический план в нем сочетается с планом внутренним, с процессом трудного духовного развития личности. Намечается преодоление сугубо национальной доминанты воссоздаваемого писателем художественного мира. Мир души, в который углубляется J теперь Исхаки, это путь, который ведет его к типологии, к общности с / духовным миром героев общеотечественной русской литературы рубежа двух столетий. Мучительное осознание невозможности жить по-старому и одновременно неясность, неопределенность будущегов этом истинный драматизм ситуации Салиха, прямо нпоминающего собою путь чеховских героев — утративших свою духовную основу учителя же Никитина (повесть «Учитель словесности»), доктора Николая Степановича («Скучная история»), героя «Трех сестер» Андрея Прозорова и др.
В подобной форме проявляет себя единая жизненная основа процессов, происходивших в российской действительности конца XIX и начала XX веков, которые и зафиксировали в своих творениях Чехов, а затем и его младший современник Гаяз Исхаки.
Внутренний кризис, переживаемый персонажами подобного плана — это средство для воплощения авторской мысли о тайне, некой «экзистенции» жизни, не поддающейся своей прямой разгадке и, однако же, снова и снова привлекающей к себе внимание. Поставив своего героя перед лицом этой вечной экзистенциальной темы, Исхаки уже самой коллизией, положенной им в основу своей пьесы, заявляет о себе как художник, идущий в русле единых творческих исканий, которые проделал Чехов', утверждая принципы «новой драмы». А между тем до сих пор эта пьеса рассматривается лишь на уровне ее сюжета, без попытки проникнуть в скрытый за ее содержанием глубокий философский подтекст. Факт конкретно-событийной развязки пьесы в таком случае становится поводом для привязки пьесы едва ли не к конкретным политическим платформам и программам, которые разделял ее автор как непосредственный участник партийных баталий начала XX века (175, 49−50 бит).
И, наоборот, истинное проникновение в авторский замысел, понимание глубокого драматизма ситуации, которая связана с мучительной переоценкой героем своей прежней никчёмной жизни и которая (ситуация), по праву, получила название «чеховской», проявил ближайший современник Гаяза Исхаки — писатель Фатых Амирхан. Основываясь на спектакле по «Мугаллиму», он говорит о «глубоко трагедийных мотивах пьесы» (1, 174 бит), косвенно подтверждая тем самым наш тезис о типологическом родстве умонастроения татарского учителя с драматическим самоощущением героев Чехова в —его произведениях на тему интеллигенции. Эта мысль классика литературы начала прошлого столетия — надёжный ориентир для современных исследователей в правильной оценке смысла драматических метаний, которые переживает мугаллим Салих.
Качественно новую стадию в развитии разрабатываемой писателем художественной формы представляет собою пьеса «Мугаллима». От драматического положения личности, находящейся под давлением внешнего уклада жизни, он обращается к проблематике, далеко раздвигающей узко-социальные, национально-исторические и прочие литературные границы.
Новаторство Исхаки сказалось в новом типе драматической коллизии, положенной им в основу характера своей героини. Личный нравственный выбор, который делает героиня, отвергая любовь Габдуллы и оставаясь тем самым верной своей совершенно безнадежной любви, — этот процесс, прослеживаемый через коллизию.
Мугаллимы", делает ее произведением не просто частного, конкретного, национально-исторического плана, но явлением всеобщего, всечеловеческого масштаба.
В «женскую» по своим параметрам, «внешнюю» форму своей пьесы Исхаки сумел вместить ё-мкий художественно-философский смысл. И своё- наиболее рельефное выражение он находит в её- финальной картине, в звучании которой — словно бы пульсация самого бытия, в унисон которой вибрируют сердца его безупречпо-чистых, и, однако же, глубоко несчастных героев. /.
Их жизнь даиа в напряжении внутренних сил, но эти силы так и остаются как духовные, не дающими внешних результатов. Мало того, эти духовные силы, в Kouife концов, и есть та внутренняя, тайная причина человеческого несчастья" (119, стр. 110 —Курсив наш — А. К). Сказано это о героях знаменитой «Чайки», как первой предвестницы жанра «новой драмы» в русской литературе. Но в эту обобщающую формулу, которую дает проф. Саяпова как исследователь экзистенциальной темы в татарской литературе, целиком укладываются и герои исхаковской «Мугаллимы». Это точь-в-точь о них, чья тончайшая духовная организация связана с неодолимым для них грузом страданий, обусловленных как раз, в свою очередь, самой нераздельностью, цельностью их натуры. И однако же изобразительные, художественно-стилистические средства, с помощью которых создается этот эффект «напряжения внутренних сил», в татарской пьесе решительно не похожи на те, которые находим у Чехова. Это совершенно чуждый нейтрально-сдержанному, «скупому» стилю Чехова напряженный, внешне-драматический авторский пафос, демонстративная аффектация переживаний, которая становится неотрывной от самой натуры героев, представляющих «Мугаллиму».
Так, через сугубо специфическое, заключённое на этот раз уже во внешней, «национальной» форме своей пьесы, целиком укладывающейся в стиль восточно-цветистой мелодраматической экспрессии, естесственным образом перерастающей, однако, в содержание, в истинный накал переживаний в финале, — и приобщается Исхаки к русско-европейской эстетике, к искусству психологической драмы экзистенциально-бытийного наполнения.
Горячая полемика, которая не медля разгорелась вокруг пьесы, едва она успела выйти в свет, лишь подтверждает факт необычной новаторской роли, какую она сыграла в истории национальной сцены. «Новая драма», «символистский театр» и, наконец, «мир человеческого духа», сознательно противопоставляемый миру эмпирического бытиятаковы формулы, которыми оперирует теперь татарская критика. л ицесвоейАмины Мухутдиновой она прямо ссылается на опыт ' Г. Ибсена, М. Метерлинка как зачинателей жанра «новой драмы», в традицию которой, в противовес драматургии «национально-бытового направления» (термин автора — A.M.) — она уверенно вписывает и пьесу Гаяза Исхаки (1, 204 бит). И как бы в подтверждение этой мысли свр&го критика, и сам Исхаки то и дело упоминает в своих произведениях то Ибсена (8, 1997 — № 11, 33 бит), то Чехова (174, 328 бит), пьесы которых-то pi есть самая наглядная реализация законов «новой драмы». Так: благодаря таланту Исхаки, татарская мысль получает сильнейший импульс для своего развития/ приближается к постановке проблем, рассматриваемых на уровне европейской эстетики рубежа двух столетий.
Глубоко показательно, что обновление форм, углубление в философскую проблематику в начале ХХ-го столетия происходит и в других жанрах и видах искусства — в татарской поэзии (120, стр. 38−63), развитии эпических жанров (156, 18 бит), театре. Так, солидарность с задушевной идеей автора «Мугаллимы» проявляет его знаменитый союзник по искусству, режиссёр Габдулла Кариев. В" своей статье 1914 года, опубликованной в журнале «Ац» (№ 22), он выражает явное недовольство излишней приземлённостью образов национальной сцены, близко повторяющих своих прототипов в жизни. «Хотелось, бы видеть, чтобы зритель, — говорит Кариев, — преодолел убеждение, что на сцене высмеивается тип вот этого хаджи, рисуется характер вот этого человека и чтобы, в этих целях наши авторы создавали пьесы, героями которых выступали бы типы более обобщённого плана». Над подобными-то типами «обобщенного плана» — и как раз в то самое время, когда обдумывалась статья Кариева, — и трудился его единомышленник в искусстве — Гаяз Исхаки.
Но не только лишь эпоха, в которую творили отцы-основатели, но и время нынешних продолжателей их дела свидетельствует о насущной значимости открытий Исхаки, до уровня которых еще предстоит подняться нашему искусству. Завершен и увидел экран анонсированный ранее фильм по трагедии «Зулейха». Он выполнен в традициях добротного игрового кино, выразительна игра не только главных героев, но и всего ансамбля исполнителей, актеров театра имени Галиаскара Камала. Последовательно выдержана в фильме цветовая символика, контраст черного и белого тонов, выразительно оттеняющий основной трагедийный конфликт пьесы — непримиримость человеческого духа с противостоящими ему силами зла и жестокости. Но подлинная глубина и трагедийная мощь образа Зулейхи, через самую смерть утверждающей неодолимость своего глубоко национального духа и таким образом вписывающей пьесу в ряд лишь избранных творений татарской литературы, не может быть исчерпана средствами одной лишь реалистической образности, отсылающей нас всё- к той же наглядно видимой, конкретно-жизненной достоверности.
Символ красоты и беспримерной силы национального духа, Зулейха экрана требует столь же символически-ёмких форм, что получили своё- воплощение и под пером её- автора. Стиль же создателей фильма несколько иной. Взятый в целом, оп целиком укладывается в рамки сугубо предметной, конкретно-реалистической образности.
Трудно отделаться от искушения, чтобы не сказать — оставшийся обойденным постановщиками «Зулейхи» условный план пьесы как будто специально был создан в расчёте на средства современного кино, с его широчайшими возможностями монтажа, сочетания в кадре реалистически-конкретного и образно-символического планов изображения. Такова финальная сцена пьесы, когда к ногам умирающей Зулейхи слетаются ангелы, чтобы омыть своим прикосновением её- раны. Образный мир Исхаки-драматурга, освящающего таким путем нравственное значение подвига своей героини, — обширнейшее поле деятельности, вступить на которое ещё- предстоит самым разным жанрам нашего искусства, среди которых своё- ёмко-весомое слово, конечно, может сказать и современное искусство кино. Татарская сцена сумела сделать неизмеримо много, чтобы упрочить дело своих первопроходцев. Ныне, в дни своего столетия, она в числе коллективов, отмеченных высоко-престижными званиями и наградами за свои творческие успехи, одержанные не только лишь в пределах своей республики, но применительно к масштабам Российской Федерации в целом. Но ищущая мысль, естественно, озабочена будущим. Необходимость же обновления форм театрального искусства, основу которого, конечно, составляет драматургия, становится все более очевидной. О ней не уже не единожды заявляют свободные, от усыпляющего мысль чувства однажды обретенного успеха трезво мыслящие деятели культуры, писатели, ученые (161, 206).
И среди них — талантливый писатель, драматург и критик Айдар Халим: «Есть ли у нас национальная драматургия, национальная режиссура, наш национальный театр?» — спрашивает критик в своей книге, далеко не без умысла озаглавленной им как два взаимоисключающие друг друга тезиса: «Пьесы или почему я не смог стать драматургом» (211, 145−166 бит). И при ответе на этот, конечно же, провокативный, однако же и вовсе не один лишь риторический для его постановщика вопрос свою роль должна сыграть и форма драмы, созданной благодаря усилиям её- талантливого преобразователя — Гаяза Исхаки. Итак, в художественном методе Исхаки-драматурга оказались сконцентрированы важнейшие процессы, которые происходили в татарской литературе и близко связанной с нею национальной сцене. Известная неровность художественной формы, отмечавшаяся критикой применительно к его пьесе «Мугаллим», это издержки, которые проистекают из её- же достоинств как жанра, ориентированного как раз на процесс внутренних исканий личности, образца которомуеще не было в национальной литературе. Эти издержки с помощью специфических средств пластической выразительности сумела по-своему скорректировать театральная сцена, с подмостков которой она и смогла прозвучать как глубоко захватывающее, волнующее произведение драмы.
Мугаллима", напротив, уже вполне самодостаточное творение искусства. Она жизнеспособна вне зависимости от поддерживающих ее эстетику «внешних лесов» сцены. В самом естестве своем, в своей структуре, она несет все элементы, присущие искусству современной ей русско-европейской формы, получившей название «новой драмы».
И однако же последовательный европеизм, который мы прослеживаем, ничуть не лишает татарского писателя его самобытности. Как Чехов, по словам одного из своих современников, не переставая быть глубоко русским, писал обвеянный метерлинковской мудростью, так и татарский драматург несомненно, ощущал близкое дыхание свободной от каких-либо признаков внешней броскости, сдержанной и потому особенно емкой чеховской мудрости.
Но татарская сцена ввиду целого ряда причин внешнего, социально-исторического характера, так и производных из этого фактора явлений уже более частного, эстетического плана, была просто не готова к тому, чтобы вовремя подхватить и использовать в своей f практике эти эстетические «уроки Исхаки». Заявления о малопригодности, неприспособленности пьесы для сцены, звучавшие в откликах на ее постановки, лишь подтверждают мысль о совершенной новизне ее формы, оказавшейся исторически неподъемной для ее современников из числа служителей театра. В отличие от носителей театральной эстетики, воззрения критического корпуса литературы, обращенной к феномену исхаковской пьесы, напротив, отличались необычной зрелостью, точностью своих критериев. И опытнейший Джамалетдин В ал иди, и вступающая на критическое поприще Амина Мухутдинова демонстрируют в своих взглядах на «Мугаллиму» прозрения такой глубины, что они не утратили своей силы и по сию пору.
В них проглядывают все контуры, прорастающей в недрах самой национальной литературы, концепции «новой драмы». В отдельных своих наблюдениях близок к ним театральный критик и литератор Габдрахман Карам. И критическая, научнотеоретическая мысль, и литературная практика, таким образом, идут вровень, взаимно поддерживая и подкрепляя друг друга. Они свидетельство высшего взлета татарской литературы начала ХХ-го столетия, естественным образом подошедшей к открытиям, совершенным в жанре «новой драмы». s.
Список литературы
- Исхакый Г. Эсэрлэр Унбиш томда Гаяз Исхакыйныц тормышы Ьэм иж-аты турында замандашлары (1898−1917) / Г. Исхакый.-Казан: Тат.кит. нэшр.8 т. 2001. -447 бит.
- Исхакый Г. Эсэрлэр Унбиш томда / Г. Исхакый.- Казан: Тат. кит. нэшр. 3 т. 2001.- 448 бит.
- Исхакый Г. Эсэрлэр Унбиш томда. Пьесалар (1900−1918) / Г. Исхакый.-Казан: Тат.кит.нэшр.-4 т. 2001.- 495 бит. — /
- Исхакый Г. Зиндан Сайланма проза Ьэм сэхнэ эсэрлэре / Г. Исхакый.-Казан: Тат. кит. нэшр. 1991.- 671 бит.
- Исхакый Г. Сеннэтче бабай. В переводах на русккий, английсский, турецкий языки / Г. Исхакый. Казань: Идель-Пресс, 2003.-140 бит.
- Исхаки Г. Брачный договор. Пьеса в 5-ти действиях. Перевод с татарского Г. С / Г. Исхаки // Заветы (С.-Пб.) 1914 — № 6. — С. 3 -91
- Исхакый Г. Мегаллим / Г. Исхакый.- Казан: Нэшире Абузяров.- 1908.-84 бит.
- Исхакый Г. Мегаллим / Г. Исхакый // Мирас. 1997. № 11 — 67−90 бит- № 12 -39 -92бит.9: Исхакый Г. Ул икелэнэ иде. / Г. Исхакый // Мирас.- 1998.- № 1.-120−148 бит.
- Исхакый Г. Тэржемэи хэлем / Г. Исхакый // Мирас.-2001.-№−7.-61−64 бит.
- Исхакый Г. Ислам мэмлэкэтлэрендэ // Мицнегуллов X. Гаяз Исхакыйнын, меЬанфрелектэге ш^аты.- Казан: Тат.кит.нэшр.2004.-75−137 бит.
- Исхакый Г. Толстойныц татар эдэбиятына тээсире / Г. Исхакый // Мицнегуллов Х. Ю. Гаяз Исхакыйныц меЬащфлектэге идаты, — Казан: Тат.кит.нэшр.-2004.-325−331 бит.
- ИбраЬимов Г. Татар хатыны нилэр курми / Г. ИбраЬимов // Эсэрлэр Сигез томда. Казан: Тат.кит.нэшр. 1 т. 1974. — 233−397 бит.
- Камал Г. Бэхетсез егет //Татар классик драматургиясе Галиаскар Камал, Мирхэйдэр Фэйзи.-Тарих.-2004.- 31−81 бит.
- Г. Камал артистлары Библиографик белешмэ. Тезучесе И.Илялова. Тулыландырылган 2- басма. Артисты театра им Г. Камала Библиографический справочник.-Казан: Тат.кит. нэшр. 2005.- 240 бит.
- Колэхмэтов Г. Яшь гомер / Г. Колэхметов // Сайланма эсэрлэр.-Казан: Тат.кит.нэшр. 1981.-384 бит.
- Вэли Яр. Оят яки куз яше Драма 4 пэрдэдэ / Яр. Вэли. Оренбург, 1902.-66 бит.
- Вэли Яр. Ачлык кушты /Яр. Вэли.- Оренбург: Шэрык, 1908.-35 бит.
- Саттаров Ш. Бэхетсез татар кызы Кайгылы 3 пэрдэдэ / Ш. Саттаров.-Казан. 1911.-45 бит.
- Фэйзи М. Кызганыч / М. Фэйзи // Сайланма эсэрлэр 2 томда.- Казан: Таткнигоизд. 1 т. 1957. 403 бит.
- Татар театры Тулыландырылган 2-нче басма.- Казан: Мэгариф, 2003.-271 бит.
- Татар драматурглары. — Казан: Тат. кит. нэшр. 2007. 380 бит.
- Алексеев В.М. Наука о Востоке / В. М. Алексеев .-М., 1982 .-535 с.
- Амирханов Р.У. Проблемы развития русской культуры в татарской периодической печати (1905−1917): Дис.. доктора ист. наук / Р. У. Амирханов .-Казань, 1997.- 498 с.
- Арсланов Г. М. Татарское режиссерское искусство (1906 1941) / Г. М. Арсланов .-Казань: Тат. книж. изд., 1992 334 с. у
- Бабенко Л.Г. Философский анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа: Учебник для вузов / Л. Г. Бабенко .- М.: Деловая книга, 2004. 462 с.
- Взаимодействие: культур Востока и Запада / Сост.: А. А. Суворова: — М.: Наука, 1987.- 198 с.
- Взаимодействие культур Востока и Запада. Вып. 2.- М.: Наука,.1987.- 168 с.
- Взаимодействие культур народов Поволжья и Приуралья На материале автономных республик Поволжья и Приуралья: Докл. конф.- Казань, 1976. -167 с.
- Валеев Н: М. Гармония культур. Избранные труды / Н. М. Валеев.-Казань: Изд-во Фон, 2001 328 с.
- Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М.: Наука, Главн. редакция вост. литер., 1983 .- 260 с.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира/ Г. Д. Гачев .-М.: Academia, 1968.-430с.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр / Г. Д. Гачев .-М.: Просвещение, 1968 .- 302 с.
- Гей Н. К. Искусство слова / Н. К. Гей .- М., 1967 .- 363 с.
- Грачева И.В. Чехов и художественные искания его времени Учебное пособие к спецкурсу / И. В Грачева.-Рязань. 1991. 88 с.
- Дадамян Г. Г. Театр в культуре России (1914−1917) / Г. Г. Дадамян .-М.: Изд. ГИ’ГИС, 2000. 140 с. 43,44.