Функционально-семантическое поле агентивности / неагентивности в современном русском литературном языке XX — нач.
XXI вв
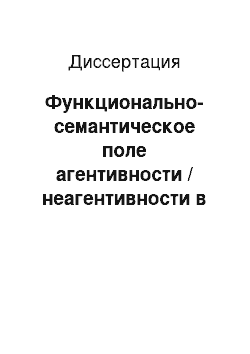
Нужно сказать, что функционально-семантический подход, получивший развитие в 1980;1990;е годы прошлого века (А. Бондарко, Е. Гулыга, Е. Шендельс, Г. Щур, П. Чесноков и др.), по-прежнему актуален. Современные исследователи обращаются к изучению и описанию закономерностей функционирования грамматических единиц во взаимодействии с элементами разных уровней, участвующих в передаче смысла… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Теоретические основы исследования
- 1. 1. Развитие теории поля в лингвистике
- 1. 1. 1. Функционализм- функциональная грамматика А. В. Бондарко и функциональный синтаксис А. Мустайоки- функциональносемантическое поле в языкознании
- 1. 1. 2. Теория функционально-семантических полей А.В. Бондарко- система функционально-семантических полей- ФСП субъектности
- 1. 2. Язык и культура как первооснова лингвокультурологического пространства
- 1. 2. 1. Учение о языке В. фон Гумбольдта и его последователей- язык и картина мира- картина мира XX века
- 1. 2. 2. Концепция парадигм культуры- отражение общекультурных парадигм эпохи в языке
- 1. 2. 3. Язык и ментальность
- 1. 1. Развитие теории поля в лингвистике
- 2. 1. Содержание оппозиции «агентивность/неагентивность" — компоненты семантической структуры „агентивность / неагентивность“
- 2. 2. Общая характеристика функционально-семантического поля агентивности / неагентивности
- 2. 2. 1. Центральные и периферийные компоненты макрополя агентивности
- 2. 2. 2. Центр и периферия макрополя неагентивности
- 2. 2. 3. Ядро и периферия функционально-семантического поля агентивности / неагентивности
- 2. 2. 4. Место ФСП агентивности / неагентивности среди других функционально-семантических полей русского языка
- 3. 1. Общая „сетка“ микрополей функционально-семантического поля агентивности / неагентивности
- 3. 2. Псевдоагенс и псевдоагентивность- микрополе псевдоагентивности
- 3. 2. 1. Лексический уровень микрополя псевдоагентивности как „концептуальный фон“ микрополя
- 3. 2. 2. Грамматический уровень микрополя псевдоагентивности: безличные предложения с семантикой псевдоагентивности как ядерный компонент» микрополя
- 3. 2. 3. Периферия микрополя псевдоагентивности: лексико-грамматический уровень
- 3. 2. 4. Структурно-семантические особенности микрополя псевдоагентивности
Функционально-семантическое поле агентивности / неагентивности в современном русском литературном языке XX — нач. XXI вв (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Настоящая диссертация посвящена исследованию функционально-семантического поля агентивности / неагентивности в современном русском литературном языке.
Сегодня одним из наиболее активно развивающихся направлений в науке является антропоцентрический подход к языку (В. Гумбольдт, JI. Вайс-гербер, Э. Сепир, Б. Уорф, Ю. Степанов, Н. Арутюнова, А. Вежбицкая и др.). В качестве вектора языкового развития выделяется динамика языка в контексте общекультурных процессов эпохи (Е. Покровская и др.). Именно в этом контексте можно сказать, что особенности русской культуры, русского национального характера и специфики русской жизни раскрываются и отражаются в очень важных семантических характеристиках, образующих смысловой универсум русского языка.
В свете современных тенденций оказывается, что в качестве наиболее чувствительного показателя разнообразных картин мира выступает не только лексика, культуроспецифичная для той или иной нации (как это постулировал Э. Сепир), но и грамматические явления. Среди последних особое внимание уделяется безличным предложениям и их этносемантической коннотации (Н. Арутюнова, А. Вежбицкая, 3. Тарланов, О. Сулейманова, В. Павлов и др.). В 1990;е годы зарубежные и отечественные лингвисты активно дискутировали о том, какие особенности менталитета русского народа отражают безличные предложения и можно ли говорить о том, что данные конструкции свидетельствуют о крайнем фатализме русского народа, его пациентивной ориентации, непричастности к ходу событий, истинные причины которых неясны и непостижимы (А. Вежбицкая).
Диссертационное исследование является попыткой сказать новое слово в этой дискуссии с принципиально новых позиций — функционально-семантической направленности.
Нужно сказать, что функционально-семантический подход, получивший развитие в 1980;1990;е годы прошлого века (А. Бондарко, Е. Гулыга, Е. Шендельс, Г. Щур, П. Чесноков и др.), по-прежнему актуален. Современные исследователи обращаются к изучению и описанию закономерностей функционирования грамматических единиц во взаимодействии с элементами разных уровней, участвующих в передаче смысла высказывания. Это предполагает возможность языкового анализа не только в направлении от формы к значению, но и в направлении от значения к форме. Такой подход отражает не формальные классификации одноуровневых языковых явлений, а сложное, диалектическое взаимодействие элементов разных уровней языковой системы, в которое они вступают при выражении наиболее важных понятийных категорий. Наиболее подходящим для реализации этого подхода представляется методологический принцип, базирующийся на концепции функционально-семантического поля (ФСП).
Так, тщательная проработка семантики компонентов макрои микрополей функционально-семантического поля агентивности / неагентивности может сгладить острые углы в дискуссии о крайнем фатализме и иррациональности носителей русского языка. Мы также обращаем внимание на то, что активное функционирование безличных предложений и появление новых лексем с семантикой безличности на протяжении всего XX столетия связано не столько с особенностями менталитета русского народа вообще, сколько с новой парадигмой культуры прошлого века (Ф. Ницше, Д. Чижевский, Д. Лихачев, А. Якимович, Е. Покровская), оказавшей огромное влияние и на развитие языка.
Тем самым актуальность нашего исследования обусловливается соединением функционально-семантического подхода с антропоцентрическим подходом к изучаемому объекту.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые делается попытка выделить в современном русском языке функционально-семантическое поле агентивности / неагентивности, его макрои микрополя и проанализировать микрополе псевдоагентивности в виде целостной системы разноуровневых средств выражения семантики псевдоагентивностив частности, большое внимание уделяется безличным конструкциям как ядру исследуемого микрополя. Функционально-семантическое поле, его структурно-семантические участки и входящие в их состав конституенты в лингвокуль-турологическом аспекте анализа также рассматриваются впервые.
Объектом исследования являются функционально-семантическое поле агентивности / неагентивности и одна из его структурных подсистеммикрополе псевдоагентивности в лингвокультурологическом освещении, а его предметом — активное развитие в рамках этого поля в контексте русской языковой картины мира, общекультурных парадигм эпохи, то есть в лингвокультурологическом освещении, конструкций с семантикой агентивности / неагентивности.
Цель исследования — выделение, изучение и описание функционально-семантического поля агентивности / неагентивности в системе полей русского языка и анализ микрополя псевдоагентивности, который служит доказательством того, что рассматриваемое микрополе является культуроспеци-фичным образованием в русской языковой картине мира.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
1) охарактеризовать семантическую структуру «агентивность/ неаген-тивность»;
2) выдвинуть и обосновать гипотезу существования функционально-семантического поля агентивности / неагентивности в современном русском литературном языке;
3) вычленить макрои микрополя в рамках функционально-семантического поля агентивности / неагентивности;
4) выделить микрополе псевдоагентивности из общей «сетки» микрополей функционально-семантического поля агентивности / неагентивности;
5) дать комплексную характеристику данному культуроспецифично-му для русского языка полю.
Для решения этих задач в работе использовались следующие методы:
— метод семантико-контекстуального и компонентного анализа;
— полевое структурирование;
— сравнительно-сопоставительный метод (при разграничении микрополей, а также различных полевых конституентов);
— метод лингвокультурологического анализа;
— метод интерпретативного анализа;
— метод трансформационного анализа (в отдельных случаях).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Агентивность и неагентивность — семантические доминанты, характеризующие русскую языковую картину мира, в пространстве которой представлены агенс и не-агенс как две разные семантические роли, отвечающие активной и пассивной ориентациям русского семантического универсума. В семантическую структуру агентивности / неагентивности входят актанты — существенные припредикативные элементы положения дел и предикаты (и их семантические подтипы), образующие ту или иную коммуникативно-семантическую сферу положения дел.
2. В русском языке существует функционально-семантическое поле агентивности / неагентивности, конституируемое взаимодействующими языковыми средствами (лексическими, грамматическими и т. д.), объединенными общностью семантических функций, принадлежащих к области агентивных / неагентивных отношений, то есть отношений, содержание которых определяется ролями участников ситуации (агенса / не-агенса) и их предикативными характеристиками в рамках того или иного положения дел.
3. В функционально-семантическом поле агентивности / неагентивности выделяется два одноименных макрополя, которые охватывают средства современного русского литературного языка, используемые для выражения агентивных / неагентивных отношений. Данные структуры распадаются на микрополя, соответствующие семантическим функциям актантов.
4. Выбор микрополя псевдоагентивности из общей «сетки» микрополей функционально-семантического поля агентивности / неагентивности обусловлен тем, что его характеризуют, с одной стороны, лингвокультуроло-гические доминанты (неагентивность / псевдоагентивность и взаимодействующие с ней пациентивность, экспериенсивность, элементивность и лока-тивность), псевдоагентивная концептосфера (псевдоагенс, который включает в свой состав «стихию», «волю», «силу», «энергию» и другие неагентивно ориентированные концепты) — с другой стороны — микрополе состоит из взаимодействующих единиц разных уровней языка, в ряду которых доминирующей является грамматическая структура — безличное предложениеи в-третьих, компоненты микрополя псевдоагентивности вписываются в концепцию парадигм культуры XX века, поскольку безличные предложения отражают характерные, в частности, для антитрадиционной культурной парадигмы черты (иррациональность, хаос, неконтролируемость и пр.).
5. Микрополе псевдоагентивности представляет собой семантическую структуру в рамках макрополя неагентивности (и шире — в пространстве функционально-семантического поля агентивности / неагентивности) с центральным актантным компонентом псевдоагенсом, семантическая роль которого выявляется в таком положении дел, где событие (действие) осуществляется силой, оторванной от своего создателя (собственно силой, неконтролируемой стихией, энергией, судьбой, волей и производных от них семантем) и способной «зарядить» энергией объект-посредник (орудие), имеющий форму творительного падежа со значением стихийного воздействия.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что теоретические выводы диссертации вносят вклад в разработку функционально-семантического поля и в изучение агентивных и неагентивных конструкций. Новый подход к исследованию будет способствовать развитию лингвокуль-турологического подхода к учению о функционально-семантическом поле.
Практическая ценность исследования состоит в возможности использования его результатов в вузовских курсах грамматики русского языка, истории русского языка, лингвокультурологии, этносемантики и когнитиви-стики. Предложенная методика исследования может быть применена и при изучении других функционально-семантических полей.
Материал исследования включает более чем 1500 примеров, извлеченных методом сплошной выборки из произведений художественной прозы и публицистики. Источниковедческой базой работы послужили произведения русских писателей XX — нач. XXI вв., газетные и журнальные статьи того же периода, а также языковой материал передач центрального телевидения 2006;2007 года выпуска и информация, размещенная на интернет-сайтах.
Апробация работы. Результаты исследования были представлены в виде докладов на межвузовской научной конференции «Функционально-системный подход к исследованию языковых единиц разных уровней», посвященной юбилею д.ф.н., проф. 10. Н. Власовой, в г. Ростове-на-Дону в 2004 г., на Всероссийской научной конференции «Язык как система и деятельность», посвященной 80-летию проф. Ю. А. Гвоздарёва, в г. Ростове-на-Дону в 2005 г., на Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики», посвященной 85-летнему юбилею проф. А. Я. Загоруйко, в г. Ростове-на-Дону в 2005 г., на Международной научной конференции «Концептуальные проблемы литературы: художественная ког-нитивность» в г. Ростове-на-Дону в 2005 г., а также основные положения и идеи данного исследования получили отражение в 11 публикациях (2004 -2007 гг.).
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и библиографии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Антропоцентрический подход к явлениям языка позволяет выявить культуроспецифичность не только явления в целом (например, такого сложного образования, как функционально-семантическое поле), но и его составляющих (макрополей, микрополей и их конетитуентов), что позволяет детализировать языковую картину мира, обнаруживая в ней новые «оттенки» известных явлений. Плодотворным представляется примнение антропоцентрического подхода к полевому описанию языковых единиц. «Дополнительные смыслы» выявляются в отношениях языковых единиц друг с другом, а взаимодействие компонентов различных пластов языка, как известно, характеризует функционально-семантическое поле как многоуровневую структуру.
Функционально-семантический анализ в чистом виде на сегодняшний день имеет более ограниченную исследовательскую базу и перспективы, нежели в объединении с лингвокультурологическим подходом при решении той или иной лингвистической проблемы. Поэтому в нашей работе мы, используя важнейшее понятие функциональной грамматики — функционально-семантическое поле, чаще прибегаем к понятийному аппарату, принцпам и путям исследования не функциональной грамматики (А.В. Бондарко), а функционального синтаксиса (А. Мустайоки). Последнее направление всячески поощряет проведение «экспериментов», выходящих за рамки лингвистики в чистом виде (имеется в виду лингвокультурологический аспект анализа).
Итак, в диссертации было выявлено и исследовано функционально-семантическое поле агентивности / неагентивности и, в частности, одна из его важнейших подсистем — микрополе псевдоагентивности, которое представляет собой семантическую структуру в рамках макрополя неагентивности (и еще шире — в пространстве ФСП А/Н) с центральным актантным компонентом псевдоагенсом. Семантическая роль последнего выявляется в таком положении дел, где событие (действие) осуществляется силой, оторванной от своего создателя (собственно силой, неконтролируемой стихией, энергией, судьбой, волей и производных от них семантем) и способной «зарядить» энергией для реализации действия некий объект-посредник (орудие), имеющий значение творительного стихийного воздействия.
Особую значимость имеет именно это микрополе, потому что эта псевдоагентивная структура наиболее показательна в связи с объединением двух актуальных и перспективных подходов в лингвистике. Нужно заметить, что огромная роль в обособлении и пристальном внимании именно к микрополю псевдоагентивности обусловлена исследованием безличных конструкций, которые являются, на наш взгляд, ядром микрополя. Кроме своей куль-туроспецифики в пространстве русской картины мира, данные синтаксические структуры активны в современном русском литературном языке: количественный и качественный рост безличных предложений можно проследить на протяжении всего XX столетия и в начале XXI века.
Еще раз подчеркнем, что одно из основных свойств функционального подхода — распределение языковых средств по семантическим функциям — ведёт к образованию комплексов языковых средств различных структурных уровней языка. Тем самым мы можем говорить о том, что важным преимуществом функционального подхода перед другими методами исследования является его межуровневый характер, что позволяет использовать его в рассмотрении лингвокультурологических категорий (семантических доминант) с возможностью разностороннего изучения их не только в языке, но и в картине мира.
Так, в работе был рассмотрен ряд таких семантических доминант, как агентивность, неагентивность, псевдоагентивность, культуроспецифичность последней (по сравнению с общими идеями агентивности и неагентивности) не вызывает сомнений. Необходимость детального исследования обозначенных выше семантических структур обусловила выбор подхода их изучения.
В рамках функционально-семантического поля агентивности / неагентивности и микрополя псевдоагентивности мы выявили ряд концептов, являющихся культуроспецифичными для русской лингвокультуры, и отметили, что они выполняют определённые функции, например, в презентации семантики псевдоагентивности, то же самое можно сказать о грамматических единицах, рассмотренных в рамках полевых структур.
Конструкции, которые посредством безличных глаголов, личных глаголов и предикативных наречий, слов категории состояния отражают свойственную русскому народу «пассивную ориентацию», не являются «пережитками в речи», а продолжают отражать зависимость пациенса / экспериенсера от некой стихийной силы (энергии, стихии, судьбы и т. д.), подчас воздействующей на него.
Безличные предложения продолжают пополнять лексический словарь русского языка посредством инновационных образований не только глагольного, но и наречного характера. Они вписываются в поэтапную организацию развития русского синтаксиса XX века и включаются в процессы общекультурных парадигм XX столетия. Они являются наиболее характерными для неклассической общекультурной парадигмы, разрушающей представления о традиционном понимании явлений жизни, когда внешние факторы способны управлять человеком и многие события неясны и непостижимы, так как именно они представляют человека не как агенса, способного контролировать события и управлять их ходом, а как неволитивного пациенса, который сам подвержен контролю, причем контролю некой стихийной силы, может быть, судьбы, но никак не собственной воли.
Лингвокультурологический анализ безличных предложений органично вписывается в изучение идеи псевдоагентивности в современном русском языке, потому что именно безличные предложения, будучи семантико-грамматическим центром микрополя псевдоагентивности, наиболее ярко и полно отражают весь комплекс семантических нюансов, присущих интересующей нас категории.
Исследование в контексте семантики агентивности / неагентивности разных языковых единиц позволило выдвинуть следующее предположение и его обоснование: в русском языке существует функционально-семантическое поле агентивости / неагентивности, представляющее собой группировку лексических и грамматических (морфологических и синтаксических) средств русского языка, служащих для выражения различных вариантов семантики агентивности / неагентивности.
В пространстве анализируемого поля активно функционирует микрополе псевдоагентивности, в основе которого лежит псеводагентивностькультуроспецифичная для русского языка категория, заключающая в своей семантике ряд идей, которые представляют русскую картину мира (неконтролируемость действия (состояния) агенсомиррациональностьидею непредсказуемости мирапассивная позиция человека в его взаимоотношениях с внешней средойдетерминированность мироустройства.
Главный актант микрополя — псевдоагенс — неагентивный актант, семантическая роль которого выявляется в таком положении дел, где событие (действие) осуществляется силой, оторванной от своего создателя (и поэтому она представлена как бы не имеющей создателя вообще или создатель по разным причинам не обозначен).
Представляется, что данное исследование является первым шагом на пути изучения таких интересных и неоднозначных культуроспецифичных для русского языка категорий, как агентивность, псевдоагентивность, неагентивность (пациентивность, эксериенсивность, элементивность и др.). Например, анализ выделенного нами в рамках микрополя псевдоагентивности эле-ментивного псевдоагентива видится чрезвычайно актуальным как в рамках изучения русской языковой и ментальной картин мира, так и в направлении исследования отдельных концептов, входящих в состав данной структуры (концепт «стихия» и его производные).
Перспективы дальнейшего исследования видятся в нескольких направлениях.
Суть первого заключается в комплексном изучении функционально-семантического поля (и ряда микрополей, составляющих его структуру) с привлечением обширного иллюстративного материала: с расширением стилевых рамок (имеется в виду использвание в качестве практической части работы конструкций из разговорной речи, научного и официально-делового стилей), а также расширение хронологических рамок (обращение к языковым и культурным процессам XIX века, прошедшего под эгидой классической общекультурной парадигмы, но предвосхищающего — например, в творчестве Ф. М. Достоевского — лингвокультурологические процессы XX века).
Второе направление может быть представлено выбором одной из категорий и монографического анализа. К примеру, категорию агентивности можно разобрать в сравнительно-сопоставительном аспекте, сопоставив ее культуроспецифику в русском и, к примеру, английском языках. Анализ псевдоагентивности можно было бы провести в разрезе взаимодействия псевдоагентива с пациентивом, экспериенсивом, элементивом и локативом.
Наконец, третьим путем исследования мог бы стать компонентный анализ в рамках той или иной семантической структуры, ключевыми компонентами которой выступили бы не актанты, а предикаты и их семантические подтипы, которые, взаимодействуя с тем или иным актантом, играют ведущую роль в положении дел. Например, предикатная сфера псевдоагентивной структуры, ее функционально-семантические и лингвокультурологические особенности могли бы лечь в основу дальнейшей работы.
Список литературы
- Ахматова А. Стихи и проза. Грозный, 1986.
- Белый А. Петербург, // СС в 2-х тт. М., 1990.
- Белый А. Серебряный голубь: Повести, роман. М., 1990.
- Битов А. Рассказы, // СС в 2-х тт. М., 1991.
- Битов А. Книга путешествий. М., 1993.
- Благой Д. От Кантемира до наших дней // СС в 2-х тт. М., 1973.
- Бондарев Ю. Горячий снег: Роман. Калининград, 1980.
- Булгаков М. Мастер и Маргарита. М., 1988.
- Булгаков М. Романы. Кишинёв, 1987.
- Бунин И.А. Повести. Рассказы. Ростов-на-Дону, 1982.
- Васильев И. Крестьянский сын. М., 1987.
- Власов Ю. Шурочка // «Дон», 1990, № 5, с. 3−31.
- Гришковец Е. Планка. Рассказы. М., 2006.
- Ерофеев В. Записки психопата. Москва-Петушки. М., 2000.
- Леонов Л. Пирамида, 2тт. М., 1996.
- Маканин В. Рассказы. М., 1989.
- Маяковский В. СС в 2-х тг. М., 1987−88.
- Пастернак Б. Доктор Живаго. М., 1989.
- Робски О. День счастья завтра. — М., 2005.
- Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. М., 2007.
- Яшин А. Вологодская свадьба // Земляки. М., 1989.
- Комсомольская правда, 1917.1. Огонек, 2006.1. Правда, 1917−1932,1952.
- Программы телеканала НТВ, 2006−2007.
- Программы телеканала ОРТ, 2006−2007.
- Программы телеканала DTV, 2006.
- Абрамов В.П. Синтагматика семантического поля (на материале русского языка). Ростов-на-Дону, 1992. — 107 с.
- Азаренко С.А. Топология культуры. М., 2003. — 250 с.
- Алефиренко Н.Ф. Синергетика культурного концепта и знака в системе языка и текстах // Культурные концепты в языке и тексте. Белгород, 2005.-С. 8−21.
- Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания, 1993, № 3.- С. 15−26.
- Антология концептов / под ред. Карасика В. И., Стернина И. А. М., 2007.-512 с.
- Апресян Ю.Д. Избранные труды. Тома I и II. М., 1995. — 367 е., 399 с.
- Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка: автореф. дис. доктора филологических наук. Минск, 1983. — 30 с.
- Арват Н.Н. Стилистика безличных предложений в современном русском языке. Черновцы, 1969. — 176 с.
- Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике. М., 1977. -297 с.
- Арутюнова Н.Д. Основные вопросы общего языкознания. М., 1959. — 101с.
- Арутюнова Н.Д. О синтаксических типах художественной прозы // Общее и романское языкознание. М., 1972.- С. 188−199.
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976. — 383 с.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт. -М., 1988.-338 с.
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека // Языки русской культуры. -М., 1999.-896 с.
- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М, 1966. — 606
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.-416 с.
- Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977.-800 с.
- Белошапкова В. А. Муравенко Е.В. Способы выражения инструментального значения в русском языке // Русский язык за рубежом, 1985, № 6. -С. 25−37.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. — 447 с.
- Бердяев Н. Русская идея (основные проблемы русской мысли конца XIX и начала XX века), Париж, 1946. 215 с.
- Бермант А.В. Краткий курс математического анализа. М., 1965. -663 с.
- Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. -Л., 1977.-204 с.
- Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971. -116 с.
- Бондарко А. В. Теория морфологический категорий. Л., 1976. — 255с.
- Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983. — 208 с.
- Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л., 1984. — 136 с.
- Булыгина Т.В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997. — 446 с.
- Булыгина Т.В. Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980. — 367 с.
- Буслаев Ф.И. Русские пословицы и поговорки, собранные и объяснённые. М, 1954. — 432 с.
- Бюлер К. Теория языка. М., 1993. — 498 с.
- Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. М., 1993. — 469 с.
- Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000. -416 с.
- Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003. — 280 с.
- Валимова Г. В. Функциональные типы предложений. Ростов-на-Дону, 1967.- 175 с.
- Васильев JI.M. Теория семантических полей // Вопросы языкознания, 1975,№ 5.-С. 105−113.
- Васильев Л.М. Семантико-функциональные поля в лексике и грамматике.-Л., 1990.-247 с.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997. — 416 с.
- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. -М., 2001. -288 с.
- Виноградов В.В. Русский язык. М., 1947. — 784 с.
- Власова Ю. Н., Загоруйко А. Я. Семантическое поле слова // Функционально-системный подход к исследованию языковых единиц разных уровней: Межвузовская конференция. Ростов-на-Дону, 2004. — С.45−51.
- Володин, А.П. Лицо // Большой энциклопедический словарь: Языкознание. М., 1998.- С.378−385.
- Воронина Д. Д. О функции и значении семантического субъекта в строе русского предложения // Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. М., 1976. — 191 с.
- Всеволодова М.В., Дементьева О. Ю. Проблемы синтаксической парадигматики: коммуникативная парадигма предложений. М., 1997. — 316 с.
- Галкина-Федорук Е. М. Безличные предложения в современном русском языке.-М., 1958.-331 с.
- Галкина-Федорук Е. М. Наречие в современном русском языке. М., 1939.- 156 с.
- Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988. — 448 с.
- Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1952. — 336
- Глаголева Н.М. Функционально-семантическое поле обращения в современном русском языке: Дис. канд. филол. наук. -М., 2005. 183 с.
- Григорян E.JI. Действие и деятель // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992. — С.98−100.
- Гугунава Д.В. Функционирование иноязычных словоэлементов в современной речи // Мир русского слова, 2003, № 2.- С.55−59.
- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. — 398 с.
- Гурвич А.Г. Теория биологического поля. М., 1944. — 456 с.
- Демьянков В.З. Семантические роли и образы языка // Язык о языке / Под ред. Н. Д. Арутюновой. М.- 2000. — С. 193−270.
- Жидков B.C., Соколов К. Б. Искусство и картина мира. СПб, 2003. -255 с.
- Зализняк Анна А. Контролируемость ситуации в языке и жизни // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992.- С.138−145.
- Зализняк Анна А. О семантике щепетильности (обидно, совестно и неудобно на фоне русской языковой картины мира) // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000. — С. 67−79.
- Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия. М., 2000. С.90−141.
- Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992. 221 с.
- Зененко М.А. Функционально-семантическое поле акциональности в современном португальском языке: Изъявительное наклонение: Дис.. канд. филол. наук. М., 2006. — 187 с.
- Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. -М., 1973.-351 с.
- Золотова Г. А. О субъекте предложения в современном русском языке // Филологические науки, 1981, № 1. С. 100−120.
- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.-289 с.
- Золотова Г. А. Синтаксический словарь. М., 1988. — 399 с.
- Карасик В.И., Прохвачева О. Г., Зубкова Я. В., Грабарова Э. В. Иная ментальность. М., 2005. — 276 с.
- Карпенко JI.A. Краткий психологический словарь. М., 1985. — 225 с.
- Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988. — 356 с.
- Касевич В.Б. Труды по языкознанию. М., 1992. — 354 с.
- Категория субъекта и объекта в языках различных типов. JL, 1982. -299 с.
- Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. JL, 1972. -402 с.
- Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. -М., 1992.-259 с.
- Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. М., 2005. -189 с.
- Колесов В.В. Язык и ментальность. СПб., 2004. — 240 с.
- Копров В. Ю. Сопоставительная типология предложения. Воронеж, 2000.- 187 с.
- Крысин JL П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998. — 329 с.
- Лакуны в языке и речи: Сборник научных трудов / Под ред. проф. Ю. А. Сорокина, проф. Г. В. Быковой. Благовещенск, 2005. — Вып.2. — С.45−59.
- Лекант П.А. К вопросу о категории безличности в русском языке // Тенденции развития грамматического строя русского языка. М., 1994. -С.80−89.
- Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1986. — 279 с.
- Лихачев Д.С. Русская культура в духовной жизни мира // Русский язык за рубежом, 1996, № 6. С. 16−27.
- Логический анализ языка: ментальные действия. М., 1993. — 725 с.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек текст — семиосфе-ра — история. — М., 1999. — 678 с.
- Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. — 537 с.
- Малахова О.А. Функционально-семантическое поле вопросительно-сти в современном русском языке: Дис.. канд. филол. наук. М., 2005. -181 с.
- Маликова М.Н. Функционально-семантическое поле противопоставленности в русском языке: Дис. канд. филол. наук. Таганрог, 2001. — 175 с.
- Маслова В. А. Лингвокультурология. М., 2001. — 162 с.
- Матезиус В. О системном грамматическом анализе // Пражский лингвистический кружок.-М., 1967.-с. 128−145.
- Мельникова А.А. Язык как фактор образования / Инновации и образование: Сборник материалов конференции. Серия «Symposium». СПб., 2003.-Вып.29.-С. 34−43.
- Мельчук И.А. О синтаксическом нуле // Типология пассивных конструкций, под ред. А. Холодовича. Л., 1974. — С. 127−144.
- Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса. М., 2006. — 512с.
- Недобух С. А. Когнитивно-коммуникативная категория личности -безличности. М., 2000. — 167 с.
- Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1982. — 320 с.
- Новое в русской лексике. Вып. 8. Словарные материалы 84. — М., 1989.- 180 с.
- Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка. Петербург, 1908.-312 с.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. — 750 с.
- Павлов В. М. Противоречия семантической структуры безличных предложений в русском языке. Санкт-Петербург, 1998. — 220 с.
- Павлов В.М. Субъект в безличных предложениях // ТФГ. Субъект-ность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / Неопределенность. СПб, 1992. — С. 139−157.
- Павлова М.Н. Функционально-семантическое поле фазовости в русском и чувашском языках: Дис. канд. филол. наук. М., 2005. — 179 с.
- Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. М., 1974. — 245 с.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. -М., 1985.-278 с.
- Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996. — 365 с.
- Петрова Е.Г. Функционально-семантическое поле познания в современном русском языке: Дис. канд. филол. наук. М., 2005. — 169 с.
- Пешковский A.M. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.-459 с.
- Покровская Е. А. Динамика русского синтаксиса в XX веке (лингво-культурологический анализ), // Диссертация. Ростов-на-Дону, 2001. — 438 с.
- Полякова Т.В. Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: Дис. канд. филол. наук. М., 2005. — 177 с.
- Попова З.Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира. -Воронеж, 2002. 320 с.
- Попова М.В. Функционирование семантического поля «звук» в современном русском языке: Дис. канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2002. -198 с.
- Потебня А. А. Мысль и язык. Издание 4-е. Одесса, 1922. — 469 с.
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. — 477с.
- Прагматические и семантические аспекты синтаксиса. Сборник научных трудов / Отв. ред. Сусов И. П. Калинин, 1985. — 190 с.
- Предложение в русском языке: структура, семантика, функционирование. Омск, 1985. — 230 с.
- Пупынин Ю.А. Безличный предикат и субъектно-объектные отношения в русском языке // Вопросы языкознания, 1992, № 1. С.27−36.
- Радченко О.А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Т.1.- М., 1997. 315 с.
- Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. М., 1988.-350 с.
- Роменская М.Ю. Функционально-семантическое поле запрета в современном русском языке: Дис. канд. филол. наук. -М., 2003. 170 с.
- Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Осипова Г. В. -М., 1998.-470 с.
- Руднев А. Г. Односоставные предложения. Лекция из курса «Синтаксис современного русского языка». Ленинград, 1957. — 199 с.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1998. — 350 с.
- Русская грамматика. Т. 1−2. -М., 1980. 787 с.
- Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: Вып. первый / Брилева И. С., Вольская Н. П., Гудков Д. Б., Захаренко И. В., Красных В. В. М., 2004. — 360 с.
- Рылов Ю.А. Аспекты языковой картины мира: итальянский и русский языки. М., 2006. — 310 с.
- Савенкова Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты: монография. Ростов-на-Дону, 2002. — 420 с.
- Семантическая структура предложения. Ростов-на-Дону, 1978. -166 с.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.-395 с.
- Сепир Э. Язык. М., 1934. — 222 с.
- Скобликова Е. С. Современный русский язык. М., 1979. — 388 с.
- Слюсарева Н. А. Проблемы функциональной морфологии современного английского языка. М., 1986. — 315 с.
- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977. — 430 с.
- Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. М., 1990. — 397 с.
- Степанов Ю. С. Изменчивый «образ языка» в науке XX века // Язык и наука конца XX века. М., 1995. — С. 22−35.
- Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981. — 280с.
- Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры Опыт исследования. М., 1997. — 355 с.
- Ступак Е.С. Функционально-семантическое поле утверждения в современном русском языке: Дис. канд. филол. наук. М., 2005. — 180 с.
- Сулейманова О. А. Проблемы русского синтаксиса: Семантика безличных предложений. М., 1999. — 234 с.
- Сусов, И. П. Семантическая структура предложения. Тула, 1973. -145 с.
- Сусов, И. П. Семантика и прагматика предложения. Калинин, 1980.- 188 с.
- Талалай А.А. Функционально-семантическое поле единства двух действий одного субъекта в современном русском языке (на материале простого предложения): Дис. канд. филол. наук. Таганрог, 2004. — 178 с.
- Тарланов З.К. К сравнительному изучению синтаксиса жанров (на материале русского фольклора) // Филологические науки. 1977, № 6 — С. 3341.
- Тарланов З.К. Русское безличное предложение в контексте этнического мировосприятия // Филологические науки. 1998, № 5−6. — С. 11−18.
- Тарланов З.К. Язык и культура. Петрозаводск, 1984. — 120 с.
- Твердохлёб О. Г. Субъектная сфера как неоднородное языковое явление // Синтаксис предложения: актуальные проблемы. Орёл, 2001. — С.22−34.
- Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость / под ред. А. В. Бондарко. Санкт-Петербург, 1991. — 352 с.
- Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определённость. Неопределённость / под ред. А. В. Бондарко. Санкт-Петербург, 1992. — 370 с.
- Тильман Ю.Д. Культурные концепты в языковой картине мира (поэзия Ф.И. Тютчева): автореферат дис. кандид. филол. наук. М., 1999. — 28 с.
- Толстая С.М. Глаголы судьбы и их корреляты в языке культуры // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. — С.56−67.
- Толстой Н. И. Язык и культура // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991. — С.25−32.
- Тулина А.В. Семантическая специфика имени орудия и особенности его функционирования // Филологические науки, 1976, № 6. С.9−17.
- Уляшева Я. О. Функционально-семантическое поле определённости неопределённости в русском языке: Дис.. канд. филол. наук. — Таганрог, 2002.- 168 с.
- Уорф Б. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып.1. М., 1960. -С.27−47.
- Филичева Н.И. Синтаксические поля. М., 1977. — 345 с.
- Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10.-М., 1981. -С.45−61.
- Фрумкина P.M. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога // НТИ. Сер. 2 Информационные процессы и системы. Ежемесячный научно-технический сборник. -1992. № 3. — С.33−41.
- Фрумкина P.M. Об отношениях между объектами и методвами изучения в современной семантике // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979. — С.56−77.
- Фрумкина P.M. Есть ли у современной лингвистики своя эписте-миология? // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. — С. 12−22.
- Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979. -367 с.
- Храковский В. С. Пассивные конструкции // теория функциональной грамматики. Персональность, залоговость. Санкт-Петербург, 1991. -С. 156−179.
- Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. — 420 с.
- Чейф У. Л. Значение и структура языка. М., 1975. — 430 с.
- Человек как субъект культуры / Отв. ред. Сайко Э. В. М., 2002. -270 с.
- Черкасова Т. В. Функционально-семантическое поле атрибутивности в современном русском языке: Дис.. канд. филол. наук. Таганрог, 1999. -175 с.
- Чернейко JI.O. Имя Судьба как объект концептуального и ассоциативного анализа // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. — 1996, № 9. — С.55−62.
- Чесноков П. В. Типы функционально-семантического поля как языковые универсалии // Функционально-системный подход к исследованию языковых единиц разных уровней: Межвузовская конференция. Ростов-на-Дону, 2004. -С.112−115.
- Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М., 1941. — 460 с.
- Шведова Н.Ю. Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм // Вопросы языкознания, 1973, № 4. -С.15−23.
- Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. М., 1974. — 266 с.
- Электронная энциклопедия «Кругосвет» // www.krugosvet.ru
- Энциклопедия «Русский язык», под ред. Ю. Н. Караулова. М., 1997. -495 с.
- Язык и наука к. XX века. М., 1995. — 356 с.
- Языковая концептуализация действительности. -М., 1997. 412 с.
- Якимович А. Парадигмы XX века // Вопросы искусствознания. -1997, № 2. -С.120−132.
- Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985.-389 с.
- Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994. — 297 с.
- Ямшанова В.А. О разграничении синтактико-семантических понятий орудия, средства, способа осуществления действия // Лингвистические исследования. М., 1978. — С.39−53.
- Ярцева В.Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968. — С.22−35.