Проза Е. И. Замятина: Поэтика русского национального характера
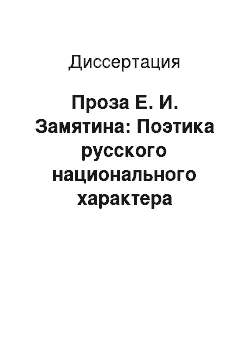
В этот период наблюдался своеобразный взрыв интереса деятелей отечественной культуры к произведениям, которые бы тесно смыкались с фольклором, с художественно-эстетическими традициями народного творчества. Ярким национальным колоритом пронизаны работы М. А. Врубеля («Царевна-Лебедь»), В. М. Васнецова («Баян», «Витязь на распутье»), Б. М. Кустодиева («Ярмарка», «Купчиха», «Масленица»), Н. К… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Русский характер как предмет художественного осмысления в «северных» произведениях Е.И. Замятина
- 1. «Кряжи», «Африка», «Север», «Ёла» как «северно-русская» тетралогия
- 2. Фантасмагоричность времени и пространства в рассказе «Дракон»
- 3. Островитяне Замятина и Голсуорси
- Глава II. Национально-поэтический колорит женских образов в «космогонических» произведениях Е. И. Замятина («Чрево», «Сподручница грешных», «Мы», «Рассказ о самом главном», «Наводнение»)
Проза Е. И. Замятина: Поэтика русского национального характера (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Творческое наследие Е. И. Замятина (1884−1937) сегодня привлекает пристальное внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей, и, пожалуй, из всех «возвращенных» русских писателей именно ему отдано предпочтение. За последнее десятилетие научный интерес к этому оригинальному художнику слова не только не угас, но продолжает нарастать [1].
Изучением феномена замятинского творчества занимаются А. Ю. Галушкин, Т. Т. Давыдова, H.H. Комлик, М. Ю. Любимова, О. Н. Михайлов, Ю. Б. Орлицкий, Л. В. Полякова, И. М. Попова, Е. Б. Скороспелова, А.Н. Стри-жев, В. А. Туниманов, И. О. Шайтанов, Л. Геллер (Швейцария), Р. Гольдт, Л. Шеффлер, В. Шмид (Германия), В. Супа (Польша), Ж. Хетени (Венгрия), С. Хойсингтон, Т. Лахузен, Е. Максимова, Э. Эндрюс (США) и другие исследователи. Они представляют сегодня целую самостоятельную область отечественной и зарубежной литературоведческой науки — «замятиноведение» .
В Тамбове, Санкт-Петербурге, Лозанне регулярно проходят международные замятинские симпозиумы, активно издаются коллективные научные труды: «Autour de Zamiatine: Actes du Colloqoe Universite de Lausanne» (Lausanne, 1989) — «Творчество Евгения Замятина» (Тамбов, 1992) — «Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: В VI книгах» (Тамбов, 1994, 1997) — «Новое о Замятине» (М., 1997). Вышли монографии и учебные пособия Т. Т. Давыдовой, Б. А. Ланина, Л. И. Шишкиной, С. А. Голубкова, Т. Лахузен, Е. Максимовой и Э. Эндрюс, Р. Рассела, Р. Гольдта, Н. В. Шенцевой, И. М. Поповой, защищены докторские (С.А. Голубков, И.М. Попова) и кандидатские (М.А. Резун, О. В. Зюлина, Ло Ли Вей, И. М. Курносова, Ким Се Ил, Т. А. Майорова, Н.З. Кольцова) диссертации (см. V раздел «Библиографии»).
Опубликованы указатели замятинских произведений и научно-исследовательских работ о нем, составленные А. Ю. Галушкиным «Возвращение» Е. Замятина. Материалы к библиографии (1986;1995)" и «Материалы к зарубежной библиографии Е. И. Замятина (1925;1995)» — А. Н. Стрижевым «Произведения Е. И. Замятина» и «Библиография» — Л. П. Поймановой, Н. С. Растокиной «Е.И. Замятин» — Г. Б. Буяновой, С.А. Ко-сяковой, О. В. Нечаевой «Е. И. Замятин: Материалы к библиографии. Часть I» (см. VI раздел «Библиографии»). Однако развитие замятиноведения существенно замедляет отсутствие академического собрания сочинений писателя.
На страницах работ о Е. И. Замятине исследуются вопросы его уникальной поэтики, особенности творческой эволюции, традиции и новаторство художника-" еретика", предлагаются оригинальные интерпретации отдельных произведений писателя, оценивается вклад мастера в историю русской и мировой литературы.
Однако менее всего, как это ни странно, разработана проблема национальной выразительности творческого наследия Е. И. Замятина. Чрезвычайно живучими остаются некоторые штампы и стереотипы, выработанные еще некоторыми современниками писателя. Один из них — утверждение о сильной зависимости художника от европейской традиции, в свое время ярко сформулированное М. Горьким: Замятин пишет, «как европеец, изящно, остро, со скептической усмешкой» [2]. Отмечал «европеизм» писателя К. Федин: «Выверенность, точность построения рассказов Замятина сближали его с европейской манерой.» [3]. К. И. Чуковский полагал, что «он (Замятин. — Н.Ж.) изображает из себя англичанина.» [4].
Количество современных работ о романе «Мы» в контексте идей Д. Кампанеллы, Т. Мора, Г. Уэллса, Б. Келлермана, Б. Сандрара, Д. Пэрри, А. Франса, Б. Шоу, Ч. Диккенса, Э. Золя, Новалиса, Э. Гофмана и других западных художников огромно. «Замятин — один из немногих в русской литературе „европейских“ писателей-интеллектуалов» [5], — пишет сегодня О. Н. Михайлов. Ему как будто вторит Л. Геллер, отмечая, что «замятинские сюжетные приемы, его ирония — мало характерны для сугубо русского стиля» [6].
Е.И. Замятин несколько лет прожил вдали от родины, писал на европейские сюжеты и темы, пристально интересовался произведениями зарубежных писателей, мыслителей, ученых, испытывал их довольно сильное влияние. Чаще всего он был весьма оригинален в собственных формально-поэтических и философско-теоретических поисках, не вмещавшихся в общепринятые представления о русской классике. Неоднократно призывал своих коллег учиться некоторым приемам словесного творчества у западных художников. Говорил, что может писать по-английски с такой же легкостью, как и по-русски. Внешне поддерживал имидж «англичанина»: одевался со всей европейской изысканностью и по последней моде.
Всё так. И тем не менее, Замятин всегда был и оставался до конца своих дней национально мыслящим и национально выраженным художником. В фундаменте его творчества — русская жизнь, православные, культурные, нравственно-этические основы бытия русского народа, его яркий и непосредственный характер. Важно и признание самого Замятина: «Если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией — больше не мог бы писать» [7]. Только хорошо знавший и хорошо чувствовавший русского человека, русский народ писатель мог сказать такие слова: «Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется разрушая. Русскому человеку нужны были. особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи» [8].
Нельзя сказать, чтобы современники Е. И. Замятина не замечали его «русскости». Уже после выхода в свет первых произведений писателя критик Р. Григорьев констатировал: «В голосе молодого художника прежде всего и громче всего слышится боль за Россию. Это — основной мотив его творчества, и со всех страниц немногочисленных произведений Замятина ярко и выпукло проступает негодующий лик нашей родины — больная запутанность русской „непутевой“ души, кошмарная и гибельная беспорядочность нашего бытия и тут же рядом жажда подвига и страстное искательство правды.» [9]. А. Ремизов, знавший Замятина лучше других, на его возвращение из Англии тонко отреагировал: «Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно русская. Прозвище: „англичанин“. Как будто он и сам поверил — а это тоже очень русское. Внешне было „прилично“ и до Англии. и никакое это не английское, а просто под инженерную гребенку, а разойдется — смотрите: лебедянский молодец с пробором!» [10]. Еще один современник «лебедянского молодца», В. Шкловский, писал: «В России его называли „англичанином“, но английская в нем была, пожалуй, только его трубка» [11].
Нельзя однозначно утверждать, что в современной науке о Замятине не подмечено это открытое проявление индивидуальности художника. JI.B. Полякова, например, видит в замятинских произведениях «свой угол зрения, свой предмет исследования. И этот предмет — Россия, подчеркнуто русский человек, русский характер» [12]. Она же вступает в полемику с JI. Геллером, отмечая, что «именно следствием неразработанности проблемы национального контекста замятинского наследия можно считать спорное утверждение JI. Геллера о том, что «Островитяне», «Ловец человеков», даже «Мы» «написаны как бы на вненациональном языке» [13]. A.C. Сва-ровская сегодня подчеркивает «пристальный интерес» писателя «к глубинным процессам, происходящим в толще народного сознания», который «был направлен как на поиски в русском национальном характере позитивных начал, непреходящих жизненных ценностей, так и на трезвое постижение его противоречий, загадок и слабостей» [14]. Р. Гольдт, размышляя об эмиграционном периоде замятинского творчества, приводит слова А. Штейнберга, полностью с ними соглашаясь: «Один из директоров немецкой кинематографической фирмы, который интересовался произведениями Замятина и читал их на немецком языке, сказал ему: «Вы очень русский, вас нельзя приспособить к нашей жизни» [15].
Однако национальные приоритеты, национальная выраженность Замятина до сих пор не стала предметом специального развернутого исследования. Тезисное обозначение проблемы дается в работах B.C. Бондарь, О. Н. Влалимишва. H.H. Сталыгиной И TT Яковлевой Г16]. А между тем л. s X у. L J ' w без изучения национального колорита творческого наследия такого писателя, как Замятин, невозможно в полной мере оценить особенности его художественной системы, общей идейно-эстетической концепции, уникальность творческого почерка художника. Обращенностью к этой проблематике определяется актуальность диссертационного исследования «Проза Е. И. Замятина: поэтика русского национального характера» .
К постижению вопросов общечеловеческого бытия писатель шел через художественный анализ русской национальной жизни и русского характера, используя опыт предшественников и современников, опираясь на собственные представления о нравах, обычаях, традициях, идеалах своего народа, на знания его культуры. И в этом плане Е. И. Замятин развивался в едином русле преобладающих тенденций русского искусства первой трети XX века.
В этот период наблюдался своеобразный взрыв интереса деятелей отечественной культуры к произведениям, которые бы тесно смыкались с фольклором, с художественно-эстетическими традициями народного творчества. Ярким национальным колоритом пронизаны работы М. А. Врубеля («Царевна-Лебедь»), В. М. Васнецова («Баян», «Витязь на распутье»), Б. М. Кустодиева («Ярмарка», «Купчиха», «Масленица»), Н. К. Рериха («Святогор», «Вещий Боян»), К.С. Петрова-Водкина («Мать», «Богоматерь Умиление злых сердец», «Микула Селянинович», «Степан Разин»), Н.К. Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок», «Сказание о граде Китеже»), И. Ф. Стравинского («Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная»), С. С. Прокофьева («Скифская сюита»), C.B. Рахманинова («Утес», «Весна», «Колокола»), А. К. Глазунова («Стенька Разин»), С. Т. Конёнкова («Нике», «Старичок-полевичок», «Стрибог»), Ф. О. Шехтеля (Ярославский вокзал), A.B. Щусева (Казанский вокзал, памятник-ансамбль на поле Куликовом. МаосЬо-Мавиинская обитель" «.
А Ж, А /.
В начале столетия в продолжение деятельности Ф. И. Буслаева,.
A.Н. Афанасьева, А. Н. Веселовского, П. А. Бессонова, A.C. Ермолова выходят труды собирателей и исследователей народной мудрости: A.A. Коринфского «Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев, пословиц русского народа» (1901) и «В мире сказаний. Очерки народных взглядов и поверий» (1905), Г. Попова «Русская народно-бытовая медицина» (1903), C.B. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903), Н. Новомбергского «Колдовство в Московской Руси XVII столетия» (1906), И. В. Ягича «История славянской филологии» (1910), Е. В. Аничкова «Язычество и Древняя Русь» (1914), Н. Гальковского «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси» (1913;1916), Д. К. Зеленина «Очерки русской мифологии» (1916). В 1914 году были переизданы «Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева.
Обращались к фольклору и национальной мифологии и писатели.
B.А. Келдыш справедливо отмечает, что «в системе ценностей нашей предоктябрьской литературы одна из самых непререкаемых — народнонациональный характер» [17]. Черпали творческое вдохновение в этнографических странствиях по Русскому Северу М. М. Пришвин и A.M. Ремизов. Написал оригинальную работу «Поэзия заговоров и заклинаний» и стихотворный цикл «Пузыри земли», насквозь пронизанные духом народной эстетики, A.A. Блок. С. М. Городецкий выпустил имевшую огромный успех книгу стихов «Ярь» (1907), в которой были созданы языческие образы славянской старины, Б. А. Садовский издал книгу стихов «Самовар» (название говорит само за себя), А. Белый, Ф. Сологуб, М. Горький, А. И. Куприн, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, С.Н. Сергеев-Ценский в своем творчестве также обращались к богатейшей художественной сокровищнице народного искусства.
В отечественном литературоведении многое сделано для исследования творческих контактов писателей XX века с народной культурой [18]. Однако чаще всего угол зрения ученых ограничивается абстрактно-эстетическими или идеологическими констатациями культурно-семантических, художественно-фольклорных, литературно-этнографических формальных связей. Вопрос о конкретном поэтическом воплощении литературой именно национального характера так, как он был поставлен русской философией начала XX века, например, H.A. Бердяевым в его работах о Достоевском, почти не поднимался. А ведь русский характер с его тайнами, парадоксами и очарованием манил к себе и не отпускал творческую волю художников на протяжении столетия. Замятин не стал здесь исключением.
Материалом исследования является проза Е. И. Замятина. Основной акцент в диссертации сделан на изучение произведений двух хронологически развивающихся циклов: «северного» («Кряжи», «Африка», «Север», «Ёла», «Дракон», «Ловец человеков», «Островитяне») и «космогонического» («Чрево», «Сподручница грешных», «Мы», «Рассказ о самом главном», «Наводнение»). Их идейно-художественная структура и стала объектом исследования.
Другие прозаические циклы — сказки, «чудеса», так называемые «русские повести» («Уездное», «На куличках», «Алатырь»), особенно ценные для постижения национальной выраженности поэтики писателя, сознательно оставлены за рамками работы по двум причинам: высокая степень их изученности [19] и ограниченный объем диссертации.
Цикличность — неотъемлемое свойство всей замятинской художественной системы. Она проявляется как на микроуровне каждого произведения писателя: композиционном, образном, словесном, звуковом, жанровом и т. д., так и на макроуровне, когда завершенные самостоятельные творения художника, объединенные исследователями в циклы по определенной заявленной ппоблеме только в этом единстве способны продемонстрировать ее разрешение. A.M. Стрельцов справедливо отмечает: «.произведения Замятина часто слагаются в целое, не открываемое в каждом отдельном произведении, взятом порознь» [20].
Циклы в художественном мышлении писателя представляют собой своеобразный строительный материал, из которого слагается вся философ-ско-эстетическая концепция Е. И. Замятина, в основе которой лежит его известная идея об «интегральном образе» .
Предметом изучения в диссертации стала поэтика русского национального характера в прозе Е. И. Замятина. В процессе исследования данной проблемы пришлось столкнуться с существенным препятствием: отсутствием единого определения двух ее ключевых понятий — «поэтика» и «национальный характер». В связи с этим представляется необходимым уточнить понятийный аппарат диссертации.
В основе термина «поэтика» лежит его современное общее понимание как системы художественных средств выражения в литературных произведениях, отдельные теоретические аспекты которой рассматриваются в трудах М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, М. Б. Храпченко и других ученых. В данной работе опорной выбрана точка зрения В. В. Виноградова на поэтику как науку «о формах, видах, средствах и способах словесно-художественного творчества, о структурных типах и жанрах литературных произведений» [21].
Несмотря на то, что до сих пор не выработано единое определение термина «национальный характер», правомерность его употребления как научной категории сегодня не подвергается сомнению. В работах К. Касьяновой, А. Лубского представлены оригинальные пути решения этого вопроса, но наиболее убедительной и приемлемой является, видимо, точка зрения Б. Ф. Сикорского, который делает вывод, что «национальный характер представляет собой целостную систему со свойственной ей иерархией качеств, черт, доминирующих в побуждениях, образе мыслей и действий. в культуре и стереотипах поведения, свойственных данной нации» [22]. В диссертации это определение взято в качестве исходного. Философское, нравственно-психологическое насыщение понятия осуществлено с опорой на труды великих знатоков «онтологии русской души»: A.C. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Вл.С. Соловьева, H.A. Бердяева, H.A. Ильина, С. Н. Булгакова, Н. О. Лосского, П. А. Сорокина, Л. Н. Гумилева.
Национально выраженный склад характера героев Е. И. Замятина в данной работе рассматривается в качестве частного случая художественного характера, через который раскрываются как авторская гуманистическая концепция, так и исторически сложившийся тип поведения русского человека (поступки, мысли, стремления, чувства, идеалы, мечты, переживания, речь).
Целью диссертационного исследования является осмысление художественно-семантической специфики прозы Е. И. Замятина через анализ особенностей поэтического воплощения характера русского человека и образа русской жизни в произведениях писателя, имеющих циклическую завершенность. С этим связаны и основные задачи исследования:
— выявить и сформулировать черты, характеризующие национальную самобытность Замятина-художника, сформировавшие его творческую индивидуальность;
— проследить эволюцию художественной системы и представлений Е. И. Замятина о природе русской души на протяжении основных периодов его творческого пути;
— обосновать циклический характер замятинских произведений, обладающих наиболее яркой национальной выразительностью;
— предложить иную, в сравнении с имеющимися, интерпретацию некоторых произведений, образов, жанров, приемов писателя, в том числе малоисследованных.
Целью и задачами обусловлен выбор метода исследования, в основе которого — синтез системного, сравнительно-типологического, структурного, историко-функционального, текстологического, семантического подходов.
Выдвигаемая в диссертации историко-литературная гипотеза заключается в следующем: выразительность Замятина-художника обусловлена контекстом традиций национальной жизни. Характерные для всего творческого наследия писателя циклы «северных» произведений и «космогонической» прозы отмечены пристрастием автора к лирико-драматическим сюжетам, напряженно-событийным конфликтам и коллизиям, символически насыщенному хронотопу, многоплановой композиции, «звукописи» и «цветописи», обращением к былинным мотивам, к конкретным приемам устного народного творчества, к духовным канонам русского православия, образам-архетипам, к страстным мужским и женским характерам, вниманием к идейно-тематическому постоянству, подтексту и названиям произведений.
Теоретико-методологическая база исследования создавалась с учетом самых разных научных концепций, отраженных в трудах российских и зарубежных замятиноведов, представителей разных литературоведческих школ: А. Ю. Галушкина, Л. Геллера, Р. Гольдта, Т. Т. Давыдовой, В. А. Келдыша, Г. Керна, О. Н. Михайлова, Л. В. Поляковой, Е. Б. Скороспеловой, В. А. Туниманова, И. О. Шайтанова, А. Шейна, Л. Шеффлер и других, а также в работах критиков — современников писателя: А. Воронского, Р. Григорьева, В. Полонского, В. Шкловского.
В диссертации использованы научно-поэтические и теоретические системы, представленные в трудах С. С. Аверинцева, М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, В. В. Кожинова, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Ю. В. Манна, П. В. Палиевского, В. Я. Проппа, Ю. Н. Тынянова.
Учтен опыт работы кафедры истории русской литературы Тамбовского университета над замятинской проблематикой.
Автор пытался аргументировать основные основные положения, выносимые на защиту:
1. Художническая индивидуальность Е. И. Замятина складывалась под сильным влиянием народных нравственно-философских представлений о добре и зле, любви и ненависти, жизни и смерти в русле традиций национальной культуры, национальных духовных и эстетических идеалов.
2. Произведения Е. И. Замятина, отмеченные яркой национальной художественной выразительностью, как правило, имеют циклический характер, формирующий целостные идейно-художественные системы писателя.
3. Анализ ведущих характеров и средств их поэтического воплощения в «Кряжах», с одной стороны, в «Африке», «Севере», «Ёле», с другой, позволяет говорить не о «северной» трилогии, как это принято в современном замятиноведении, а о цельной, вполне завершенной «севернорусской» тетралогии, в основе которой тематическое, образно-художественное, народно-поэтическое единство. Национальная же выразительность художественного типа в «Драконе», созданного чутким пером Е. И. Замятина, особенности авторского взгляда и почерка в «Ловце человеков» и «Островитянах» не только раздвигают жанрово-видовые границы «северного» цикла, но эмоционально и эстетически насыщают, обогащают его.
4. Обращенный к образу русской женщины, обычно чрезвычайно внимательный к передаче бытовых деталей в жизни своих героев, к их взаимоотношениям, Замятин создает совершенно уникальный и самостоятельный «космогонический» цикл произведений («Чрево», «Сподручница грешных», «Мы», «Рассказ о самом главном», «Наводнение»), в котором.
ТГ"П-Ж-РГ>гГИ/РгГ ¦Ж-еТТГ.ТСПЯ ияия ПП тгатг ЛРИГПрд ц-атттдптто гт^ипгл V/V д. V ^ V лли ХМУЛЧ/ V/ ^ ж ж ЧУ, А Х АХСЧ"' А X/ X Д. V V-/ IV!? ^ VIV V" •.
5. Е. И. Замятин национально самобытен и характерен даже в тех произведениях, которые написаны им на материале зарубежной жизни («Островитяне», «Ловец человеков»), с подчеркнуто всемирными сюжетами и конфликтами («Мы»).
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении национального начала как доминирующего и основополагающего в формировании поэтики Е. И. Замятина, в процессе становления творческой индивидуальности этого художника. Такой угол зрения позволяет оценить уникальность творческого почерка писателя, выйти на новый уровень осмысления его прозы именно в контексте традиций народной культуры, разрушить многочисленные мифы о Замятине-" европейце" и таким образом о подражательности или вторичности многих его художественных решений [23].
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно определяет конкретные особенности оригинальной поэтики Е. И. Замятина, специфику создания циклов, жанров, сюжетостроения, принципов построения образов.
Практическое значение работы связано с возможностью использования ее результатов в качестве комментариев при подготовке академического собрания сочинений Е. И. Замятина, при разработке курса лекции по истории русской литературы XX века, спецкурсов и спецсеминаров на филологических факультетах.
Апробация исследования осуществлялась на Вторых и Третьих международных Замятинских чтениях (Тамбов, 1994, 1997), на конференциях молодых ученых Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина (1998, 1999), на заседаниях кафедры истории русской литературы ТГУ им. Г. Р. Державина. Результаты исследования использовались на занятиях по курсу «Теория литературы» и на аспирантском семинаре для студентов. Основные положения диссертации изложены в восьми публикациях.
Структура работы включает введение, две главы («Русский характер как предмет художественного осмысления в „северных“ произведениях Е.И. Замятина» и «Национально-поэтический колорит женских образов в „космогонических“ произведениях Е. И. Замятина („Чрево“, „Сподручница грешных“, „Мы“, „Рассказ о самом главном“, „Наводнение“)»), заключение и библиографию, состоящую из 242 наименований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Творческой манере Е. И. Замятина свойственно пристрастное внимание к ключевым вопросам национальной жизни, проблеме русского характера, анализу темных и светлых сторон национального бытия, к осмыслению места и роли России в судьбах мира. Обнаружена своеобразная эволюция взглядов писателя на национальный характер, в основе своей противоречивый и обуреваемый неземными страстями. Выявлена основа его национально выраженной поэтики: традиции славянской мифологии, устного народного творчества, народной культуры, русского искусства, русской философии и литературы.
Есть все основания для расширения понятия «северные» произведения Е. И. Замятина, которые в силу своей неоднородной специфики логично отдельно исследовать как северно-русские, петербургские и английские («островные»).
Северный" цикл в творчестве писателя открывает «севернорусская» тетралогия («Кряжи», «Африка», «Север», «Ёла»), объединенная темой Русского Севера, за которым исторически закрепилась репутация исконно русского региона России. Национальное начало в тетралогии является доминирующим и ярко выраженным с точки зрения ее художественных особенностей. Анализ «Кряжей», «Африки», «Севера», «Ёлы» дает возможность говорить об интересе Замятина к жизни Русского Севера как об одном из аспектов русской темы в его творчестве.
Рассказ «Кряжи» выполняет функцию преамбулы, без которой нельзя осмыслить основную часть цикла — «беломорскую» трилогию («Африка», «Север», «Ёла»). Он прямо предшествует ей, являясь источником образного и идейно-философского осмысления в ней русского национального характера. Кроме того, рассказ «Кряжи» открывает не только цикл произведений о Русском Севере, а целый идейно-художественный пласт в творчестве писателя — «северную» тему.
Поэтика «Кряжей» пронизана великолепием северно-русского колорита, на который никогда ранее в критике не обращалось внимание. Система образов, язык, стиль произведения подчинены общим канонам, бытующим в устном народном творчестве, но доминирующими все же являются былинные мотивы, обусловленные исторической, природной, социальной спецификой края. Замятин таким образом существенно обогатил ту страницу русской литературы, которая связана с сюжетами и мотивами национального эпоса.
Иван да Марья — главные герои рассказа — выразительные русские типы мужского и женского характеров былинного богатырского склада. Они воплощают в себе национальный идеал союза мужчины и женщины. Е. И. Замятин изображает прекрасный внутренний мир народных героев, опираясь на традиционные представления о «русской», как определял Гоголь, любви. Жанр «Кряжей» можно назвать «лирической былиной». Здесь проявляется новаторское решение писателя, его преодоление и обогащение традиции.
Былинным канонам подчинены система образов произведения (прием идеализации), композиция (зачин, завязка действия, развитие действия, кульминация и исход), язык (специфические эпитеты, сравнения), ритм повествования. Как языку, так и композиции рассказа свойственны традиционные эпические приемы: повторы, ретардации. Былинные мотивы встречи, испытания, дороги Е. И. Замятин использует в «Кряжах» в полном объеме.
Через народный язык писатель проникает в глубины национального образа мышления, который видится ему в синтезе чувства и древних архетипов поведения. По народным нормам языка, в синтаксисе рассказа отсутствуют причастные и деепричастные обороты. Просторечия и диалектизмы не затрудняют его понимания.
Хронотоп рассказа «Кряжи» опирается, прежде всего, на законы древней художественной реальности — былинной, где время и пространство открыто условны и всецело подчинены законам художественным, а не физическим.
В «Кряжах» писатель мастерски воссоздает яркие черты русского характера: страстность, максимализм, душевность, поэтичность, безрассудство, цельность, готовность к подвигу, бескорыстие.
В трилогии «Африка», «Север», «Ёла» ее северно-русская специфика предельно конкретизируется и сужается до беломорской: культурной, исторической, эстетической, социальной, пейзажной, языковой. Произведения трилогии связаны общностью идейного замысла, сюжетно-тематической и художественной преемственностью, а также единым типом героя с ярко выраженными чертами русского национального характера.
Главной особенностью цикла является его единая, национально выраженная поэтика, во многом обусловленная особенностями местного колорита. Созданные Замятиным замечательные народные характеры богатырского типа напоминают первых покорителей этого сурового края: духовно прекрасных, физически сильных, отчаянно мечтающих о «новой прекрасной жизни». В трилогии наблюдается законченное обобщение мужских характеров русского склада во всей их непостижимости и противоречивости. Она представляет собой цикл своеобразных вариаций на тему любви и мечты: в «Африке» внезапно вспыхнувшая любовь сливается с мечтой о ней, в «Севере» любовь и мечта выступают антагонистами, в «Ёле» сама мечта становится предметом настоящей любви. Лиричность также является отличительной чертой всех «северно-русских» произведений Е. И. Замятина.
Песенно-лирическое начало главенствует в поэтическом строе рассказа «Африка». В каждой из четырех главок произведения песенные образы-мотивы варьируются, но основная мелодия остается прежней. Русская душа Федора Волкова становится предметом художественного исследования, философского осмысления и просто предметом авторского восхищенного любования ее нежными, чуткими переливами. Выявляется преемственность лирических мотивов в «Африке» и «Кряжах» .
Жанр «Севера» в диссертации определяется как лирическая повесть. Ее название выражает суть такого уникального явления, как Русский Север, органично соединяя в себе природные, социальные, духовные, культурные и даже социально-экономические реалии края. Композиция «Севера» динамична, близка к искусству кино, монтажа.
Доминирующей чертой характера Марея — главного героя повестиявляется страстность, которая идет от богатырских образов русских былин, от образов «кряжистого» Ивана и Федора Волкова из «Африки». Образные и символичные отголоски роковой ночи на Ивана Купалу, когда Марей впервые услышал о чудесном «фонаре-солнце», пронизывают всю поэтику «Севера». Любовь и мечта разделились в судьбе Марея, стали антагонистами при всем сходстве их страстной природы. Образ Пельки — возлюбленной Марея — олицетворяет саму любовь и природу одновременно.
Север" - это единственное произведение «беломорской» трилогии, где показана многокрасочная история взаимной любви мужчины и женщины от ее прекрасного начала до трагического конца. Любовь — единственная сила, которая противостоит мечте, губящей душу и жизнь главных героев. В повести представляется возможным вывести символическую «формулу русской любви» в творческой интерпретации Замятина.
Стремление Марея к всеобщему, отвлеченному благоденствию и нежелание удовлетвориться собственным, реальным, близким и дорогим счастьем в очередной раз приводит русского человека к душевной и личностной катастрофе, после которой жить уже нельзя.
Язык повести «Север» совершенен с художественной точки зрения. Особенно интересна характерная антропонимика «Севера», имена-образы: Марей, Пелька, Кортома, Кортомиха, Иван Скитский, Иван Романыч, Мат-рена-Плясея. Чрезвычайно поэтичными являются русские названия ветров, которые придают неповторимую лиричность повествованию.
Рассказ «Ёла» — один из лучших рассказов Е. Замятина позднего периода. Он является своеобразным итогом поисков писателя как в области общей философии, так и в объемах художественной формы. Рассказ особенно интересен с точки зрения своей поэтической структуры. В этом произведении Замятин, опираясь на традиции русского фольклора, использовал принцип цикличности в изображении человеческой судьбы, отождествляя ее с мечтой главного героя (рождение ёлы, ёла-невеста, ёла-ковчег смерти). Монументальная метафоричность и интегральность образа ёлы в сочетании с приемом троичности (три части в рассказе, три буквы в слове «ёла», три года Цыбин копил деньги на ёлу) создают мощный идейно-художественный эффект. ла" имеет характер итогового произведения как «беломорской» трилогии, так и всей «северно-русской» тетралогии. Она впитала в себя лучшие художественные достижения «Кряжей», «Африки», «Севера». Ито-говость «Ёлы» оценивается в диссертации в контексте всего творчества писателя.
В «беломорской» трилогии Замятин показал «в разрезе» «абсолютную» русскую душу во всем величии страстей, смелости устремлений и безграничности потенциальных возможностей. Образы Волкова, Марея, Цыбинапоэтичны и глубоко национальны. «Африка», «Север», «Ёла» — произведения, различные по жанру, времени написания, даже по своей художественной выразительности и значимости, но тем не менее они объединены схожими типами героев-мечтателей, которые отрицают настоящее во имя прекрасного будущего, что в данном случае служит основной характеристикой типа национального героя.
В цикле «северных» произведений Е. И. Замятина рассматривается также рассказ «Дракон», в центре которого находится образ Петербурга -" северной столицы России". В этом произведении писатель впервые обращается к петербургской теме.
Петербург, несмотря на все его европейские изыски, — очень русский город. Душа северной столицы, уже с момента ее основания, изначально несет в себе революционное начало. Е. И. Замятин, точно следуя петербургской традиции русской литературы, поддерживает вывод о том, что только в самом бредовом, противоречивом, безумном, больном городе России могла осуществиться наяву самая великая национальная грезарусская революция.
Основными средствами создания образа революционной эпохи писателем избраны художественное время и художественное пространство. Они обладают единой отличительной чертой — фантасмагоричностью.
Рассказ «Дракон» — пожалуй, одна из первых попыток писателя найти новые координаты в литературном пространстве, не забывая при этом попутно пересечь старые, давно известные плоскости традиций русской национальной культуры: мифологию, литературу, философию.
В связи с «Островитянами» и «Ловцом человеков», «островными» произведениями, в диссертационной работе обращается внимание на национальную самобытность Е. И. Замятина как художника, который не утратил ее даже в самых «нерусских» по материалу — английских произведениях. В них писатель вновь затрагивает тему Севера, но на этот раз западноевропейского, резко отличного от русского.
В диссертации проводится сопоставительный анализ одноименных произведений Д. Голсуорси и Е. И. Замятина с целью наглядного выявления национальных пристрастий их авторов. На основании этого анализа опровергается мнение некоторых исследователей о «вненациональном» стиле «Островитян» и «Ловца человеков». Русский писатель Е. И. Замятин и на этот раз отразил быт и нравы англичан с позиций национально выраженного художника и в лучших традициях русской классики.
Во второй главе «Национально-поэтический колорит женских образов в „космогонических“ произведениях Е. И. Замятина („Чрево“, „Сподручница грешных“, „Мы“, „Рассказ о самом главном“, „Наводнение“)» женщина предстает центром русского национального микрокосма и средоточием всей Вселенной. В произведениях «Чрево», «Сподручница грешных», «Мы», «Рассказ о самом главном», «Наводнение» Замятин выступает как глубоко русский, национально выраженный художник. Он продолжает традиции русской литературы, которая именно за женщиной оставляет приоритеты высшей духовности, истинной любви, святости земного бытия.
В произведениях Е. И. Замятина находит отражение распространенная в русской философии начала века идея Вл. Соловьева о Вечной Женственности. Писатель развивает эту идею через постижение сложного мира кажущихся противоречий и несовместимостей в глубинах женской души. Таким образом Замятин пытается приблизиться к разгадке тайны женского подсознания, интуиции. С этой целью Замятин вплетает в ткань своих художественных произведений мотивы славянских мифов и образы, которые запечатлели естественное «природное» мышление русского человека. По наблюдению писателя, такое мышление сегодня присуще только женщине.
Наряду с фольклором и славянской мифологией, Е. И. Замятин обращается к истории русской духовной культуры, органично совместившей в себе языческое и христианское начала. Русский образ мира, по оценке Е. И. Замятина, — женственный образ. Символический круг «Мать сыра-земляБогородица — Россия» замыкается на русской женщине. Именно в ее сложной, противоречивой душе писатель искал ключ к разгадке русской души, к пониманию устройства всего Русского Космоса.
Только женщины у Замятина сохраняют первозданную связь человека со всей Вселенной. Именно от женщины идет осознание человеком мировой гармонии, осознание себя частью этой гармонии. Замятин у истоков будущего просветления и одухотворения мира видел женщину. Только через нее мужская «рационалистичная» культура способна приобщиться к тайнам космического бытия.
Своеобразным лейтмотивом через весь цикл проходит тема чрева из одноименного произведения Е. И. Замятина. Сам акт рождения новой жизни провозглашается в рассказе священным. Покушение на нее расценивается как смертный грех, преступление против нравственных основ бытия. Природные ритмы, описанные в «Чреве», в точности совпадают с душевным и физическим состоянием, главной героини, Афимьи. В ее образе, созданном Замятиным в духе славянской мифологической традиции, тесно перекликающейся с богородичной, узнаются черты русского национального характера.
Рассказ «Сподручница грешных» отражает состояние духовной культуры русского народа в период послереволюционных событий 1918 года. Писатель сталкивает проблемы сиюминутного нравственного выбора (ма-наенские мужики) и нравственного выбора всей жизни (мать Нафанаила). В заглавие рассказа вынесено имя иконы Богоматери, которого не существует в действительности. От настоящего оно отличается только одной буквой «д», которая в корне при этом меняет смысл настоящего названия: «Споручница грешных». Уже в заголовке рассказа как бы задано смысловое сплетение целого ряда художественных приемов: алогизм, оксюморон, аллюзия, паронимия, которые в полном объеме реализуются в тексте произведения.
Каждое из значений словосочетаний «сподручница грешных» и «споручница грешных» находит свое разрешение на двух уровнях художественной структуры рассказа: мнимом и истинном. На первом уровне, пронизанном едкой иронией, происходят преступные деяния манаенских мужиков, на втором — вершит добро, справедливость мать Нафанаила, чей образ почти тождествен богородичному.
Образ Богоматери в произведении является монументальным образом-архетипом, одним из системообразующих элементов всей замятинской поэтики. В понятие «матери» писатель вкладывает какой-то высший, абсолютный смысл, из которого проистекают все остальные понятия человеческого и космического бытия: жизнь, любовь, добро, красота. Мать Нафанаила есть живое олицетворение высшего проявления человеческой любвижертвенной материнской, символизирует которую Богородица.
Рассказ насыщен символами Пресвятой Девы Марии. Е. И. Замятин через многочисленные художественные детали сближает образы матери Нафанаилы и Богородицы, подчеркивает их святую слитность, спаянность материнских, вечно страдающих сердец.
Фоника рассказа характеризуется многочисленными звуковыми повторами, аллитерациями и ассонансами, которые составляют ритмическую основу произведения и одновременно усиливают яркость зрительных образов. Особенность живописи рассказа состоит в том, что она преобладающе иконописная. Цветовая гамма, касающаяся непосредственно образа матери Нафанаилы, повторяет цветовую палитру иконы «Споручница грешных» .
Женские образы романа «Мы» — 1−330 и 0−90 — сложны для прочтения, как и сам роман. Характерно, что именно женщины противостоят Государственной Машине Единого Государства.
0−90 — это единственный образ произведения, которому Замятин оставляет возможность дальнейшей эволюции через рождение ребенка. Она носительница постоянного замятинского розового цвета женственности, материнства и детскости. С образом 0−90 писатель связывает свои надежды на будущее, на жизнь, любовь, добро.
Образ 1−330 вызывает много споров среди современных исследователей: они высказывают порой полярные точки зрения. 1−330 — политический лидер, стратег мощной оппозиционной организации. Свою космическую энергию Вечной Женственности она направила на созидание жизни в самом страшном из человеческих обществ — тоталитарном государстве.
1−330 — идеал человеческой личности в идейно-художественной концепции Замятина. Она — «еретичка», носительница божественного духа. В философском отношении ее образ близок к образу Иисуса Христа. Здесь художник по-прежнему глубоко национален при обращении к общечеловеческим жизненным реалиям. Он, как и все русское искусство начала века, искал пути художественного осмысления образа Христа в контексте грядущей революционной эпохи.
Роман «Мы» специфичен в жанровом отношении. Он представляет собой конспект математика Д-503, написанный инженером Замятиным. Поэтому расшифровка математических образов и ассоциаций главного героя помогает многое прояснить в художественной системе романа, в его математическом подтексте, скрытом от непрофессионалов. В своем произведении художник предпринял удачную попытку вложить математические положения в ассоциативные образы искусства, добиваясь тем самым заветного синтеза точной науки с философией, историей, религией, эстетикой. История и теория математики органично растворяются в художественной системе романа, который находится в русле всеобщего интереса русского искусства начала XX столетия к так называемым «комплексным числам», перевернувшим в свое время все представления об устройстве Вселенной.
Согласно такому математическому подходу, 1−330 и есть «комплексное число», стоящее в своем развитии на порядок выше обыкновенных действительных чисел. Ей нет и не может быть места на «координатной прямой» Единого Государства. Она деятельная, революционная ипостась Вечной Женственности, обращающая вспять неизбежные процессы энтропии в человеческом обществе и во всей Вселенной.
Е.И. Замятин глубоко национален при обращении к общечеловеческим жизненным реалиям. Этот факт подтвержден анализом «Рассказа о самом главном», в котором русская революция является удачным фоном, оттеняющим национальные идеи романа «Мы». В рассказе проблемы человеческого бытия рассматриваются через призму исторической судьбы России.
Следует особо отметить своеобразную композицию «Рассказа о самом главном», который построен по канонам христианского учения о духе, душе и теле, отражающем тройственную структуру реальности.
В рассказе вечный мир сиреневого куста — «Древа Жизни» — мир женщины. По верованиям древних славян, душа дерева — это женское начало. Сирень (рай-дерево) в сочетании с материальным предметом культакаменной бабой является в рассказе атрибутом Вечной Женственности.
Наводнение в архитектонике одноименного произведения писателя является генеральным образом-символом, «проинтегрировавшим» всю его художественную систему. Оно совершенно с точки зрения формы и цельности поэтической структуры. Образ наводнения заключает в себе тройную метафору: природное наводнение, наводнение в душах людей, наводнение в общественно-политической жизни России.
Наводнение" - одно из лучших произведений Е. И. Замятина. Это своеобразная «лебединая песня» его любви к России, его беспокойство о судьбе родины, его молитва о ее возрождении.
В произведениях Е. И. Замятина «Чрево», «Сподручница грешных», «Мы», «Рассказ о самом главном», «Наводнение» наиболее символичен синтетический образ Матери, который в зависимости от контекста трансформируется в образы Богоматери-Богородицы, Матери-земли, Матери-природы.
Расположенные в хронологической последовательности «Чрево», «Сподручница грешных», «Мы», «Рассказ о самом главном», «Наводнение» раскрывают авторскую динамичную концепцию развития и утверждения жизни как самой большой ценности космического порядка.
В процессе изучения поэтики национального характера в творчестве Е. И. Замятина помимо уже определившихся реалий и закономерностей обозначилась и проблематика для новых поисков в этом направлении. В частности, в эстетике и художественном мире писателя многое может раскрыть исследование петербургской темы в его творчестве, проблемы жанровой специфики замятинских произведений, а также решение вопроса о национальной самобытности художника в сравнении с теми писателями, чье творчество совершенно очевидно оказывало влияние на философско-художественные изыскания «англичанина из Лебедяни»: Ч. Диккенса, Г. Уэллса, Б. Шоу, Д. Голсуорси, Б. Сандрара, Б. Келлермана.
Постановка и исследование проблемы русского национального характера и его поэтики в творчестве Е. И. Замятина — своевременны, актуальны и перспективны.