Фрески церкви св. Георгия в Старой Ладоге: древнерусская живопись второй половины XII века и византийские традиции
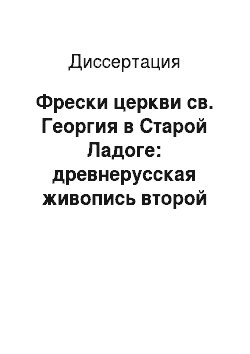
Подчеркнутый ригоризм новгородского искусства, явно подпитываемый неофитскими настроениями, особенно отчетливо проявившись здесь с середины XII столетия, находит выражение уже в росписях башни Георгиевского собора Юрьева монастыря (около ИЗО) и особенно в Мирожском соборе (около 1140) — самом строгом и аскетичном памятнике своего времени. К середине столетия эти тенденции, вероятно, абсолютно… Читать ещё >
Содержание
- Введение
- Стр
- Глава I. История церкви св. Георгия, ее изучение и реставрация Стр
- Глава II. Иконографическая программа фресок Георгиевской церкви и система росписи древнерусских храмов середины — второй половины XII века Стр
- Глава III. Стилистические основы фресок Георгиевской церкви и византийская монументальная живопись второй половины XII века Стр
Фрески церкви св. Георгия в Старой Ладоге: древнерусская живопись второй половины XII века и византийские традиции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Взаимоотношение культуры Византии и местных художественных школ, формирующихся на периферии византийского мира, остается одной из наиболее злободневных тем современной медиевистики. Для Руси этот процесс приобретает особую актуальность во второй половине XII века, когда на смену Киеву, игравшему до этого роль безусловной культурной столицы Русского государства, поднимаются новые центры, в которых быстро начинают формироваться свои традиции. Новгород в этом отношении представляет собой наиболее яркое явление, поскольку в его искусстве довольно рано проявились местные черты, и в то же время его культура активно впитывала новые импульсы, идущие из Константинополя. К концу XII в. здесь уже существует своя самобытная художественная культура, которая чутко реагирует на многие иконографические и стилистические новшества, перерабатывая их согласно своему вкусу и приспосабливая их к местным реалиям. В этом отношении центральным памятником оказывается церковь св. Георгия в Старой Ладоге, росписи которой, созданные греческими мастерами, в то же время отображают своеобразие молодой местной культуры.
Церковь св. Георгия была построена и украшена фресками в последней трети XII в. одним из новгородских князей, который пригласил для декорации храма византийских мастеров, о чем свидетельствуют художественные особенности фресок. Дальнейшая судьба фресок драматична: еще в XV столетии они воспринимались современниками как образец для подражания, однако в XVII в. фрески были частично сбиты со стен, забелены и преданы полному забвению. В конце XVIII в. начинается долгий и трудный путь их раскрытия, оценки и изучения. Уже в начале XIX столетия Георгиевская церковь попадает в поле зрения любителей старины и становится одним из первых объектов изучения нарождавшейся русской медиевистики. Во второй половине XIX столетия сама церковь и ее росписи оказываются под пристальным вниманием исследователей, став по существу первым полно и качественно опубликованным памятником древнерусской монументальной живописи. Этим росписям посвящена одна из первых отечественных монографий, написанная В. Н. Лазаревым еще до войны, но увидавшая свет только в 1960 г. Однако лишь в результате реставрации 1982;1996 гг. фрески предстали перед нами во всей полноте своей сохранности, что позволяют дать этому памятнику адекватную и во многом новую оценку.
В отечественной науке, занимающейся изучением древнерусского искусства, давно уже назрела необходимость монографического изучения средневековых памятников. Концепция обобщающих работ, во многом построенная на чисто художественном восприятии памятника, в настоящее время в известной степени исчерпала себя, а огромный материал научных и реставрационных открытий, выполненных за последние десятилетия, требует пересмотра многих, ставших традиционными воззрений. Предметом настоящего исследования является воссоздание истории памятника, а также анализ иконографической программы росписей и их художественных особенностей, где основное внимание уделяется соотношению византийской и русской традиции.
До наших дней дошло не более четверти от общей площади росписи, но даже во фрагментарном состоянии эти фрески поражают ясностью иконографической программы и безукоризненным мастерством исполнения. Художественные особенности староладожских фресок свидетельствуют о том, что работавшие в.
Георгиевской церкви мастера были воспитаны на классическом наследии византийского искусства и были выходцами из Византии. В Георгиевской церкви работала бригада из трех или четырех фрескистов, которым удалось создать на редкость гармоничный и цельный ансамбль, выдержанный в общей системе облегченного колорита, выполненный с использованием строго регламентированного набора художественных средств и приемов, с соблюдением единых принципов t пропорциональных и масштабных соотношений, точно соотнесенных с небольшими размерами храма. Однако единство художественных приемов и методов не лишало художников их индивидуальностей, в соотношении которых просматриваются разные художественные полюсы позднекомниновского искусства.
С церковью св. Георгия в Старой Ладоге связаны многие вопросы формирования русской архитектурной и художественной школы домонгольского периода. Фрески Георгиевской церкви являются одним из наиболее византинизирующих памятников монументальной живописи позднего XII в. на территории России. В то же время эти росписи нерасторжимо связаны с новгородской живописью этого периода и оказываются принципиально важными для понимания особенностей развития новгородской художественной традиции конца XII столетия и роли в этом процессе византийских влияний.
Новые данные, полученные в ходе реставрационных и научных исследований памятника, позволяют внести существенные коррективы во все аспекты изучения памятника. Так, в результате архивных изысканий выявлен ряд документов, значительно расширяющих наши знания по истории памятника и, в частности, дающих основание частично реконструировать облик храма в различные периоды его истории и воссоздать некоторые утраченные детали его росписи. Археологические и архитектурные исследования позволили определить два этапа в строительстве храма, что вносит известные коррективы в хронологию новгородского зодчества в.п. XII в. и уточняет датировку росписей церкви. Раскрытие новых участков росписей и расчистка уже ранее известных, а также включение в научный оборот многочисленных фрагментов фресок, собранных кропотливым трудом исследователей, существенно дополняют иконографический состав храмовой декорации, конкретизируют ее программу и позволяют дать развернутую оценку художественному своеобразию живописи. Наконец, введенные в исследование материалы сопроводительных надписей на фресках значительно расширяют наши знания об этом памятнике и вносят коррективы в такие важные вопросы, как датировка церкви и ее фресок, создание которых предлагается отнести к 80−90-м гг. XII столетия.
Заключение
.
Фрески Георгиевской церкви и новгородское искусство конца XII века.
Новгородская живопись с начального этапа своей истории формировалась под постоянным воздействием византийских художественных образцов и вкусов, и при непосредственном участии греческих мастеров. Так было в самом начале XII в., когда в Новгороде по приглашению новгородского владыки Никиты работали греческие художники, в 1109 г. начавшие расписывать Новгородскую Софию Их искусство, стилистически очень определенное и монолитное, вероятнее всего было связано с художественными традициями Киева, насчитывавшими к этому времени уже вековой опыт, и приехавшие в Новгород мастера так или иначе должны были иметь самые непосредственные контакты с киевской художественной средой, которая, являясь носителем столичного уровня и не лишенных амбиции вкусов, несомненно определяла специфику художественной жизни для всей Руси начала XII века. Работы этих монументалистов, а вскоре и сгруппировавшихся вокруг них местных, а также, возможно, других приезжих художников, определили характер и своеобразие новгородского искусства первой трети XII в., а в более широком смысле и всего домонгольского периода. Новый этап в этом процессе приходится на эпоху архиепископа Нифонта (1131−1156) и особенно на конец 30-х — начало 40-х гг., когда по его инициативе в Новгороде работала по крайней мере одна артель греческих л фрескистов, расписавшая собор Мирожского монастыря во Пскове (около1140), а затем принимавшая участие в декорации Мартириевской паперти Софийского собора (1144)3. Значение их творчества для становления новгородской художественной школы середины XII в. огромно, поскольку именно с ними в Новгород пришли образцы формировавшегося в это время нового, сурового и аскетичного искусства, обозначенного В. Н. Лазаревым как стиль линейной стилизации, которое полностью господствовало в византийской живописи на протяжении второй половины XII в. и по праву может считаться одним из самых ярких проявлений византийского художественного гения.
Однако новгородские памятники второй половины столетия не дают столь последовательной картины. В то время как последние годы XII в. представлены двумя замечательными фресковыми ансамблями Благовещенской церкви в Аркажах (1189) и Спасской церкви в Нередице (1199), к периоду 50−70-х гг. не относится ни одного твердо датированного памятника. Фрески Аркажей и Нередицы предстают перед нами как зрелое искусство, в котором, при несомненном обилии византийских реминисценций и реплик, уже отчетливо звучит вполне сформировавшаяся местная художественная традиция. Яркая индивидуальность работавших здесь мастеров, художественная целостность ансамблей, в которой находят выражение местные реалии, и в то же время соответствие этого искусства общевизантийским стилистическим тенденциям, неизбежно ставят вопрос о взаимоотношении местной традиции и византийской основы, для понимания которого ключевыми становятся фрески Георгиевской церкви в Старой Ладоге, несомненно, являющиеся для Новгорода второй половины XII в. самым грекофильским памятником, своего рода носителем живой византийской художественной практики 4.
Росписи Георгиевской церкви на первый взгляд могут восприниматься как своего рода художественный эталон для фресок Нередицы и Аркажей, который как будто остается для последних прекрасным и недосягаемым образцом. Однако такое представление о взаимоотношении и взаимозависимости этих памятников, достаточно глубоко укоренившееся в истории древнерусского искусства, при ближайшем рассмотрении оказывается односторонним и отодвигает на второй план кардинально важный вопрос об истоках специфики новгородского искусства домонгольского периода. Сравнение трех фресковых циклов показывает, что взаимодействие выраженных ими стилистических направлений было куда более сложным, и, что важнее всего, вовсе не односторонним. Те немногие, но выразительные памятники новгородской живописи, сохранившиеся от второй половины XII в., показывают, что стилистический спектр Новгорода был очень широк и разнообразен, вполне соответствуя интенсивной художественной жизни этого города, в которой привносимые византийские образцы, воспринимаясь как эталоны качества, тем не менее, подвергались постоянной творческой переработке и трансформации, и этот процесс уже с середины XII в. во многом определялся местными вкусами и пристрастиями.
Из новгородских памятников XII века ближе всего к фрескам Старой Ладоги, несомненно, стоят созданные в 1189 г. росписи Благовещенской церкви в Аркажах (или на озере Мячине), в которых присутствуют многие стилистические тенденции, выявленные выше как определяющие элементы художественной структуры фресок Георгиевской церкви 5. Но здесь эти свойства стиля приобретают иное качество и интерпретацию, свидетельствуя о творческой самостоятельности и независимости мышления новгородских художников. Мастера аркажских росписей используют арсенал устойчивых выразительных приемов «динамичного» стиля, хорошо знакомый нам по фрескам Старой Ладоги и, вне всякого сомнения, имевший с ними общие истоки. Но конечный результат оказывается принципиально иным, что обусловлено отнюдь не различием в понимании стилистических приемов или методов, а в принципиальном изменении художественного видения создаваемого ансамбля как целостной структуры. Перед нами предстают все те же стилизованные света, испещряющие лики святых множеством морщин и линий, и даже техника письма порой буквально совпадает с ладожскими образами, повторяя ту же лапидарную трехтоновую систему наложения красок, когда вся выразительность образа строится на напряженном сочетании охристой карнации, как правило, заполняющей объем не только лика, но и нимба, широко положенных обобщенных красно-коричневых теней, и энергичных белильных высветлений, пастозных и пластичных по своей природе. В этом отношении фрески Аркажей — формально ближайший и редкий, если не сказать уникальный аналог росписям Старой Ладоги, и первое впечатление порождает видимость полной преемственности и талантливого, но школьного повтора византийского образца Ладоги учениками Аркажей. Система написания одежд также очень близка староладожской, хотя здесь уже отчетливо проявляются настроения, ведущие к созданию более монолитного и пластически ясного объема, что найдет законченное выражение в памятниках «монументального» направления, таких как пророки на алтарных столбах Успенского собора Владимира, созданных, вероятнее всего, после перестройки собора в 1189 г. и являющихся буквальным современником аркажских фресок 6. Однако это сходство аркажских и ладожских росписей сохраняется лишь на уровне первого впечатления, тогда как пристальный анализ вскрывает куда более четкие и определенные отличия, проявляющиеся не в интонациях формальных приемов, а в образном понимании всего ансамбля в целом.
Художественные формулы Старой Ладоги при сравнении с фресками Аркажей кажутся утонченными до неподвижности, доведенными до застывшего идеала. В первую очередь это касается, конечно же, первого мастера пророков из барабана, но и второй художник, несомненно, склонный к более экспрессивному пониманию живописных форм, несет в своем творчестве эмоциональную насыщенность, которая становится более выпуклой и ясной скорее при контрастном сочетании со своим соавтором, чем сама по себе. При этом оба они эстетизируют форму, порой слишком утонченно используют нюансы света и цвета, поворотов головы, постановок фигур, которые кажутся изысками вкуса даже на фоне стилистических излишеств конца XII века. За всем этим видится не только школа высочайшего уровня, но и игра, в которой живой художественный поиск и развитие отодвигаются на второй план, а главным становится интерпретация хорошо усвоенных стандартов, схоластически выверенная, но затухающая и утрачивающая витальные силы.
Совершенно иную картину мы видим в аркажских фресках, и это касается всей структуры росписей. Образы находятся в активном взаимодействии со стеной, которое скорее напоминает борьбу, чем мирное и рационально организованное сосуществование в Георгиевской церкви. В этом отношении показательно сравнение типологически схожих образов — ладожского Николы и аркажских святителей из арки между алтарем и дьяконником. Все они расположены в узких арочных проемах, выполнены в очень крупном масштабе и максимально приближены к зрителю. Этот эффект расположения крупномасштабной фигуры, как правило помещенной в стесненное пространство, рассчитанный на внезапность впечатления, — излюбленный прием в искусстве позднекомниновского периода. Достаточно вспомнить несколько таких изображений в церкви св. Бессеребренников в Кастории 7, церкви св. Георгия в о.
Курбиново и др. Однако результат в обоих случаях получается диаметрально противоположным. Лики аркажских святителей, слившиеся с сиянием нимба и читающиеся за счет энергичной пробелки, исполнены такой аскетической суровости и мистического напряжения, что буквально испепеляют зрителя своими пронзительными взглядами. Совершенно иначе решен образ св. Николая в Георгиевской церкви, написанный в таком же крупном масштабе и в точно таком же суженом пространстве, но нарочито смягченный благодаря тому, что пробелка выполнена не белилами, а осветленной охрой. Образ Николая оказывается куда более сосредоточенным и сдержанным, но в нем нет и не может быть того непосредственного и прямолинейного, и в то же время очень искреннего духовного горения, которое присутствует в аркажских образах. Формально перед нами один и тот же стилистический прием, но по существу это две совершенно различные его интерпретации, выдающие разные образные ориентации и художественные перспективы.
Система линейной пробелки ликов, используемая аркажскими мастерами, представляется на первый взгляд куда более простой и спонтанной, чем в росписях.
Старой Ладоги. Так, лики святителей в «Службе св. отцов» выполнены в манере плотного письма с использованием густых коричневых теней и пастозной пластичной пробелки. Одежды святых епископов, будучи написанными с использованием знакомых нам по Ладоге приемов, направленных на дематериализацию формы, тем не менее не обладают той воздушностью и невесомостью, поскольку фигуры имеют мощные пропорции, да и сами лики с укрупненными чертами лица, огромными широко расставленными глазами, крутыми лбами и мясистыми носами, весьма далеки от образцов византийской классики, идеалами которой наполнены лики староладожских святых. В них нет гармонии, а, напротив, проявляется и драматически реализуется борьба материи и духа, которая явственно видна в противостоянии пластической структуры и резкой белильной разделки ликов, по своей природе находящихся в сфере различных художественных категорий. Именно здесь явственно предстает перед нами стихия новгородского искусства XII века, проявившаяся уже в памятниках начала столетия. В этом отношении лики аркажских святителей из «Службы св. отцов» обнаруживают несомненное образное родство с такой живописью, как, например, фрески собора Антониева монастыря (1125), в которых уже отчетливо проявляется специфика новгородского искусства 9.
В ладожских образах обоих ведущих мастеров, в разной степени, но все же повсеместно присутствует академическая умеренность: здесь все должно быть одновременно и красиво и выразительно, и экспрессивно и сдержанно, и монументально и декоративно. Контрастность художественной структуры, как будто заложенная в природе «динамичного» стиля, здесь приглажена и нивелирована. Именно в этом кроется двойственность этих фресок, где парадоксально сосуществуют эстетизированный художественный язык позднекомниновского маньеризма и антикизирующая основа классицизма XII столетия. Иначе построен мир аркажских росписей. Внутренняя напряженность, порой чрезмерная эмоциональность ликов, становится открытой и утрачивает всякий намек внешней красотылики оказываются огрубленными и порой даже гротескными. Духовный накал образов не скрадывается, а, наоборот, забыв об умеренности классических идеалов, всеми средствами выносится наружу, в основном через использование различных, контрастных по своей природе художественных приемов, которые при этом существуют в рамках лапидарной трехтоновой манеры письма. Эта скупая и аскетичная система живописи, почти неизвестная нам в таком кристально ясном виде по памятникам византийского мира, в.
Аркажах предстает в своем наиболее адекватном воплощении, где доведенное до предельной выразительности скупое письмо ликов, написанных в три тона без каких-либо промежуточных слоев, полностью соответствует идеалам аскезы, породившим это суровое искусство. Экспрессия пробелов, нарушая законы анатомии, но в то же время не выходя за рамки естественности, создает сильнейшее впечатление эмоционального и духовного напряжения, если не сказать накала аркажских росписей, рядом с которыми ладожские лики кажутся выхолощенными и неискренними.
Общий для позднекомниновской эпохи дух монументализации художественного языка свойственен Аркажам не в меньшей степени, чем росписям Патмоса, Димитровского собора или Хосиос Давид 10, однако при сравнении с росписями Георгиевской церкви эти тенденции проявляют свой более стихийный и почвенный характер. Монументализм аркажских мастеров предстает перед нами как индивидуальная и стилистически выверенная характеристикаон виден в усвоении более выразительного пластического языка для написания ликов, в использовании широкой монументальной пробелки в письме одежд, что по манере оказывается очень близким уже упоминавшимся росписям Успенского собора во Владимирев использовании композиционных построений, освобожденных от мелких деталей, где представленные персонажи расположены на достаточно разряженном фоне, а архитектурные кулисы вовсе не превращаются в театрализованный стаффаж, заполняя, как во многих памятниках этой эпохи (например, в Лагудере), все пространство фона. Однако монументализм отдельного образа или композиции не становится качеством всей системы декорации, в которой, даже при столь фрагментарной сохранности, явственно видны приметы достаточно спонтанной организации соотношения отдельных элементов росписи. Огромные алтарные образы из «Службы св. отцов» объединены с рядами небольших медальонов, в которых помещены крошечные, практически иконные образы святителей, обрамляющих снизу и сверху сохранившуюся часть алтарной декорации. Крупноформатные изображения, преобладая в росписи центральной апсиды, соседствуют, тем не менее, с многоярусным повествованием обеих боковых апсид, где нарративный дух распределения сюжетов проявляет свое полное преобладание, когда даже редкие цезуры, неизбежно возникающие несмотря на столь пристрастное отношение к изобразительному пространству, плотно заполняются фигурами святых или орнаментальными вставками, совершенно лишенными всякого архитектонического смысла. Росписи боковых апсид Благовещенской церкви превращены в ковер из повествовательных сцен и орнаментальных или сюжетных дополнений со сложным иносказательным смыслом п, и если в центральном алтаре разномасштабность медальонов и центральных сцен создает некую видимость пропорциональной и масштабной логики, то в соотношении с боковыми апсидами это впечатление уже не выдерживает критики. Разнобой масштабов и пропорций говорит о достаточной спонтанности построения системы декорации в целом, в которой, сравнительно со староладожским храмом, предпочтение полностью отдано методу предельного заполнения плоскости повествовательным или декоративным изображением, даже в ущерб архитектонике росписи. Итак, каждый аркажский образ обладает своей индивидуальной монументальностью и выразительностью, не менее впечатляющей и запоминающейся, чем ладожские лики, однако в целом — и это явствует даже из объема сохранившихся фресок алтаря и прилегающего пространства боковых стен, концепция декорации ни в малой степени не обладает тем архитектоническим наполнением и осмыслением, которое мы видим в росписях Старой Ладоги.
Даже простой формальный анализ методов работы обеих артелей показывает, что между ними гораздо больше отличий, чем сходства, а тем более преемственности. Академический рационализм и рассудочность староладожских художников в сравнении с работой аркажских мастеров становятся столь же очевидными, сколь и безоглядно открытая эмоциональная экспрессия последних. Принадлежность обоих памятников единому географическому и историческому ареалу, одному короткому периоду в истории позднекомниновского искусства, когда в живописи так отчетливо проявились черты более широкого масштаба, чем отдельные стилистические течения, а тем более манеры или приемы, технологическое сходство и в то же время их куда более существенное образное различие, — все это как будто лишает оснований тезис о вторичности аркажских росписей, якобы являющихся наследником традиций, сформулированных в староладожском храме. Их концептуальное несходство предстает достаточно очевидным. Но столь же очевидным является несомненное использование в обоих случаях единой системы трехтонового пробельного письма ликов, которое по своей экспрессивной и отчасти даже экспансивной природе оказалось очень близким новгородскому сознанию и вкусу, широко применялось в росписях новгородского круга, и в то же время в столь чистом виде почти не встречается в византийских фресках. Все это дает основания говорить о кардинально ином векторе стилистических влияний во взаимоотношениях этих двух памятников.
Подчеркнутый ригоризм новгородского искусства, явно подпитываемый неофитскими настроениями, особенно отчетливо проявившись здесь с середины XII столетия, находит выражение уже в росписях башни Георгиевского собора Юрьева монастыря (около ИЗО) и особенно в Мирожском соборе (около 1140) — самом строгом и аскетичном памятнике своего времени. К середине столетия эти тенденции, вероятно, абсолютно преобладали и в иконописи (Богоматерь Знамение), и в монументальной живописи, о чем говорят, например, фрагменты росписей Успенского собора в Старой Ладоге (около 1158) |2, где даже святой младенец Кирик — к слову сказать, единственный полноценно сохранившийся лик, представлен в традиционном образе иссушенной плоти, который в большей мере соответствует облику не младенца, а анахорета. Если в Византии подобные изображения святых, написанные в скупой трехтоновой системе письма, с резкой белильной проработкой ликов, остаются все же единичными примерами, то для новгородской земли эта манера живописи становится повсеместной и самой распространенной. Даже вечные идеалы антикизирующего академизма, безоговорочно приоритетные с точки зрения художественного влияния Константинополя на свои многочисленные провинции, в Новгороде подвергаются неожиданно решительной трансформации. Примером тому может служить знаменитая двусторонняя икона с «Нерукотворным Спасом» (около 1191) 13, где классически выверенный образ Спасителя соседствует с весьма упрощенными ангелами из «Поклонения Кресту» на оборотной стороне иконы. В фигурах ангелов, несмотря на простоту художественных форм, отчетливо звучит именно та ясность и определенность доведенного до ригоризма линейного художественного языка, который можно видеть в большинстве новгородских памятников второй половины XII в. Примечательно, что сопоставление двух сторон этой иконы настолько созвучно сравнению работы ведущих ладожских художников и мастера «Страшного Суда», что возникает ощущение принадлежности этого иконного образа рукам ладожских художников. В этой иконе в сконцентрированном виде выражены те стилистические полюса, которые определили своеобразие ладожских фресок с их одновременным тяготением к академической форме и динамичной выразительности. Образ Спасителя с лицевой стороны иконы имеет крупные монументальные черты, в чеканном рисунке Его лика с огромными глазами и напряженным абрисом носа уже заложена экспрессия образа, которая в то же время сочетается с природным академизмом Его облика. Этот образ очень близок, если не буквально аналогичен художественным принципам, проявившимся в живописи второго мастера, выделенного нами при анализе фресок Георгиевской церкви. Особенно показательно в этом отношении сравнение образа Спасителя с пророком Давидом из барабана церкви. В то же время, упрощенная манера письма, выявленная в работе третьего ладожского мастера, расписавшего центральную часть «Страшного Суда», чрезвычайно напоминает живопись оборота иконы с изображением «Поклонения Кресту» с ее свободной и подвижной, хотя не очень умелой манерой письма 14. Данная параллель представляется весьма убедительным доводом в датировке фресок Георгиевской церкви.
Новгородские памятники позднего XII в. весьма немногочисленны, но и они, демонстрируя самый широкий спектр стилистических течений, тем не менее, не выходят за рамки уже вполне определившейся образности новгородского искусства. Впрочем, эта стилистическая и образная монолитность полностью соответствовала вполне оформившемуся статусу Новгорода как одного из ведущих художественных центров Руси. Чрезвычайно показателен в этом отношении «Св. Никола» из Новодевичьего монастыря или т.н. «Никола Новодевичий» 15 — один из центральных образов рубежа XII—XIII вв. и, несомненно, самая византинизирующая новгородская икона домонгольского периода 16. В этом образе парадоксально сочетаются изысканная гротескность контуров головы и рисунка волос, напряженно смуглый колорит лика, изломанность и акцентированная асимметрия черт лица, и при этом в целом — редкая для этого времени монументальность, монолитность и благородство облика,.
17 целостность художественного метода и стилистическая определенность. Эта икона оказывается чрезвычайно близкой фрескам позднего XII в. в церквях св. Врачей в Кастории или Курбиново, где указанные характеристики, благодаря темпераментной природе фресковой техники, обретают еще более четкие и конкретизированные контуры.
Противоположную сторону этого художественного процесса на наш взгляд представляет «Ангел златые власы» — икона, неоднократно становившаяся предметом специальных исследований, датировка которой колеблется в рамках середины XII.
18 начала XIII вв., а происхождение связывается как с Новгородом, так и с Владимиром. Многие исследователи видят в этой иконе классицизирующие черты, преображенные нарождающимся монументализирующим стилем, наиболее ярко представленным фресками Дмитриевского собора, Хосиос Давид или Патмоса, о чем подробно говорилось в четвертой главе нашего исследования. «Ангел Златые власы» обычно сравнивается в этих работах с ангельскими образами из росписей Дмитриевского собора и Патмоса, или же с ангелами из «Деисуса с Эммануилом», то есть с памятниками, имеющими классическую византийскую основу 19. Не вступая в полемику с этими исследователями, хочется отметить в образе ангела черты, которые позволяют связать его с совершенно иным полюсом в общем потоке позднекомниновского искусства.
На первый взгляд, крупная голова ангела с широкими щеками и огромными глазами действительно производит очень монументальное впечатление. Однако не следует забывать, что этот образ вырван из своего изначального контекста, поскольку он являлся частью какой-то композиции или, вероятнее всего, чина типа известного «Деисуса с Эммануилом» 20. Именно сравнение с последней иконой, имеющей несомненно владимирское происхождение и выполненной в тонах и настроениях классицизирующего искусства Владимира, и проявляется специфика «Ангела Златые власы». Его лик имеет типологическую заданность форм, которая определяется и спецификой ангельского образа, и принадлежностью иконы какой-то многосоставной композиции, где, в силу малоформатности икон и крупномасштабности ликов, были невозможны иные приемы письма, чем мягкая, бесконтрастная светотеневая моделировка. Сочетание малого формата иконы, которая практически полностью занята головой ангела, с пластически проработанными приемами письма лика, неизбежно порождает впечатление масштабности и монументальности облика.
Однако не менее существенными для стилистической характеристики «Ангела златые власы» представляются и другие черты образа. Обратим внимание на строение лица ангела, в котором присутствует явная дисгармония, абсолютно антиклассичная по своей природе. Крупный и по-комниновски выразительный нос оказывается не таким уж большим по сравнению с огромными, буквально сползающими на щеки глазами, рядом с которыми подбородок и губы ангела кажутся маленькими и манерно поджатыми в чуть заметной улыбке. Эмоциональность лика подчеркивается, с одной стороны, меланхолично опущенными веками, а с другой — довольно резким рисунком как будто напрягшегося крыла носа. В лике ангела присутствует какая-то болезненно надломленная и противоречивая красота, совершенно несовместимая с принципами классицизма, определявшими всю структуру живописи Владимира. В то же время эти черты очень показательны для эстетики позднекомниновского маньеризма, и если его наиболее аскетичные и динамичные формы были приоритетными в стилистике новгородской живописи, то не исключено, что именно здесь и мог появиться противоположный вариант этого широкого стилистического течения, получивший провинциальную и потому несколько чрезмерную характеристику. В этом отношении эта икона обнаруживает известное сходство с некоторыми ангельскими образами в мозаиках Монреале, на что обратил внимание еще В. Н. Лазарев 21. Но еще большее сходство образ ангела находит с некоторыми фресками Нередицы, особенно с манерой одного из ведущих мастеров, написавшего евангелиста Луку, «Введение во храм» и «Сретение», апостолов из «Страшного Суда», и многие другие композиции 22. Сходство конструкции ликов с гипертрофированными чертами лица настолько схоже, что невольно задумываешься, не принадлежит ли икона и перечисленные фресковые изображения руке одного мастера. Такое предположение вполне допустимо, если учитывать, что известная манерность, проявляющаяся при исполнении иконного или мелкомасштабного образа, оборачивается духом монументализма при написании крупномасштабных фресок. Схожее явление мы наблюдали в работе второго ладожского мастера при его передвижении из купольного «Вознесения» в нижние зоны храма.
Новгородское искусство позднего XII в. в массе оставалось верным своим уже сформировавшимся и четко сформулированным вкусам, которые, варьируя стилистические нюансы, оставалось монолитным и немногословным, а то и односложным в своих определениях. Это качество новгородских образов точно охарактеризованное О. С. Поповой применительно к новгородским миниатюрам XI в. как «резкость внешнего аспекта и обостренность внутреннего, отсутствие какой-либо постепенности в раскрытии образа, внезапность его подачи „в упор“, преувеличенная, чуть огрубленная мощьдавление на зрителя» 23, в той или иной степени можно распространить и на большинство произведений новгородских художников домонгольского периода. Однако ладожские лики, особенно принадлежащие второму мастеру, в известной мере обнаруживая внешнее сходство с типологией новгородского образа, выдают тем не менее куда более сложную и многослойную структуру, что, впрочем, вовсе не означает их большей духовной содержательности. Экзальтированная выразительность оказывается здесь поверхностным слоем образа, попыткой рационализировать стихию, некоей привнесенной маской, как будто наложенной на многоплановый и самоуглубленный, традиционно византийский облик святого, что в конечном итоге снижает накал его проникновенности и искренности, превращает процесс написания образа в своего рода игру, совершенно несвойственную новгородскому искусству.
Стихия новгородской живописи наиболее ярко проявилась в погибших фресках Нередицы. Эти росписи иногда поражают своим сходством с ладожским памятником, порой даже буквальным повторением некоторых деталей или приемов ладожских мастеров 24, что не исключает возможности прямого влияния работавших в Ладоге греческих художников. Однако в целом нередицкие фрески выражают и реализуют принципиально иные художественные установки. Мастера Нередицы как будто воспринимают формальную сторону художественного метода ладожских фрескистов, но конечный результат оказывается совершенно иным. Вольно или невольно, нередицкие художники буквально игнорируют сформулированные в Ладоге принципы декорации, преобразуя их в соответствии с новыми стилистическими принципами, согласно своему темпераменту и вкусам.
Нередицкие фрески обладают совершенно оригинальной архитектоникой, хотя внешне мы можем найти некоторые элементы, как будто повторяющие принципы соотнесения с архитектурой, выраженные в системе росписи Георгиевской церкви. Нередицкие фрески созвучны архитектуре храма прежде всего своей соразмерностью архитектурным плоскостям, использованием в основном крупного модуля изображений, малой градуированностью масштабных соотношений. В то же время классические принципы архитектонического взаимодействия живописи с архитектурой нередицкими мастерами практически пренебрегаются. Показательно в этом плане их отношение к декоративным элементам росписи, которые имеют принципиально важное конструктивное значение для художников Георгиевской церкви. Так, например, на южной и северной стенах Нередицы, как и в Ладоге, проходит аркатурный фриз со вписанными в арки фигурами святых, однако он проходит не в уровне окон, создавая с ними единый, пластически и архитектурно выразительный ряд, как это сделано в Ладоге, а над окнами, полностью лишаясь, таким образом, всякого архитектонического смысла, превращаясь в простой декоративный мотив. Фигуры на западных столбах также частично обрамлены поочередно трехлопастными и простыми арочками, однако в средних ярусах такие обрамления отсутствуют, что лишает всю декорацию столбов конструктивного смысла. С поразительной непосредственностью, пренебрегая классическими принципами, нередицкие художники располагают яруса росписей таким образом, что ни одна отгранка западного объема, начиная с отметки пяты подпружной арки, не совпадает с уровнями примыкающих к нему росписей боковых рукавов подкупольного креста25.
Цокольная декорация стен Нередицкого храма на первый взгляд очень напоминает Георгиевскую церковь. Здесь также были использованы очень высокие мраморировки, колебавшиеся в объеме наоса в пределах 1.5 — 2.5 м 26, но если в Ладоге вариации высоты полилитии определялись литургическим символизмом и архитектонической природой росписи, то в Нередице мы видим совершенно иную картину. Так, на западной стене под хорами они довольно низкие — около 1.5 м, но напротив, на восточных плоскостях объема под хорами, напротив, самые высокие (около 2.5 м), в основном же объеме их высота колеблется от 1.7 до 2 м 27. В алтаре же мраморировки, напротив, оказываются несоразмерно низкими, поднимаясь едва на 60.
ЧЙ.
70 см от уровня древнего пола. Таким образом, ясная структура мраморной декорации, присутствующая в Ладоге, здесь отодвинута на второй план, а высота мраморных клейм в конечном результате определялась совершенно иными категориями, а именно общим композиционно-пространственным решением росписей каждого отдельного объема, где мраморировки исполняют простую роль цокольного заполнения. Иными словами, их высота полностью зависит только от параметров изображений, расположенных выше. Нередицкие мастера как будто заимствуют декоративные приемы ладожских художников и применяют их в своих росписях (высокие мраморировки, многочисленные арочные обрамления фигур), однако полностью лишают их архитектонической наполненности, оставляя им лишь орнаментальную функцию.
Все эти особенности ясно свидетельствуют, что логика классической архитектоники для новгородских мастеров, работавших в Нередице, утрачивает свою актуальность. При этом структуру росписи Спасской церкви никак нельзя назвать спонтанной или бессистемной. Но если в Георгиевской церкви стенопись взаимодействует со стеной, развивая и обогащая архитектурные формы, то в Нередице фрески создают свое собственное пространство, которое формируется за счет композиционного, ритмического и масштабного соотнесения и взаимодействия между собой самих росписей, из чего рождаются новые художественные закономерности,.
29 п закрепленные целостностью художественного метода нередицких мастеров. В этом новом пространстве архитектура храма скорее растворяется, чем равноправно сосуществует с живописью, и именно здесь кроется принципиальное отличие двух памятников30.
Нередицкие художники, как и мастера Старой Ладоги, использовали разные манеры письма ликов, но, в отличие от Георгиевской церкви, вариации личного письма здесь не были обусловлены той рационально разработанной системой, которую мы выявили в ладожском памятнике. Анализируя приемы письма нередицких мастеров, В. К. Мясоедов 31, М. И. Артамонов 32 и Ю. Н. Дмитриев 33 выделили от восьми до десяти исполнительских манер, из чего авторами были сделаны весьма сомнительные выводы об участии в росписи Спасской церкви большой артели, состоявшей примерно из восьми художников. Сейчас, после гибели основной массы фресок, трудно с полной уверенностью оспаривать это ставшее общим местом мнение 34, однако даже на основании фотографий можно сделать иные выводы. Не претендуя на точное определение состава артели фрескистов или авторства того или иного изображения, мы все же можем отметить несомненное наличие двух главных манер исполнения, а, вернее, выделить два главных художественных принципа, вероятнее всего связанные с двумя ведущими мастерами Нередицы.
Первый мастер работает в манере, классической для позднекомниновского искусства. Он пользуется достаточно сложной и многослойной техникой письма, где применена оливковая санкирная заливка под весь лик, поверх которой положены красно-коричневые притенения и подготовка под высветления, исполненная желтой охрой. Сами высветления сделаны охрой в сильном разбеле, в несколько слоев, с активной завершающей пробелкой, поэтому света на ликах обладают пастозной фактурой. На завершающем этапе накладываются подрумянки, а рисунок повторяется красно-коричневой краской с проработкой отдельных участков темно-коричневым цветом 35. В целом его образы отличаются достаточно жестким рисунком, интенсивным, но постепенно нарастающим переходом от тени к свету, графически напряженным рисунком пробелов, контрастность которых, тем не менее, сглаживается благодаря многослойной и довольно плавной светотеневой моделировке. В конечном результате исполненные им образы приближаются к той мере объемности и пластичности, которая становится нормой византийского искусства накануне 1200 г. 36 Четкий и структурно ясный рисунок исполненных им ликов, обладая характерным набором типично новгородских черт, тем не менее, явно тяготеет к классическим византийским образцам, и его образы уместно сравнить с упомянутым выше двусторонним «Спасом Нерукотворным», где классицизирующее направление в новгородской живописи XII в. нашло наиболее адекватное выражение 37. Соответственно, живопись этого мастера наиболее близка и духу фресок Георгиевской церкви.
Второй мастер обладает не менее ярким художественным языком, но его формулы имеют не только почерковые, но и принципиальные стилистические отличия. Он использует более простую технику, где лик пишется прямо по охристой подготовке, общей с нимбом. Однако в качестве высветлений он использует не принятую в такой технике разделку штрихами и мазками, известную нам на примере Аркажей или Ладоги, а наводит свет плавно положенными белилами, постепенно наполняя форму тонкими лесировочными слоями. Отдавая дань традиции линейного стиля, поверх проработанного объема он иногда кладет белильные мазки, подчеркивая крылья носа, складки на лбу или щеках, но в его интерпретации они уже не несут формообразующего начала. Чисто пластическое понимание формы становится в его ликах абсолютно преобладающим, и это выражается даже в конструкции и рисунке лиц, которые приобретают более округлые и сплавленные, а иногда даже расплывчатые очертания, подчеркнутые в крупных ликах глубокой теневой проработкой, придающей им почти скульптурную выразительность. Показателен исполненный им св. Лазарь из святительского чина, иссушенное лицо которого испещрено особенно глубокими морщинами и складками, что явно призвано указать на чудо его четверодневного воскрешения 39. Однако и здесь лик сохраняет свою пластическую выразительность за счет того, что складки не превращаются в сухую линейную пробелку, а сохраняют достаточно плавную светотеневую градацию.
В плане сравнения показательна центральная часть нижнего регистра «Вознесения», где левый от Богоматери ангел выполнен первым мастером, а правыйвторым 40. Классицизирующая конкретность и структурная ясность лика левого ангела ярко противопоставлена расплывчатым и текучим формам правого лика, в написании которого явно чувствуется неуверенность. Эта характеристика в равной мере распространяется и на систему написания фигур и моделировки одежд. Первый художник пишет в очень свободной и уверенной манере, пользуясь широкими мощными высветлениями, закрывающими большие плоскости и точно выявляющими форму и конструкцию тела. Его фигуры, как и все изображения Нередицы, весьма далеки от классических идеалов и имеют сбитые приземистые пропорции, однако конструкция и постановка фигур, соотношения частей тела, в интерпретации первого мастера выглядят вполне гармонично. Второй художник не обладает столь решительным письмом, одежды его персонажей часто имеют дробную разделку, иногда превращаясь в непонятные нагромождения складок, а пропорции часто нарушаются вплоть до недопустимого искажения (пророк Иона)41.
Как и в Георгиевской церкви, оба ведущих мастера работают параллельно, вместе расписывая сначала барабан, а затем и алтарь, но если в Ладоге деление на зоны работы имеет свою понятную и рациональную логику, обусловленную ансамблевыми задачами, то в Нередице мы имеем дело скорее со спонтанным разделением на участки работы. Первый мастер, несомненно, имеет преимущество, и, видимо, именно ему принадлежат центральные образы Христа и Богоматери из «Вознесения», Христа Ветхого деньми, Богоматери Оранты в конхе апсиды, Христа архиерея в нише синтрона 42. Однако дальнейшее разделение на зоны имеет чисто топографический характер. Так, первый мастер в основном прочитывается в северной половине барабана и алтаря, тогда как второй художник занимает южную их часть, и этот принцип распространяется не только на отдельно стоящие фигуры, но и на купольное «Вознесение». Из опубликованных у В. К. Мясоедова фотографий, кроме уже рассмотренных ангелов по сторонам от Богоматери, к первой манере можно с уверенностью отнести апостолов Луку и Иоанна, пророков Моисея, Давида и Исайю, Христа и ангела из «Причащения хлебом», евангелистов Луку и Матфея, святителей Николу, Иоанна Златоуста, Дометиана, Власия 43. Повторим — все перечисленные изображения находятся в северной, т. е. в левой от зрителя половине храма. Еще более явственно узнается манера второго художника, руке которого можно безоговорочно приписать апостолов Петра, Андрея, Филиппа, Варфоломея и Фому, пророков Иону и Аарона, евангелиста Марка, Христа и ангела из «Причащения вином», святителей Василия Великого, Григория Богослова, Лазаря, Фоку 44 — т. е. изображения, которые находятся в южной части барабана и алтаря.
Подобная система организации труда художников выдает совершенно иное, по сравнению со Старой Ладогой, отношение к создаваемому ансамблю. Если в работе ладожских художников все рассчитано до мелочей, в том числе и то, как оптимально использовать специфику своих художественных способностей и умения ради создания стилистически целостного ансамбля, то мастера Нередицы понимали и реализовывали эту задачу по-своему. Ладожские художники достигают стилистической монолитности использованием строго детерминированного набора художественных методов и приемов, превалирующих над их индивидуальными пристрастиями и вкусами, что вполне согласуется с их классической столичной выучкой. Что же касается Нередицы, то целостность этих росписей меньше всего предопределяется единством художественного метода, и хотя формально в работе двух ведущих художников (или групп художников) можно найти множество стилистических параллелей, различия в их работе представляются гораздо более существенными. Квинтэссенцию этих различий демонстрирует сравнение двух «Нерукотворных Образов» — «Спаса на убрусе» во лбу восточной подпружной арки, принадлежащего первому мастеру, и «Спаса на чрепии» над западной подпружной аркой, исполненного вторым художником 45. «Убрус» демонстрирует искусство, тяготеющее к строгому пониманию формы, четкости рисунка, ясности контуров, а в целом — к классической комниновской традиции. «Чрепие», наоборот, представляет собой менее умелое произведение, в котором отчетливо видна почвенность этого искусства, его провинциализм и спонтанность. В манере письма лика явно преобладает пластическое начало, которое предстает в еще не до конца определившихся, слегка размытых формах, однако именно здесь открываются широчайшие перспективы в искусство зрелого XIII в., тогда как «Спас на убрусе» сориентирован скорее на образцы прошлого. Но, несмотря на стилистические различия, все нередицкие фрески, независимо от качества исполнения или стилистической ориентации, сливаются в единый и очень цельный ансамбль, что отмечали все исследователи, видевшие памятник до разрушения. Этой целостности не может помешать некоторый стилистический разнобой, поскольку она базируется на образном единстве всех фресок и ясно открывается в реализации общих художественных установок, предопределенных, прежде всего, принадлежностью нередицких мастеров к общему потоку новгородской культуры. Стилевые дефиниции уходят здесь на второй план, а главным для ансамбля оказывается единый дух росписи, аскетичный и суровый, воспитанный на искусстве Антониева монастыря и Аркажей, и поданный по-новгородски прямолинейно и отчасти тяжеловесно, и в то же время жизнеутверждающе. Вероятно, именно это принципиальное своеобразие нередицких фресок, соединявшее в себе подвижность стилистических характеристик и монолитность образного строя, подразумевал В. К. Мясоедов, определяя их как произведение местное, чисто новгородское, хотя и таящее в себе в высшей степени разнообразные, подчас очень далекие переживания и художественные течения" 46.
Взаимоотношения фресок Аркажей и Нередицы в полной мере соответствуют их хронологическому расположению, демонстрируя нам и логику развития стиля, и преемственность художественного и образного строя памятников. Внешне росписи Георгиевской церкви оказываются вовлеченными в этот мощный художественный поток, однако их положение оказывается здесь не только не определяющим, но в большей мере второстепенным. Особенно отчетливо это качество ладожских фресок проявляется при анализе главного художественного метода этого памятникатрехтонового письма, выполненного в манере аскетичной линейной стилизации. Напомним, что ни один из византийских ансамблей XII в. не дает примеров столь последовательного и доведенного до предельно лапидарной формы использования трехтонового письма, какое мы повсеместно видим в памятниках новгородского круга (Мирож, Успенский собор Старой Ладоги, Хутынь, Аркажи, Нередица). В контексте новгородских памятников соединение ладожскими мастерами этого комплекса художественных приемов с их врожденным академизмом приобретает впечатление некоторой искусственности. Осмелимся высказать предположение, что ладожские художники, при их очевидном константинопольском происхождении и выучке, вовсе не являлись прямыми носителями того стиля, в рамках которого они расписали Георгиевскую церковь. Вполне возможно, что они сами оказались включенными в тот художественный процесс, который являлся определяющим для Новгорода того времени, и, в силу ли многочисленности и достаточно высокого качества создаваемых в Новгороде росписей, в силу ли характера заказа, или каких-либо других причин, побудил их отчасти перенять стилистику новгородского искусства, интерпретировав ее в контексте своих академически изысканных и не менее искушенных вкусов и профессиональных навыков. Возможно, в этом и кроется не раз обсуждаемый «новгородский дух» староладожских фресок, который, тем не менее, схож с новгородской живописью лишь формальными признаками, а в образном строе проявляет явные академические пристрастия, которые были в известной степени далеки новгородской культуре, ориентированной в большей мере на экспрессию форм и эмоциональную открытость образов.
Академическая выверенность фресок Георгиевской церкви, «оживленная» приемами динамичного стиля, который уже стал традиционным для новгородского искусства этого времени, представляет собой ту художественную формулу, которая знакома нам по Владимиро-Суздальским росписям позднего XII столетия, особенно по изображениям пророков на алтарных столбах Успенского собора (1189) 47. Нельзя исключать того, что ведущие ладожские мастера, выполнявшие несомненно княжеский заказ, были непосредственно связаны с той рафинированной художественной средой, которая определила сдержанно-экспрессивный дух Владимиро-Суздальской живописной культуры. Оказавшись в новой для себя новгородской среде, мастера ладожских фресок и их работы не стали определяющим фактором для новгородского искусства, хотя, в силу своего византийского происхождения, они не могли не оставить следа в новгородском искусстве. Фрески Георгиевской церкви наиболее гармонично вписываются в живопись Новгорода именно последней четверти XII столетия, обнаруживая с этим искусством связи не столько стилистического взаимодействия, сколько знаки принадлежности к единой историко-художественной среде. Если попытаться определить место ладожских фресок среди новгородских памятников этого короткого периода, то можно высказать следующее предположение. Во фресках церкви Благовещения в Аркажах (1189) нет ни единого намека на влияние ладожских мастеров. В то же время, росписи Нередицы (1199) обнаруживают известное знакомство с работой ладожских художников, которое проявляется и на уровне отдельных образов, и, прежде всего, в использовании декоративных приемов, правда, утративших свою архитектоническую наполненность и превратившихся в чисто орнаментальные мотивы. Впрочем, это знакомство могло осуществиться не только на почве Георгиевской церкви, но и других не дошедших до нас ансамблей. Таким образом, предпочтительным временем создания фресок Георгиевской церкви оказывается короткий период 80−90-х гг. XII столетия, который был также определен нами на основании сравнительного анализа ладожских фресок с византийскими памятниками второй половины XII в. Все это дает основания вновь ставит вопрос датировки памятника.
Выше уже говорилось о различных датировках, которые Георгиевская церковь получила в предшествующих исследованиях преимущественно на основании анализа архитектурных форм церкви. Особого внимания в этом отношении заслуживает точка зрения В. Н. Лазарева, поскольку его датировка в большей степени соотносится не с архитектурой храма, а с его фресками. В своих ранних работах В. Н. Лазарев датировал Георгиевскую церковь и ее росписи 80-ми гг. XII столетия 48, но позже, в монографии, посвященной этому памятнику, да и в других работах, автор дал иную датировку, предположительно связав строительство храма с победой над шведским войском, которую новгородский князь Святослав Ростиславич одержал в 1164 г. в битве на Ладоге 49. В связи с этой победой рассматривается и посвящение храма святому Георгию как покровителю княжеского рода и ратного люда. И поскольку достоверные исторические свидетельства о строительстве Георгиевской церкви отсутствуют, гипотеза о связи посвящения храма с указанными событиями становится главным доводом в концепции В. Н. Лазарева. Последняя датировка В. Н. Лазарева (около 1167 г.) можно считать в настоящее время наиболее распространенной, в чем, конечно, сказалась «магия» ее исторической конкретности, хотя не подтвержденная никакими документальными свидетельствами. Кроме того, дата строительства и росписи церкви, предложенная В. Н. Лазаревым, удачно вписалась в концепцию непрерывного строительства, проводимого новгородской артелью, где ладожскому периоду отводятся именно 1160-е гг. Совершенно очевидно, что для самого В. НЛазарева главными в его позиции оказались не чисто художественные признаки памятника (на их основании он сам сначала датировал храм и его фрески 80-ми гг.), а притягательная возможность связать создание церкви с конкретными историческими событиями и лицами. Сам В. НЛазарев указывает, что «по своему архитектурному типу Георгиевская церковь органически входит в ту группу памятников новгородского зодчества, которая датируется 1179−1202 годами» 50. В другом месте своей книги он говорит о том, что «если бы мы строили датировку исключительно на формальных признаках, выстраивая при этом памятники в один ряд, то отдали бы предпочтение» позднему варианту, относящему эти фрески к 80−90-м гг. XII столетия 51. Таким образом, даже в интерпретации самого В. Н. Лазарева предложенная им датировка оказывается не столь уж безупречной.
Архитектурные и археологические исследования Георгиевской церкви, проведенные в ходе последней реставрации, показали всю сложность и неоднозначность начальной истории этого памятника. В своих работах С. В. Лалазаров убедительно показывает, что Георгиевская церковь строилась в два этапа 52. К первому периоду относится закладка фундаментов храма, причем по своей планировке предполагалось строить церковь с пониженными угловыми западными компартиментами и боковыми апсидами. Эта типология храма в русском домоногольском зодчестве известна лишь на примере двух построек эпохи новгородского архиепископа Нифонта — собора Мирожского монастыря во Пскове (1137−1142) и Климентовского собора Старой Ладоги (1153), отличающихся очевидной ориентацией на греческие образцы своего времени. Строительство Георгиевской церкви не было завершено и фундаменты были законсервированы, что, по справедливому предположению С. В. Лалазарова, явилось следствием смерти архиепископа Нифонта в 1156 г. Время возобновления строительства неизвестно, однако для второго этапа показательно принципиальное изменение композиционно-типологической концепции церкви. Возведенный на фундаментах первого периода, храм полностью соответствовал уже новому типу приходской церкви, которая была выработана новгородскими зодчими в ходе ладожского периода деятельности новгородской артели, то есть предположительно 1160-х гг. Для этой новой типологии характерно одноглавие, наличие трех равновысоких апсид, отсутствие нартекса, который заменяет низкое помещение под хорами, ориентированное по оси север-юг, а также узкая внутристенная лестница, ведущая на хоры, представляющие собой две боковые каморы, соединенные между собой деревянным настилом. При этом возведение Георгиевской церкви единодушно относится всеми исследователями к завершающему этапу этого строительного периода. Иными словами, Георгиевская церковь оказывается последней в ряду ныне известных ладожских памятников домонгольского периода53.
Парадокс в вопросе датировки Георгиевской церкви заключается в том, что хорошо известен момент прихода строительной артели архиепископа Нифонта в Ладогу, который соответствует летописным свидетельствам о закладке Климентовского собора (1153) 54, но абсолютно неизвестны даты последующих построек, упоминания о которых вообще отсутствуют в летописях и документах вплоть до рубежа XVXVI в. Если Успенский собор Ладоги в настоящее время получил достаточно убедительную датировку (около 1158) 55, то датировать остальные постройки можно только основываясь на историческом контексте, типологии эволюции храмового строительства или, в конечном счете, на художественных особенностях украшающих их фресковых росписей. Отметим, что датировка всего ансамбля Георгиевской церкви, то есть постройки и стенописи, является одним общим вопросом, поскольку натурные исследования однозначно показали одновременность строительства храма и росписи, о чем свидетельствует целый ряд технологических фактов56.
Принимая в учет двухэтапноеть строительства Георгиевской церкви, видимо, следует полностью отказаться от версии В. Н, Лазарева о связи посвящении церкви с победой над шведами в 1164 г. Первоначальные фундаменты, как уже говорилось выше, вряд ли могли появиться позже 1156 г., а церковь по общепринятому обычаю получала свое посвящение именно при своей закладке. Таким образом, датировка В. Н. Лазарева лишается своего главного притягательного аргумента — связи посвящения храма с его военно-мемориальным характером. Более вероятно, что посвящение было определено общим почитанием св. Георгия, культ которого имел несколько граней. Изначально, в VI—VII вв., св. Георгий почитался как охранитель от злых сил, являющихся в зверином обличии 57, и лишь в последующие века, в процессе формирования культа воинов-мучеников как защитников веры, св. Георгий стал являться покровителем воинства, что и оказалось определяющим фактором в выборе посвящения храма, который находился в цитадели Ладоги и главными прихожанами которого, соответственно, были воины гарнизона ладожской крепости. Кроме того, на выборе посвящения храма могла сказаться сакрализация топографии новгородской земли, когда исток Волхова охранял огромный Георгиевский собор Юрьева монастыря, воздвигнутый легендарным Мстиславом Великим и его сыном Всеволодом Мстиславичем, а устье главной торговой и военной артерии новгородского государства придержала Георгиевская церковь, стоявшая в ладожской крепости и воплощавшая оплот новгородского владычества, осеняемый покровительством св. Георгия.
Используя старые фундаменты, рассчитанные на возведение храма иной типологии, и при этом возводя церковь нового типа, зодчие церкви св. Георгия шли на вынужденное искажение пропорций и конструкций здания, что убедительно показано в анализе С. В. Лалазарова. Таким образом, специфика плана церкви, композиция фасадов и другие архитектурные особенности во многом оказались вынужденными решениями, продиктованными уже существовавшими фундаментами первого этапа, но, впрочем, блестяще реализованными. Мастерство зодчих Георгиевской церкви очевидно, но столь же очевидным оказывается и вторичность архитектурно-композиционных решений, которые приспосабливались строителями церкви под заданные параметры первоначальных фундаментов. Итак, вынужденная вторичность архитектурных форм, на наш взгляд, не позволяет полноценно включать церковь св. Георгия в тот эволюционный ряд, который обычно выстраивается для анализа изменений в композиции здания и, соответственно, датировки памятника. Так, например, в анализе эволюции композиции фасадов новгородских храмов XII века, проведенном А. И. Комечем, не учитывается тогда еще не известный автору факт, что восточные прясла северной и южной стен Георгиевской церкви являются фальшивыми дополнениями, призванными скорректировать облик храма под новую типологию58.
Активизация церковного строительства в Ладоге, начатая архиепископом Нифонтом в 1153 году и продолженная его последователями, не имеет никаких документированных конечных границ. Если основное строительство и окончилось на рубеже 60−70-х гг. XII века, то оно могло спорадически возобновляться на протяжении всех последующих десятилетий домонгольского периода. Удобная концепция деятельности единой новгородской строительной артели, возводившей храмы по всей огромной территории новгородской земли и работавшей по эволюционной программе, вряд ли может быть применима к последней четверти XII столетия, о чем красноречиво говорят самые разнообразные факты. С. В. Лалазаров, определяя верхнюю границу строительства Георгиевской церкви 1179 годом, то есть временем возведения церкви Благовещения в Аркажах, справедливо оговаривается, что такое четкое суждение возможно лишь исходя из предпосылки последовательного и закономерного развития архитектурных форм новгородского храма нового типа, тогда как картина новгородского зодчества этого периода могла быть куда более сложной, предполагавшей и использование привнесенных форм, и возвращение к старым архитектурным концепциям. Позволим дополнить его тезис некоторыми фактами и наблюдениями.
Строительство церкви Петра и Павла на Сильнище, затянувшееся на необычайно долгий срок, П. А. Раппопорт связывал с деятельностью не новгородской, а полоцкой артели 59. Мнение исследователя приводится здесь вовсе не для того, чтобы усомниться в принадлежности Георгиевской церкви новгородским зодчим, но чтобы продемонстрировать неоднозначность строительной ситуации в Новгороде последней трети XII века. Причины, по которым новгородцы привлекали иногородних строителей, нам неизвестны, но вполне реален тот факт, что в начале XIII столетия в Новгороде возводятся две церкви — Параскевы Пятницы на Торгу и Михаила Архангела на Прусской улице, обладающие очевидными типологическими признаками смоленской архитектуры б0. Существенно ускорились темпы строительства — теперь храм возводился за летний сезон, и в год могло быть построено две-три церкви. Так, за период с 1166 по 1199 гг. в Новгороде летописями зафиксировано 45 храмов, из них 17 названы каменными. Анализируя строительную ситуацию в Новгороде конца XII столетия, В. А. Булкин приходит к убедительному выводу, что в это время действовали по крайней мере две новгородские строительные артели, одна из которых работала по владычному заказу и, например, в 1198 г. строила Преображенский собор в Старой Руссе, а другая в том же году возводила княжеский храм Спаса на Нередице 61. В качестве еще одного примера неоднозначности строительной ситуации и вариативности возводимых храмов в Новгороде конца XII века отметим, что Старорусский храм имел, судя по исследованным фундаментам, нартекс и северозападную лестничную башню на хоры 62, то есть повторял типологию построек первой половины XII века, которая известна по примерам церкви Благовещения на Городище (1103), соборов Антониева (1117−1122) и Юрьева монастырей (1119−1130), а также отчасти Борисоглебской церкви в Новгородском Детинце (1146−1147), где лестничная башня находилась в юго-западном углу храма б3. Отметим, что если рассматривать новгородское строительство последней четверти XII столетия как строго последовательный эволюционный процесс, то факт обращения зодчих Старорусской церкви к старой типологии представляется необъяснимым. Наконец, наиболее важным для нашей темы примером является возведенный в 1192 г. Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря, который, по мнению исследовавших его фундаменты В. А. Булкина и Г. М. Штендера, практически полностью повторял типологию храма так называемого «ладожского» периода новгородского строительства, то есть характеризовался наличием Г-образных восточных столбов и отсутствием лопаток в основном объеме интерьера храма 64.
Приведенные факты и мнения дают основание составить картину строительства Георгиевской церкви, отличную от принятой концепции В. Н. Лазарева и датировки храма концом 1160-х гг. Строительство церкви с использованием старых фундаментов, возобновилось, вероятнее всего, когда новгородские зодчие уже полностью освоили технические и композиционные принципы храма нового типа и могли свободно варьировать их исходя из заданности первого этапа существования Георгиевской церкви. Мастерство, с которым они вышли из этого сложного положения, свидетельствует об отработанности каждого шага зодчих, что давало им повод для творческой импровизации при возведении Георгиевской церкви. Этот довод, несомненно, говорит более в пользу поздней датировки храма. Малые размеры церкви не давали возможности вывести лестницу на хоры в центре западного прясла, как это было сделано в церкви Благовещения на Мячине (1179), поэтому они использовали более архаичный вариант. Возможно, общность типологии Георгиевской церкви и собора Хутынского монастыря (1192) имеет схожие причины, поскольку последний также отличался малыми размерами. Скромные размеры Георгиевской церкви и невысокое качество примененного строительного материала говорят о том, что для ее строительства не было необходимости приглашать всю новгородскую артель, а работа могла осуществляться небольшой группой строителей и являлась своего рода приработком на стороне, не нарушавшим основного хода новгородского строительства. Приведенные соображения лишают актуальности раннюю датировку памятника концом 1160-х гг., предложенную В. НЛазаревым, но, тем не менее, не дают прочных оснований для обоснования иной даты строительства Георгиевской церкви. Но на фоне этих данных решающим фактором для определения времени создания Георгиевской церкви становятся ее фрески, исполненные, как мы старались показать, и как считал В. Н. Лазарев в своих ранних работах, в 80−90-х гг. XII столетия. Добавим, что такой датировке соответствуют и выводы палеографического анализа надписей на фресках Георгиевской церкви.
Русские сопроводительные надписи на фресках, выполненные, согласно авторитетному мнению Т. В. Рождественской, новгородцами, равно как и программа росписи, а, возможно, и ее стиль, являются реальным свидетельством не только сотрудничества приезжих греческих мастеров и новгородских фрескистов, но и ориентации византийских художников на местные вкусы и традиции 65. Столичное византийское искусство всегда оставалось открытым для взаимодействия с нарождавшимися местными школами, которые, интерпретируя его классическую основу, часто привносили в него свежие художественные импульсы. В этом сказывался универсализм византийской художественной культуры, питаемый наднациональными, вселенскими идеалами христианства, и созвучный самой идее византинизма. Именно поэтому в больших ансамблях, находящихся на периферии византийского мира, порой так трудно провести границу между работой столичных и местных мастеров. Это же явление в своеобразном преломлении проявилось и во фресках Старой Ладоги. Но формула ладожской живописи, во многом опирающаяся на яркий художественный индивидуализм и вкусовую изысканность, оказалась слишком утонченной и хрупкой для широкого распространения как в Новгороде, так и в Византии, оставшись практически единичным явлением в разнообразной и пестрой картине искусства византийского мира 80−90-х гг. XII столетия, с которым, тем не менее, она остается связанной всеми нитями своей художественной материи.
Список литературы
- Айналов Д. В. Эллинистические основы византийского искусства // Записки ИРАО. Новая серия. СПб., 1901. Т. XII, вып. 3−4. С. 185−186.
- Айналов Д. В. Новый иконографический образ Христа // Seminarium Kondakovianum. Praha, 1928. Vol. И. С. 19−24.
- Алферова Г. В. Собор Спасо-Мирожского монастыря // Архитектурное наследство. М., 1958. Вып. 10. С. 26.
- Амвросий, архим. (Орнатский). История Российской иерархии. М., 1908−1816. Т. IV. С. 136−137.
- Анисимов А. И. Домонгольский период древнерусской живописи // Вопросы реставрации. М., 1928. Вып. 2. С. 112−119.
- Анисимов А.И. Владимирская икона Божией Матери И Анисимов А.И. О древнерусском искусстве. Сборник статей. М., 1983. С. 241−245.
- Артамонов МИ. Один из стилей монументальной живописи XII—XIII вв.. // Гос. Академия истории материальной культуры. Бюро по делам аспирантов. Сборник I. JL, 1929. С. 56.
- Артамонов М.И. Мастера Нередицы // НИС. Вып. V. Новгород, 1939. С. 33−47. Археологические известия и заметки, издаваемые Императорским Московским Археологическим Обществом, под редакцией А. В. Орешникова. М., 1894. Вып. 1. С. 2425.
- Барсов П.П. Подробное описание путешествий Гольштинского посольства в Московию Адама Олеария. М&bdquo- 1870.С. 27−28.
- Батхель Г. С. Новые данные о фресках церкви Благовещения на Мячине близ Новгорода. ~ ДРИ. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 245 254.
- Бегунов Ю.К. Русское Слово о чуде Климента Римского и Кирилломефодиевская традиция // Slavia XLIII. Praha, 1974.
- Бередников Я.И. Развалины Георгиевской крепости в Старой Ладоге //ЖМНП, 853 г., ч. 78, отд. 17. С. 89−93.
- Брюсова В.Г. К истории стенописи Софийского собора в Новгороде. Фрески Мартириевской паперти // ДРИ. Художественная культура Новгорода. М., 1968. С. 108 125.
- Брюсова В.Г. О содержании росписей XI—XII вв.. Мартирьевской паперти Софийского собора Новгорода // ДРИ. Художественная культура X первой половины XIII в. М., 1988. С. 174−176.
- Булкин В.А. Церковь Михаила Архангела на Прусской улице в Новгроде и новгородское зодчество начала XIII века // ДРИ. Русь. Византия. Балканы. XIII века. СПб., 1997. С. 377−392.
- Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 34.
- Вагнер Г. К Белокаменная резьба древнего Суздаля. Рождественский собор. XIII век. М., 1975. С. 90−96.
- Васильев Б. Г. К истории фресок церкви Георгия в Старой Ладоге // СА 4. 1988. №-. С.181−186.
- Васильев Б.Г. Манеры мастеров фресок церкви Георгия XII в. Старой Ладоги // Византия и Русь. М., 1989. С. 172−182.
- Васильев Б. Г Фрески церкви Николая чудотворца в Старой Ладоге // Памятники средневековой культуры. Открытия и версии. СПб., 1994. С. 66−67. Васильев Б. Г Новые фрагменты фресок церкви Георгия XII в. в Старой Ладоге // ПКНО. 1994. М., 1996. С. 162−165.
- Васильев Б. Г Арка в системе декорации фресок церкви св. Георгия Старой Ладоги // ПАМIV. Ладога и эпоха викингов. СПб., 1998. С. 108−110.
- Васильев Б. Г Фрески сер. XV в. церкви св. Георгия в Старой Ладоге // Староладожский сборник. Вып. 2. СПб. Старая Ладога, 1999. С. 29−42.
- Васильев Б. Г, Рождественская Т. В. Надписи и граффити на фресках Георгиевской церкви // Церковь св. Георгия в Старой Ладоге: История, архитектура, фрески. М., 2002. С. 355−368.
- Веселовский Н.И. История Императорского Русского Археологического Общества. С. 135.
- Вздорное Г. И. Лобковский Пролог и другие памятники письменности и живописи Великого Новгорода // ДРИ. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 265−269.
- Вздорное Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986. С. 21.
- Вздорное Г. И. Юрий Александрович Олсуфьев // Вопросы искусствознания 4/93 М., 1994. С. 318−319.
- Вольская А. Росписи средневековых трапезных Грузии. Тбилиси, 1974.
- Воробьева Е.В. Семантика и датировка черниговских капителей // Средневековая Русь.1. М, 1976. С. 175−183.
- Даркевич В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X—XIII вв.ека. М., 1975. Дионисий Фурнографиот. Ерминия, или наставление в живописном искусстве //ТКДА. 1868. Т. 1−2.
- Дмитриев Ю.Н. Изображение отца Александра Невского на Нередицкой фреске XIII в. // НИС. Новгород, 1938. Вып. 3−4. С. 39−57.
- Дмитриев Ю.Н. Стенные росписи Новгорода, их реставрация и исследования // Практика реставрационных работ. М., 1950. Вып. I. С. 146−154.
- Дмитриев Ю.Н. Заметки по технике русских стенных росписей Х-ХИ вв. // Ежегодник Института истории искусств Академии наук СССР. М., 1954. С. 242−252. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии. СПб., 1884.
- Дорофиенко И.П., Редько П. Я. Раскрытие фресок XII в. в Кирилловской церкви Киева // ДРИ. Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980. С. 45−51. Дрампян И. Р. Фрески Кобайра. Ереван, 1979.
- Захарова А. Фрески церкви Панагии Мавриотиссы в Касторье // ВВ 59 (2000). С. 189 197.
- Зибирева В.П., Кулешова И. А. Инженерное исследование памятника архитектуры XII века церкви Георгия в крепости Старая Ладога // Архитектурное наследие и реставрация. М., 1986. С. 81.
- Иосебидзе Дж. Роспись Ачи. Памятник грузинской монументальной живописи конца XIII века. Тбилиси, 1989.
- Колчин Б.А., Хорошев А. С., Янин B.JI. Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981.
- Колчин Б.А., Янин B.JI., Ямщиков С. В. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. М., 1985.
- Комеч А.И. Композиция фасадов новгородских церквей XII—XIII вв.. // ДРИ.
- Художественная культураХ первой половины XIII в. М., 1988. С. 106.
- Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII начала XVI в. М., 1993.
- Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Пг., 1915.
- Красовский М.В. Планы древнерусских храмов. Пг., 1915. С. 203.
- Лазарев В.Н. Искусство Новгорода. М.-Л., 1947. С. 27,59.
- Лазарев В.Н. Фрески Старой Ладоги. М., 1960.
- Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960.
- Лазарев В.Н. Об одной новгородской иконе и ереси антитринитариев // Культурадревней Руси. М., 1966. С. 101−112.
- Лазарев В.Н. Михайловские мозаики. М., 1966.
- Лазарев В.Н. Система живописной декорации византийского храма IX—XI вв.еков // Лазарев В. Н. Византийская живопись. Сборник статей. М., 1971. Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973. 73
- Лазарев В.Н. Мозаики Чефалу // Лазарев В. Н. Византийская живопись. М., 1971.
- Лазарев В.Н. Приемы линейной стилизации в византийской живописи Х-ХИ веков и ихистоки И Лазарев В.Н. Византийская живопись. М., 1971.
- Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
- Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986.
- Лифшиц Л. И. Программа росписи собора Снетогорского монастыря // Вопросы русского и советского искусства. Материалы научных конференций 1972−73 гг. (ГТГ). Вып. III. М., 1974. С. 35.
- Лифшиц Л.И. О мастерах Снетогорской росписи // ДРИ. Проблемы и атрибуции. М., 1977. С. 106−125.
- Лифшиц Л.И. О стиле росписи Снетогорского монастыря // ДРИ. Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980. С. 93.
- Лифшиц Л.И. К вопросу о реконструкции программ храмовых росписей Владимиро-Суздальской Руси XII в. // Дмитриевский собор. К 800-летию создания. М., 1997. С. 156−174.
- Макаренко М. Древнейший памятник искусства Переяславского княжества // Сборник статей в честь графини П. С. Уваровой. М., 1916. С. 373−404.
- Максимов П.Н. Архитектура новгородской земли XII начала XIII вв. // Всеобщая история архитектуры. Т. III. М.-Л., 1966. С. 648−650.
- Матвеева А. Б. Фрески Андрея Рублева и стенопись XII века во Владимире // Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971. С. 142−170.
- Материалы для статистики Российской Империи, издаваемые при статистическом отделении Совета министерства внутренних дел. СПб., 1841. С. 63.
- Мильчик М. И. Церковь Георгия в Старой Ладоге // СА 1979. № 2.
- Мысливец Й. Происхождение «Деисуса» // Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Европа. Сборник статей в честь В.НЛазарева. М., 1973. С. 59−63. Мясоедов В. К. Фрески Спаса Нередицы. Пг., 1925/
- Некрасов А.И. Очерки по истории древнерусского зодчества XI—XVII вв.. М., 1936. С. 66.
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950. С. 20. Овчинников А. Н. Надписи в Георгиевской церкви Старой Ладоги // ПКНО. 1977. М., 1977. С. 186−190.
- Окунев H.JJ. Столпы Святого Георгия. Развалины храма XII века около Нового Базара // Seminarium Kondakovianum. Praha, 1927.1. С. 235−240.
- Отрывок из путешествия Ходаковского по России. Ладога. Новгород // Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских. М., 1839. Т. III. Книга 2. С. 143−144.
- Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию //ЧОИДР. 1897. Кн. 4.
- Пескова А.А., Раппопорт П. А., Штендер Г. М. К вопросу о сложении новгородской архитектурной школы.// СА 1982. № 3. С.44−45.
- Пивоварова Н.В. Ктиторская тема в иконографической программе церкви Спаса на Нередице // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1991. Т. XXIII. С. 151 152.
- Пивоварова Н.В. В.В.Суслов как организатор исследования и копирования древнерусской монументальной живописи // Программа «Храм». Вып. 6. СПб., 1994. С. 96.
- Пивоварова Н.В. «Страшный Суд» в памятниках древнерусской монументальной живописи второй половины XII в. // Дмитриевский собор. К 800-летию памятника. М., 1997. С. 128−155.
- Плугин В. Фрески Дмитриевского собора. Выдающийся памятник монументальной живописи древнего Владимира. Л., 1974.
- Подобедова О. И. Изучение русской средневековой монументальной живописи // ДРИ. Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980. С. 21−22.
- Попова О.С. Миниатюры Хутынского Служебника раннего XIII в. // ДРИ. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 284−285.
- Попова О.С. Фрески Дмитриевского собора во Владимире и византийская живопись XII века // Дмитриевский собор во Владимире // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания. М., 1997. С. 93−119. Привалова E.JI. Павниси. Тбилиси, 1977.
- Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников новгородского зодчества // НИС.№ 1 (11). Л., 1982. С. 201.
- Саминский А.Л. Мастерская грузинской и греческой книги в Константинополе XII -начала XIII века // Музей 10. М., 1989. С. 195−202.
- Сарабьянов В.Д. Иконографическая программа росписей собора Снетогорского монастыря (по материалам последних раскрытий) // ДРИ. Византия и древняя Русь. К 100-летию А. Н. Грабара (1896−1996). СПб., 1999. С. 229−259.
- Селицкий А.А. Система росписи собора Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке // ДРИ. Художественная культура X первой половины XIII в. М., 1988. С. 177−194. Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII-начало XIV века. М., 1976.
- Сычев Н.П. К истории росписи Дмитриевского собора во Владимире // Памятники культуры. Исследование и реставрация. М., 1959. С. 161.
- Толстой И., Кондаков Н. Русские древности в памятниках искусства. Вып.6: Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. СПб., 1899.
- Туницкий Н. Древние сказания о чудесных явлениях Младенца Христа в евхаристии // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1907. Т. 2. С. 201−229/
- Филатов В.В. Художественно-технологические особенности росписи Дмитриевского собора во Владимире // ДРИ. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972.
- Царевская Т. Ю. Образ св. Климента в новгородском искусстве XIII в. // Искусство Византии и древней Руси. К 100-летию со дня рождения А. Н. Грабара. Тезисы докладов конференции. Москва, 24−26 сентября 1996. СПб., 1996. С. 28−29.
- Царевская Т.Ю. Новые данные о составе росписей церкви Николы на Липне // ДРИ. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 413−431.
- Чукова ТА. Алтарные преграды в зодчестве домонгольской Руси // Литургия, архитектура и искусство византийского мира (Византинороссика I). СПб., 1995. С. 273 287.
- Шалина И. А. Икона «Ангел Златые власы» и русская художественная культура около 1200 г. // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания. М., 1997. С. 203 204.
- Щепкина М.В. Миниатюры Хлудовской Псалтири: Греческий иллюстрированный кодекс IX века. М., 1977.
- Этингоф О.Е. Вновь о дате росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове // Искусство Руси и стран Византийского мира XII века. Тезисы докладов конференции. СПб., 1995. С. 35−37.
- Янин B.JI. Открытие мастерской художника XII в. в Новгороде// Древний Новгород. История. Искусство. Археология. Новые исследования. М., 1983. С. 110. Янин B.JI. К проблеме авторства нередицких фресок // ПКНО. Ежегодник. 1987. М., 1988. С. 178−183.
- Ядрышников В. А. Церковь Спаса в Старой Руссе современница Нередицкого храма // НИС 8 (18). СПб., 2000. С. 158−167.
- БабиН Г. Христолошке распре у XII веку и nojaea нових сцена у апсидалном декору византтуских цркава//ЗЛУ. Београд, 1968. Т. И. С. 11−15.
- БабиН Г. О живописном украсу олтарских преграда // ЗЛУ 11. Нови Сад, 1975. С. 3−41. БабиИ Г. Кральева црква у Студеници. Београд, 1987. С. 68−69.
- БабиИ Г. Литурпуске теме на фрескама у Богородично. цркви у ПеЬи // Архиепископ Данило II и нье1ово доба. Београд, 1991. С. 377−389. БабиИ Г., Kopah В., ЪирковиН С. Студеница. Београд, 1986. Бакалова Е. Бачковската костница. София, 1977.
- Bajwtan К, Алибегашвили Г., Вольска. а А., БабиН Г., Хацидакис М., Алпатов М&bdquo-
- Воинеску Т. Иконе. Београд, 1983.
- Грабар А. Боянската църкава. София, 1978.
- Грозданов Ц., Хадерман МисгвишЛ. Курбиново. CKonje, 1992.
- Ъор^евиН ИМ. Свети Христофор у српском зидном сликарству средн>ег века // Зограф 11. Београд, 1980. С. 63−64. ЪуриН В. СопоЬани. Београд, 1963.
- ЪуриН В. Византийке фреске у 1угослави)'и. Београд, 1974.
- ЪуриI) В., ЪирковиУ) С., КораJ) В. Пе1) ка naTpHj’apuraja. Београд, 1990.
- Каиганин М., БошковиИ Н&bdquo- Mujoeuh П. ЖиЬа. Београд, 1969.
- МарковиН М. О иконографии светих ратника у источно-христийанско. уметности и о представима ових светител>а у Дечанима // Зидно сликарство манастира Дечана. Грайа и студще. Београд, 1995. С. 571−582.
- Mujoeuh П. Куполна аркада ЪурЬевих Ступова // Старинар Н. С. XX (Београд). 1970. Mwioiueeuh Д., HeiuKoeuhJ. ЪурЬеви Ступови. Београд, 1987.
- Милъковик-Пепек П. Befljyca. Манастир св. Богородица Милостива во селото Вел. уса
- Kpaj Струмица. CKonje, 1981. С. 168−171.
- Padojnuh С. Милешева. Београд, 1967.
- Цончева М. Църквата Свети Георги в София. София, 1979.
- Acheimastou-Potamianou М. Greek Art. Byzantine Wail-Paintings. Athens, 1994.
- Avner T. The impact of the liturgy on style and content. The Triple-Christ scene in Taphou 14.-- JOB 32/5 (1982). P. 459−467.
- Babic G., Walter Ch. The inscriptions upon liturgical rolls in Byzantine apse decoration. — REB 34(1976). P. 269−280.
- Bock M. Christophoros kynokephalos. Die Darstellungen des hundskopfigen Christophoros auf Ikonen des Ikonen-Museums Recklinghfusen. (Monographien des Ikonen-Museums Recklinghausen. Band IV). Recklinghausen, 1997.
- Chatzidakis M., Pelekanidis S. Byzantine art in Greece. Kastoria. Athens, 1985. Chatzidakis M. et al. Naxos. Byzantine art in Greece. Athens, 1989.
- Constantinides E. The Tetraevangelion Manuscript 93 of the Athens National Library // AXAEser.4 vol. 9. P. 204−214.
- Constantinides E.C. Une icone historiee de Saint George du XIHe siecle au monastere de Sainte-Catherine du Mont Sinai // ДРИ. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 77−104.
- CormackR. Painting after Iconoclasm. Iconoclasm. Birmingham, 1977. P. 162−163. Cutler A. The Aristocratic Psalters in Byzantium. Paris, 1984.
- Demus O. Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantium. London, 1948.
- Demus O. The Style of Kariye Djami and its Place in the Development of Palaeologan Art //
- Underwood P. A. The Kariye Djami. Princeton, 1975. Vol. 4. P. 129−130.
- Demus O. Probleme byzantinischer Kuppel Darstellungen. CA 25 (1976). P. 101−108.
- Demus O. Venetian Mosaics and Their Byzantine Sources I I DOP 33. Washington, 1979. P.340.
- Demus O. The Mosaics of San Marco in Venice. Chicago & London, 1984. De Jerphanion G. Les eglises rupestres de Cappadoce. Paris, 1936.
- Drandakis N.B. Les peintures murales des Saints Theodores a Kaphiona (Magne de Peloponnese). -- CA 32 (1984). P. 165−166.
- Dujrenne S. L’enrichement du programme iconographique dans les eglises Byzantines du XIII siecle // L’art Byzantine du XIII siecle. Symposium de Sopocani. 1965. Beograd, 1967. P. 3538.
- Dujrenne S. Les programmes iconographiques des coupoles dans les eglises du monde
- Byzantin et Postbyzantin//L'Information d’histoire de l’art. Paris, 1965. 10. P. 185−199
- Dujrenne S. Les programmes iconographiques des eglises Byzantines de Mistra. Paris, 1970.
- Galavaris G. The illustrations of the Prefaces in Byzantine Gospels. Wien, 1979.
- Gallas K., Wessel K., Borboudakis M. Byzantinisches Kreta. Munchen, 1983.
- Garidis M. Approche «realiste» dans la representation du Melismos // JOB 32/5 (1982). P.495.502.
- Gounaris G. Panagia Maavriotissa in Kastoria. Thessaloniki, 1987.
- Grabar A. Le Sainte Face de Laon. Le Mandylion dans l’art Orthodoxe. Praha, 1930.
- Grabar A. Le representation de l’lntelligible dans l’art Byzantin du Moyen Age // CIEB VI.1. Paris, 1951. P. 130−134.
- Grabar A. Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures. -- DOP 8 (1954). P. 163 199.
- Grabar A., Nordenjalk C. La peinture Romane du onzieme au treizieme siecle. Geneve, 1958. Grabar A. Sur les sources de la peintures byzantines des XIII et XIV siecles. — С A 12 (1962). P. 363−373.
- Grabar A. L’Iconoclasme byzantin. Paris, 1984.
- Gravgaard A.M. Inscriptions of Old Testament prophecies in Byzantine Churches. Copenhagen, 1979.
- Grigoriadou H. Affinites iconographiques de decors peints en Chypre et en Grece au XII siecle //1 Cypr. Congr. Vol. B. Leukosia, 1972. P. 38−39.
- Grigoriadou-Cabagnols H. Le decor peint de l’eglise de Samari en Messenie // CA 20 (1970). P. 177−196.
- Hadermann-Misguich L. Tendences expressives et recherches ornamentales dans la peinture Byzantine de la seconde moitie du Xlle siecle // Byzantion. 1965. Vol. 35. P. 429−444.
- Hadermann-Misguich L. Fresques de Chypre et de Macedoine dans le seconde moitie du Xlle siecle //1 Cypr. Congr. Vol. B. Leukosia, 1972. P. 44−45.
- Hadermann-Misguich L. Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du Xlle siecle. Bruxelles, 1975.
- Hadermann- Misguich L. La peinture monumentale tardo-Comnene et ses prolongements au XHIe siecle // XV CIEB. Athens, 1976. Vol. III. P. 99−127.
- Hamman-Mac Lean R., Hallensleben H. Die Monumentalmalerei in Serbien und Macedonien vom 11. dis zum friihen 14. Jahrhundert. Giessen, 1963.
- Hawkins E.J. W., Liz James. The east dome of St. Marko, Venice: a reconsideration // DOP 48 (1994). P. 230−242.
- Kitzinger E. I mosaici di Monreale. Palermo, 1960.
- Kitzinger E. Byzantium and the West in the Second Half of the Twelfth Century: Problems of Stylistic Relationship // Gesta 19/2.1970. P. 51.
- Kitzinger E. The mosaics of St. Mary’s of the Admiral in Palermo. Washington, 1990 (DOS XXVII).
- Maguire H. Style and Ideology in Byzantine Imperial Art // Gesta 28 (1989). P. 222−223. Malmquist T. Byzantine 12th century frescoes in Kastoria. Agioi Anargyroi and Agios Nikolaos tou Kasnitzi. Upsala, 1979.
- Mango C. The monastery of St. Chrysostomos at Koutsovendis (Cyprus) and its wallpaintings. Part 11 I DOP 44 (1990). P. 63−94.
- Mango С., Hawkins E.J.W. Report of field work at Istanbul and Cyprus, 1962−63. — DOP 18 (1964). P. 319.
- Mathews Th.F. The Transformation symbolism in Byzantine architecture and the meaning of the Pantokrator in the dome // Church and People in Byzantium: 20th Spring Symposium of Byzantine studies. 1986. Birmingham, 1990. P. 191−214.
- Mouriki D. Stylistic trends in monumental painting of Greece during the eleventh and twelfthcenturies // DOP 34−35. Washington, 1980−1981.
- Mouriki D. The mosaics of Nea Moni on Chios. Athens, 1985.
- Nicolaides A. L’eglise de la Panagia Arakiotissa a Lagoudera, Chypre: Etude iconographique des fresques de 11 921 I DOP. 1996. Vol. 50.
- Panayotidi M. The question of the role of the donor and of the painter. A rudimentary approach // AXAE ser. 4 vol. 17. Athens, 1994. P. 143−156.
- Papadopoulos K. Die Wandmalerein des XI. Jahrhunderts in der Kirche Panagia ton
- Chalkeon in Thessaloniki. Graz/Koln, 1966.
- Papazotos Th. Byzantine Icons of Verroia. Athens, 1995.
- Santa Maria di Anglona (ed. C.D.Fonseca e V. Pace). Palatina, 1996.
- Stornajolo С. Miniature delle Omelie di Giacomo Monaco (cod. Vat. Gr. 1162) e delle
- Evangeliario Greco Urbinate (cod. Vat. Urbin.gr. 2). Rome, 1910.
- Stylianou A. and J. The painted churches of Cyprus. London, 1997.
- The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era. A.D. 843—1261.1. New York, 1997.
- Thierry N. Un decor pre-iconoclaste de Cappadoce: Acikel Aga killisesi // CA 18. Paris, 1968.
- Thierry N. A propos des peintures d’Ayvali Koy (Cappadoce). Les programmes absidaux a trois registres avec Deesis, en Cappadoce et en Georgie. ~ Zograf 5. Belgrad, 1974. P. 5−22.
- Thierry N. Les peintures dela Cathedrale de Kobayr (Tachir) // С A 29 (1981). P. 103−121. Tomekovic S. Le decor peint de I’eglise de Blacherna a Mezapos (Magne) // ЗЛУ 19 (1983). С. 1−16.
- Tomekovic S. Contribution a Г etude du programme du narthex des eglises monastiques (Xle — premiere moitie du XHIe s.) // Byzantion LVIII. 1988. P. 140−153.
- Tsitouridou A. Die Grabkonzeption des ikonographischen Programms der Kirche Panagia Chalkeon in Thessaloniki //JOB 32/5 (1982). S. 435−440.
- Papadaki-Oekland S. The Holy Mandilion as the new symbol in an ancient tradition. // AXAE. Vol. XIV. 1987−1988. Athens, 1989. P. 283−296.
- Van der Meer F. Majestas Domini. Theophahies d’Apocalypse dans l’art Chretien. Roma -Paris, 1938.
- Velmans T. L’image de la Deisis dans les eglises de Georgie et dans celles d’autres regions du monde Byzantin // CA 29 (1981). P. 47−102.
- Velmans T. Quelques programmes iconographiques de coupoles chypriotes du Xlle au XVe siecle//CA 32(1984). P. 137−162.
- Walter Ch. Art and Ritual of the Byzantine Church. London, 1982.
- Walter Ch. La place des eveques dans le decor des absides Byzantines // Revue des arts, 24. Paris, 1974. P. 84−89-
- Walter Ch. L’eveque celebrante dans l’iconographie Byzantine // L’assemblee liturgique et les differents roles dans l’assemblee. Rome, 1977. P. 321−331.
- Walter Ch. St. Clement in the Chersonese and the iconography of his miracle // Archeion Pontou 35. Athens, 1978. P. 246−260.
- Weitzmann К. The miniatures of the Sacra Parallela Parisinus Graecus 923. Princeton, 1979. Weitzmann K. Three painted crosses at Sinai // Weitzmann K. Studies in the arts at Sinai. Princeton, 1982. P. 413.
- Weitzmann K., Galavaris G. The monastery of St. Catherine at Mount Sinai. The illuminated greek manuscripts. Princeton, 1990. Vol. I.
- Weyl Carr A., Morrocco L.J. A Byzantine Masterpiece Recovered, the Thirteenth-Century Murals of Lysi, Cyprus. Austin, 1991.
- Wharton Epstein A. Middle Byzantine Churches of Kastoria // Art Bulletin. June 1980. P. 190−207.
- Wharton Epstein A. Tokali Kilise. Tenth-Century Metropolitan Art in Byzantine Cappadocia. Washington, 1986.
- Winfield D.C. Middle and later Byzantine wall painting methods: a comparative study // DOP 22. Washington, 1968.
- Winfield D. Hagios Chrysostomos, Trikomo, Asinou. Byzantine painters at work //1 Cypr. Congr. Vol. B. Leukosia, 1972. P. 285−291. A
- Xyngopoulos A. Sur l’icone bilaterale de Poganovo. CA 12 (1962). P. 341−350.