Литературно-критическая деятельность К.Н. Леонтьева
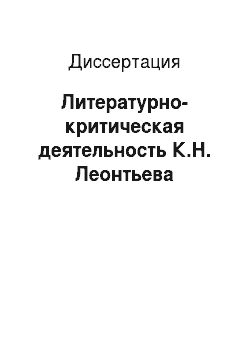
Борьба за чистоту стиля, формы речи, выражения и изображения актуальна в любую эпоху, знание эстетики Леонтьева словно проясняет взор, приучает к требовательности: «- Не раздавь ты его машину за-ради Бога (читаем в произведении современного писателя-„деревенщика“), — сказала бабка, — крику не оберёшьси». Она что-то жевала, вытирала пальцы большим носовым платком, нюхала их и снова вытирала". Да… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. К. Леонтьев. Особенности литературно-критического подхода к литературе
- Глава II. Идеология и эстетика в критике К. Леонтьева
- Глава III. Категории леонтьевской критики
Литературно-критическая деятельность К.Н. Леонтьева (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Стиль.98.
Анализ.113.
Автор и герой.:.127.
Повествовательная точка зрения.131.
Точка насыщения".136.
Заключение
140.
Библиография.145.
Неизвестный, неразгаданный, сложный — эти суждения часто встречаются применительно к Константину Леонтьеву. Безусловно, он был парадоксальной и драматической фигурой в русской духовной культуре второй половины XIX века. Об этом свидетельствует уже то, сколько занятий поменял Леонтьев за свою жизнь. Он был врачом, консулом, цензором, помещиком, публицистом, монахом. В поэзии, религии, философии — во всех областях, которых коснулся Леонтьев в своём творчестве, ему удалось сказать своё оригинальное, новое слово. В философии и истории он создал свою собственную концепцию, в публицистике горячо отстаивал свои убеждения, в прозе показал себя мастером изящного стиля, в критике проявил глубину взглядов и точность анализа.
При жизни Леонтьев не был популярен, его даже мало ругали, замалчивали, иногда вполне сознательно. Рядовой русский интеллигент конца XIX начала XX века долгое время даже не знал имени Леонтьева, а кто знал, тот помнил только, что К. Леонтьев был «реакционером», что он «славил кнут» и пр. Причина этого, возможно, в том, что Леонтьев действительно был большим любителем «страшных слов». По натуре прямой и страстный он не любил осторожных подходов к читателю, не пугался делать резкие выводы, часто формулируя их с вызывающей парадоксальностью.
Русские мыслители начала XX века по разному относились к творчеству Леонтьева, но, отмечая противоречивость его личности, все они признавали неповторимую индивидуальность, глубину и значимость его идей. Леонтьеву посвящали свои статьи Вл. Соловьёв, В. Розанов, С. Трубецкой, П. Струве, Н.
Бердяев, С. Франк, П. Милюков, Д. Мережковский, С. Булгаков, свящ. Фудель, Г. Флоровский и многие другие.
Меняясь со временем, образ Леонтьева сейчас, после того как многие из его предсказаний сбылись, приобрёл иную отчётливость, иное звучание. По достоинству оценён вклад Леонтьева в теорию культурно-исторических типов, где он во многом предвосхитил идеи Шпенглера и Л. Гумилёва. Признано, что в русской философии Леонтьев вместе со славянофилами, Достоевским и др., отметил особую фазу развития русского самосознанияпо иному взглянули на «демонический» эстетизм Леонтьева, который, по мнению С. Булгакова и некоторых критиков начала XX века, противоречил его вере. Но во многих отношениях Леонтьев и сейчас ещё не открыт. В частности, Леонтьев — критик остаётся в тени, по сравнению с Леонтьевым — социологом и религиозным философом. Есть всего несколько новейших работ, специально посвящённых литературно-критической деятельности Леонтьева. Одна из наиболее ранних — это статья П. Гайденко в «Вопросах литературы"(1974) «Наперекор историческому процессу (Константин Леонтьев — литературный критик)». Однако автор отвлекается от собственно литературоведческой проблематики, сосредотачиваясь на «религиозно-философской подоплёке» работ Леонтьева. Подробнее эта тема «Константин Леонтьев о русской литературе» рассматривается в статьях С. Бочарова. Бочаров определял позицию, которую занимал Леонтьев в своей эпохе, как «эстетическое охранение» — «одинокую позицию реакционного романтика, изолирующего Леонтьева в истории русской мысли» Тема «Достоевский и Леонтьев» (2-ая глава диссертации) затронута Н. Будановой в статье «Достоевский и Константин Леонтьев». Автор пытается осмыслить глубокие идейные расхождения Достоевского и Леонтьева, представляя Леонтьева, как фигуру второстепенную, часто спорно трактуя его образ. Нельзя обойти вниманием также книгу Ю. Иваска «Константин Леонтьев: Жизнь и творчество», его «психологически — мифологический подход».
В девятитомном собрании сочинений Леонтьева наряду с художественной прозой и трактатами, посвященными культурно-историческим и политическим темам, его литературная критика занимает меньшую часть (один том). «Отражённую эстетику» искусства Леонтьев не ставил в центр своего учения. В этом отношении он оставался сыном своего времени, потому что не мог уйти от вопросов, которые рационализм второй половины XIX века приучил считать самыми важными (славянский вопрос и другие злободневные политические новости). Его мысли о литературе (другие искусства в то время старались не замечать в своих теориях) рассеяны по немногим, случайно появившимся статьям. «Едва ли, — замечал Б. Грифцов, — (Леонтьев) сам сознавал всю важность для русской культуры того, что он бы мог об искусстве сказать». Тем не менее, ему удалось, во многом опережая своё время, наметить целый ряд теоретических проблем, которые поэтике предстояло исследовать только в будущем, а многие из них являются открытыми до сих пор (вопросы содержания и фор' Бочаров С. Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике // Контекст-77. — 1978. — С. 146. 2 Грифцов Б. Судьба К. Леонтьева // К. Леонтьев. Pro et contra: личность и творчество.- Пб.: Издательство Ру сского Христианского гуманитарного института, 1995. — Т. 1. — С. 324. мы, стиля и т. д.). Так, нельзя сейчас писать о Толстом, не зная всех за и против леонтьевского разбора «Войны и мира» и «Анны Карениной». Рассмотрение этих проблем невозможно без того, чтобы не проследить эволюцию Леонтьевакритика, которая тесно связана с его мировоззрением в целом.
Основные идеи миросозерцания Леонтьева были во многом заложены в его душу и сознание матерью — истинной аристократкой, любившей всё прекрасное. Прежде всего это относится к таким принципам, как глубокая религиозность, эстетика жизни, монархизм и патриотизм. «Сила, вырабатываемая сословным строем, разнообразие характеров, борьба, битвы, слава, живописность и т. д. В этом эстетическом инстинкте моей юности было гораздо более государственного такта, чем думают обыкновенноибо только там много бытовой и всякой поэзии, где много государственной и общественной силы. Государственная сила есть скрытый железный остов, на котором великий художник — история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни... Я, сам того не подозревая, рос в преданиях монархической любви и настоящего русского патриотизма... И этими-то добрыми началами, которые сказались вовсе не поздно, а при первой же встрече с крайней «демократией нашей» 60-х годов, быть может, я более всего обязан матери моей, которая сеяла с самого детства во мне хорошие семена"(9,40) .
Эстетизм пронизывал всю жизнь и творчество К. Леонтьева. Уже в раннем романе «В своём краю» он определил прекрасное как «главный аршин"(1,282), а позднее дал обоснование эстетического критерия — как универсального, по его приложимости ко всем без исключения явлениям как человеческой жизни, так и природы, «начиная от минерала и до самого всесвятейшего человека"(1,283). Эстетический факт Леонтьев считал столь же объективным, как и естественнонаучную истину. И здесь Леонтьев не мог уйти от парадокса. Почти все исследователи, писавшие о нём, не могли совместить эту фанатическую веру в эстетическое начало жизни с устремлённостью Леонтьева к монашеству или с его гражданским патриотизмом. За такое недвусмысленное любование красотой силы, избранности Леонтьева сравнивали с Ницше. Бердяев определил его эстетизм как не русскую черту, резко дисгармонирующую с традиционно русским состраданием униженным и оскорбённым. Эстетизм Леонтьева чужд не только традиции русской культуры, но и западному романтизму, воспринимающему мир по преимуществу цельно и оптимистически (Гёте, Уальд, Метерлинк). Эстетизм Леонтьева, как отмечал С. Л. Франк, сочетался с «мрачным пессимизмом», доходящим даже «до любви к жестокости и насилию"4. Например, войну он воспринимал эстетически, как средство ухода от однообразия и скуки будничной жизни, хотя, как врач, видел войну отнюдь не идеализированно)5.
Как критик Леонтьев также занимал эстетическую позицию. Через всё его творчество приходит мотив ненависти к мелочному, бытовому реализму прозы, в который впадало большинство русских писателей (критика «общерусского».
4 С. Л. Франк Миросозерцание К. Леонтьева \ Леонтьев. Pro et contra: личность и творчество. Т. 1. С. 237.
5 Одно Ватерлоо принесло сколько прекрасных страниц искусству, писал в одной из статей Леонтьев. стиля). «Именно в гоголевском пути он усматривал причину падения литературы, — по словам Бердяева, — с высоты изящных образов к натурализму и культивированию безобразного. (.) .движение к мещанству и буржуазности, к умалению культурных ценностей, к постепенному превращению великого в малое, мировой трагедии в. драму, комедию и далее, логически, — в пошлый фарс» 6.
Свою гражданскую позицию Леонтьев определил как «философскую ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни», он остро реагировал на историческое развитие — крушение сословного строя в России и замену его эгалитарным буржуазным обществом: «. буржуазная роскошь и буржуазный разврат, буржуазная умеренность и буржуазная нравственность, полька тремб-лант, сюртук, цилиндр и панталоны, так мало вдохновительны для художников, то чего же должно ожидать от искусства тогда, когда... не будут существовать ни цари, ни священники, ни полководцы, ни великие государственные люди... Тогда, конечно, не будет и художников. О чём им петь тогда? И с чего писать картины?» (7,21).
Время Пушкина, а также 40-е -50-е годы XIX века Леонтьев считал лучшими в эстетическом отношении — «блаженное для жизненной поэзии вре-мя"(7,30). Этим во многом и определялось отношение Леонтьева к своему времени: поскольку «патриархальную поэзию русского быта"(7,30) уже нельзя возродить, она умирает вместе с дворянской усадьбой, эстетику остаётся только охранять её остатки («что ещё не совсем погибло» — 7, 31), средство для этого — политическая реакция.
Леонтьев создал оригинальную теорию антипрогресса, антидемократии, его волновало будущее демократических обществ, их прощание с национальными особенностями в угоду общеуравнительному движению к процветанию.
Своими идеями Леонтьев близок к создателям антиутопий XX века. Например, Замятин в романе «Мы"(1920 г.) восстает против того же, чего и Леонтьев — механической размеренности жизни, против штампа, когда люди, как муравьи, одинаковы, гениально предугадывая компьютерное будущее. К этому может привести человечество бездумный технический прогресс, или наука, оторвавшаяся от нравственного и духовного начала в условиях всемирного «сверхгосударства» и торжества технократов.
В понимании особой миссии России и своеобразия её судьбы по сравнению с Западом Леонтьев расходился и со славянофилами. На почве эстетического неприятия буржуазной действительности он был скорее ближе к Герцену и европейским романтикам, в политике — к Каткову. (Но с практическими реакционерами Леонтьев имел мало общего, царь не видел в нём своего апологета и теоретика).
Совпадение политических теорий Леонтьева с практикой современности поразительно. Развитое вслед за Данилевским учение о культурно-исторических типах, позволяло Леонтьеву точно предсказывать те события, которые могут произойти в государстве, если то, что удерживает части в «деспотическом единстве», уходит. (Эгалитарно-либеральный прогресс разрушает монархию, сословность, неравенство). «Либерализм, простёртый ещё немного дальше, довёл бы нас до взрыва, и так называемая, конституция была бы самым верным средством для произведения насильственного социалистического переворота, для возбуждения бедного класса населения противу богатых, противу землевладельцев, банкиров и купцов для новой, ужасной, быть может, пугачёвщины» (7, 500). «Коммунизм в своих бурных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой — к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к новым стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, законами резко очерченнымвероятно, даже к новым формам личного рабства или закрепощения» (6, 59−60).
С. Бочаров верно указывал на одно из главных противоречий эстетики Леонтьева, которое он видел в разграничении «реальной» эстетики жизни и «отражённой» красоты искусства. Действительно их соотношение оценено у Леонтьева двойственно: «Искусство же есть цвет жизни и самое высшее, идеальное её выражение» (7, 453) — «Эстетика жизни (не искусства!. Черт его возьми искусство — без жизни!)» (7, 267) «Интересно прекрасное в искусстве, но важно только прекрасное в жизни: «А «прекрасное» нынче всё потихоньку опускается в те скучные катакомбы пластики, которые зовутся музеями и выставками и в которых происходит что-нибудь одно: или снуют без толку толпы людей малопонимающих, или «изучают» что-нибудь специалисты и любители, то есть люди, быть может и понимающие изящное «со стороны», но в жизнь ничего в этом роде сами не вносящие... Сами-то они большей частью как-то плохи — эти серьёзные люди"(3,307). Подобных заявлений относительно «вторичного» прекрасного можно много цитировать из Леонтьева: «. европейская цивилизация мало-помалу сбывает всё изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть. ."(3, 308−309). Можно вспомнить тезис Чернышевского: «прекрасное есть жизнь» и прекрасное в действительности выше прекрасного в искусстве. Но Чернышевский подразумевал под этим революционную переделку жизни в соответствии с тем, «какова должна быть она по нашим понятиям», а Леонтьев — охранение.
Не вызывает сомнения утверждение, что реальная жизнь может служить прообразом для искусства (в рамках стилей реалистического плана). Именно об этом писал Леонтьев: «хорошие стихи и романы» не заменят прекрасной, жизни, нужно, «чтобы сама жизнь была достойна хорошего изображения». Однако можно найти совершенно иное понимание искусства у К. Леонтьева. В статье «Грамотность и народность» Леонтьев оригинально иллюстрировал свой тезис: он приводил экзотический пример из судебной практики (который, конечно, следует трактовать, учитывая его культурно-исторические взгляды). Речь шла о некоем раскольнике Куртине, заклавшем своего родного сына в жертву — Богу под влиянием библейских образован казаке Кувайцев (некрофиле), который отрыл труп любимой женщины, отрубил палец и рук и держал у себя под тюфяком. «... там только сильна и плодоносна жизнь, — справедливо замечал Леонтьев, — где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих произведениях. Куртин и Кувайцев могут быть героями поэмы более, чем самый честный и почтенный судья, осудивший их вполне законно (7, 34).
Образы в духе психологических фильмов ужасов XX века, достаточно вспомнить «Психо» А. Хичкока. Герой, который страдает раздвоением личности, представляясь то самим собой, то переодеваясь в убитую им самим же и не похороненную мать. Это, бесспорно, очень контрастирует с центральным типом XIX века «маленьким» человеком — серым гоголевским чиновником. Конечно, уже в XX веке восприятие искусства как отражения реальной жизни кажется ограниченным. «Глубоко ошибаются те, — писал Б. Грифцов, — кто хотел бы богато развитое искусство считать показателем богатой эпохи. Если бы мы стали спрашивать себя, кто изображён в живописи итальянского возрождения или в романах Достоевского, мы были бы только поражены преображающей силой искусства, придавшего очарование незаметному, увидавшему чистые идеи в том, что житейскому взгляду покажется поверхностной простотой. Только тем и важно искусство, что оно не похоже на жизнь, которая проста и.
7 незаметна". Однако отношение Леонтьева к искусству гораздо сложнее. По замечанию того же Грифцова, логическое продолжение мыслей Леонтьева об искусстве могло бы пояснить романтическую теорию воображении (см. I главу). Искусство, по Леонтьеву, не столько отражает жизнь, сколько меняет наш взгляд на жизнь, учит нас иначе видеть предметы. Так, кто-то сказал, что надо писать на картине голубоватую тень на снегу, и после этого он увидел эту голубизну в действительности. Об этом же, примерно в тот же период (конец 80-х гг.), писал другой эстет Оскар Уальд: «Откуда, как не от импрессионистов, эта чудесная коричневая дымка, обволакивающая улицы наших городов, когда о расплывчат свет фонарей и дома обращаются в какие-то пугающие тени? Мнение Леонтьева и Уальда близко современной формуле: искусство учит жизнь. Где искусство — созданная художником новая эстетическая реальность, воспринимается как отдельная форма духовного творчества в отличие, например, от научной или общественно-политической. Достаточно вспомнить «Волхва» Дж. Фаулза — роман, где реальность и художественный вымысел настолько переплелись, что между ними теряется грань, или спланированную, словно по голливудскому сценарию, террористическую атаку боевиков «Алькаиды» в США.
В первой главе диссертации «Особенности литературно-критического подхода» поставлена задача показать своеобразие и оригинальность критики Леонтьева, определить его место среди основных течений эстетической мысли эпохи, а также проследить формирование взглядов на материале воспоминаний и ранних статей 60 годов: «Письмо провинциала к Г. Тургеневу», «По поводу рассказов М. Вовчка», «Несколько мыслей об Ап. Григорьеве». Эти статьи интересны прежде всего тем, что от намеченных в них мыслей, Леонтьев не отказывался, а развивал на протяжении всей жизни. По выражению Розанова: «В Леонтьеве поражает нас разнородность состава, при бедности и монотонности тезисов» 9.
8 Уальд О. Упадок лжи \ Избранные произведения в 2 томах. — М.: Республика, 1993. — T.2. — С.238.
60-е, 70-е годы были периодом развития философского и политического мировоззрения Леонтьева. Им был написан ряд статей, в число которых вошёл важнейший теоретический труд «Византизм и славянство», в котором Леонтьев изложил «органическую» концепцию «триединого» процесса развития обществ. Основные факты биографии этого периода — это дипломатическая служба в греческих и славянских областях Турецкой империи, определившая его интерес к вопросам национального и политического будущего, и религиозное обращение после опасной болезни в 1871 году — поворот в сторону аскетического христианства, приведшего к тайному постригу в Оптиной пустыни за три месяца до смерти. (См. главу 2-ю).
Публицистичность — родовая черта русской критики XIX века. Общественная идеология критика являлась одним из источников его критического метода. Отдавал дань своему веку и Леонтьев. В отличие от относительно нейтрального взгляда в статьях 60-х годов, статьи 80-х гг. имеют резвую идеологическую направленность, («О всемирной любви. Речь Достоевского на пушкинском празднике» (1880г.) и «Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы?"(1882г.) — в них разворачивается полемика Леонтьева с Достоевским и Толстым о понимании христианства). Причём идеологические и эстетические оценки творчества Достоевского и Толстого у Леонтьева часто расходятся. (Глава «Идеология и эстетика в критике Леонтьева). Наиболее очевидно такой подходсуждение о литературе с точки зрения не чисто литературной проявился в статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» (1988), где Леонтьев писал о предпочтении г. Вронского, как полезного, нужного государству твёрдого деятеля — самому его создателю, Толстому. Парадоксально, но такой взгляд на литературу стал поводом к чисто художественному, стилистическому анализу романов Толстого. (Глава II) Современной Леонтьеву критике, ограничивающейся разбором литературных произведений со стороны их идейного содержания, не было дела до проблем стиля и неуловимых «веяний». Леонтьев именно в рассмотрении этих тонкостей и полагал центр своей критики. Но главное, что эта работа является живым источником идей до сих пор, например: нельзя писать о Толстом без знания всех «за» и «против» леонтьевского разбора «Войны и мира» и «Анны Карениной». Основная цель исследования — подчеркнуть общее значение его деятельностиведь Леонтьева, к сожалению, не включают в антологию русской критики, учебники по русской критике XIX века, несмотря на принципиальную важность и яркость его наблюдений и мыслей. В серии книг издательства МГУ «В помощь абитуриентам и школьникам» ставиться задача по-новому интерпретировать произведения, отойти от столь привычного в советское время толкования. Критики, верно указывая на ошибки реальной критики, вновь и вновь продолжают устремляться к их идеям. «В статьях Писарева были и неверные положения: (.), но несмотря на это он с большей объективностью, чем другие критики, подошёл к «Отцам и детям» и объяснил смысл образа Базарова"10. Достаточно вспомнить отношение творца бессмертного произведения к тем самым представителям «реальной критики»: «Вы Николай Гаврилович, просто змея, — сказал однажды Тургенев Чернышевскому в беседе о движении нигилистов, — а Добролюбов — очковая» 11.
Не лучше ли обратиться за свежими впечатлениями к малоисследованному — статьям К. Леонтьева, Ап. Григорьева, В. Розанова и др.
Заключение
.
Литературно-критическая деятельность К. Н. Леонтьева и его отношение к русской литературе и русской критике, его концепция русской литературы не проста и практически не изучена, как и не определено его место в истории русской критики рубежа веков, хотя критическая деятельность Леонтьва, как было доказано, имеет важное значение для общего литературоведения.
Леонтьев, наряду с Ф. Достоевским, Ап. Григорьевым, отстаивал автономную область для искусства, избегая двух крайностей, как эстетического сепаратизма, так и утилитаризма.
Исследуя стиль романа Толстого «Война и мир», Леонтьев подошёл к проблеме критической направленности всей русской литературы, к вопросу соотношения содержания и формы, он одним из первых указал на внутреннюю содержательность формы и стиля, что отличает его творчество от произведений «эстетической» критики и предвосхищает современную поэтику.
Им были открыты некоторые аспекты эстетики, к изучению которых учёные подошли только в будущем (психология формы). Никто из критиков того времени не производил такого подробного тонкого исследования толстовского психологического анализа.
Многие темы, впервые обозначенные в трактатах Леонтьева, занимают и сейчас современную науку: проблема повествовательной точки зрения, вопрос об авторской речи, в которой концентрируется смысл произведения и его основное «веяние», вопрос о соотношении субъективной критики и объективного научного изучения. Леонтьев первым указал на то, что составляет основной недостаток нашей реалистической школы — это перегруженность подробностями, мелочами произведений Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого, подробностями вне цели, психологической связи.
Леонтьевым была открыта идея насыщения художественного стиля. Его анализ и художественные утверждения объясняли, почему после «Анны Карениной» для русской литературы настала пора новых исканий, новых попыток. Декаденство, символизм, «стилизация» — во всём этом литература искала новых путей, чтобы не повторять то, что было пройдено.
Борьба за чистоту стиля, формы речи, выражения и изображения актуальна в любую эпоху, знание эстетики Леонтьева словно проясняет взор, приучает к требовательности: «- Не раздавь ты его машину за-ради Бога (читаем в произведении современного писателя-„деревенщика“), — сказала бабка, — крику не оберёшьси». Она что-то жевала, вытирала пальцы большим носовым платком, нюхала их и снова вытирала". Да, это не «красивый, влажный рот» Несвицкого! Ещё подобный пример: «Девушка раскрыла ладони, и ладони её сияли солью пота». Хочется сказать по Леонтьеву: «Ненужные телесные наблюдения», «дурной натурализм». Или относительно такой «кладбищенской эстетики»: «Бабушка не разрешает рубить кусты, говорит, что они растут из дедушкиных костей». Слышится голос Леонтьева: «Это гадко и не нужно». Не иссякает также в русской литературе традиция изображения зубов. Например, в публикации Алексея Иванова: «Она немного шепелявила в последнее время, поскольку у неё начали выпадать молочные зубы, передних уже совсем не было, и когда она смеялась, широко раскрывая рот (этот ужасный рот! — И.С.), то даже не подозревала, как это некрасиво"103 (какое важное авторское наблюдение! — И.С.). Это иллюстрации из произведений молодых авторов, опубликованных в том числе и в «Новом мире». Теперь обратимся к текстам авторитетных современных прозаиков.
Совершенно в стиле цитируемых Леонтьевым примеров из «натуральной школы», таких как: «Потугин потупился и осклабясь ответил кивком головы «(Анализ, стиль и веяние), выражается А. Кабаков: «Игорь Васильевич заткнулся и вдруг отчаянно захохотал» или «Сортиры были у нас выдающиеся, даже по отечественным меркам» (слова автора, не героя!).
К. Леонтьев не любил употреблять в речи родительный падеж слова «черт», говоря, что похоже на «чёрт». «Всё 'гавно, — ответил господин и вдруг нахмурился». (Картавит герой В. Пелевина в рассказе «Хрустальный мир») Забавно издевается над русским языком Л. Петрушевская в «Лингвистических сказочках»: «Сяпали Калуша с Помиком по напушке и увадили Ляпупу. А Ля-пупа трямкала Бутевку. А Калуша волит: — Киси-миси, Ляпупка! А Ляпупка не киси и не миси».
Герой романа Ю. Полякова Башмаков мало напоминает Акакия Акакиевича Башмачкина, однако от нарочитого сатирического конструирования фамилии персонажа дурно отдаёт вторичностью.
Леонтьев не порицает Л. Толстого, когда в «Войне и мире» Наташа выносит в гостиную детские пелёнки, на которых «пятно из зелёного стало жёлтым» (вышедши замуж она перестала заботиться о своей наружности) «До чего сила.
103 Литературная учёба. — 1997. — № 5−6. — С. 28. таланта сумела и в этом, — пишет Леонтьев, — последнем и неряшливом факте развития любимой героини сделать её симпатичной и занимательной!"(8,256). Действительно, хочется согласиться с Леонтьевым: от литературы до литературщины — один шаг. Буквально на одной странице рассказа Д. Липскерова, описанный выше физиологический процесс, у детей протекает странным образом, чаще чем в природе?! «Как — то лёжа в своей кровати и искусно делая вид, что я сплю, я с удовольствием (курсив мой — И.С.) наблюдал, как родительница наказывает мою старшую сестру за то, что та в свои неполные четыре года, не удержавшись от фантастических сновидений, пустила под утро кратковременную струю и замочила не только свою половину тахты, но и затронула.» и т. д.
Спустя несколько абзацев, читаем: «Мне внезапно тоже захотелось опростаться. Я не боялся наказания по причине своего малолетства, а потому незамедлительно освободил кишечник».
И, наконец: «Мать так вспотела, что сквозь рубашку отчётливо проступили груди, как будто её целиком окатили водой. А правая подмышка просветилась чернотой. Сестрица моя, теперь уж наверняка от страха, пустила под себя ещё порцию и засучила от дискомфорта ногами. Откуда что берётся! Вроде и не пила много на ночь» («Эдипов комплекс») 104.
Не берусь предсказать реакцию Леонтьева при знакомстве с произведениями В. Сорокина. Ведь не смог справиться с ужасом — разорвалось сердценедюжинный бурсак Гоголя, когда Вийю подняли веки.
104 Данные авторы в основном цитируются по интернет — изданию (библиотека М. Мошкова // Современная руо екая проза).
Небольшая кучка кала лежала в траве, маслянисто поблёскивая. Соколов приблизил к ней своё лицо. От кала сильно пахло. Он взял одну из слипшихся колбасок. Она была тёплой и мягкой. Он поцеловал её и стал быстро есть, жадно откусывая, мажа губы и пальцы" («Сергей Андреевич»)105.
Как мы убедились, литературная критика К. Леонтьева наполнена многообразием необычных и смелых идей. Картина критики XIX века остаётся не полной, если не учитывать деятельность Леонтьева. Поэтому специалистам просто необходимо знать и использовать все достижения Леонтьева. Несомненно, она заслуживает того, чтобы рассматривать её в ранге своеобразного литературоведения.
Известно много мыслителей, которые развивали уже сложившиеся темы, сюжеты, подхватывали идеи своих предшественников. Гораздо реже встречаются те, кто прокладывает дорогу принципиально новому. Леонтьев как раз был таким первооткрывателем неизведанных дотоле тем, проблем, противоречий.
105 Сорокин Вл. Сб. рассказов. — М.:РУССЛИТ, 1992. — С.59.
Список литературы
- Леонтьев К.Н. Pro et contra: личность и творчество. Т. 1−2- С-Пб.: Издательство Русского Христианского Гуманитарного института, 1995. — 924 с.
- Корольков А. Русская духовная философия. С-Пб.: Издательство Русского Христианского Гуманитарного института, 1998. — С.575.
- Уальд О. Избранные произведения в 2 томах. М.: Республика. Т.2, — 438 с.
- Недзвецкий В., Пустовойт П., Полтавец Е. Перечитывая классику. И. С. Тургенев. — М.: МГУ, 1998. — 85 с.
- Лосский И.О. История русской философии. М.: Советский писатель.- 1991 -476 с.
- Розанов В.В. Собрание сочинений. Т.4. О писателях и писательстве. — М.: Республика, 1994.-438 с.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе. -М.: Республика, 1996. — 435 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М.: Наука. — Т. 1−5.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах. Л.: Наука, 1989. — Т. 4−9.
- Дружинин А. В. Собрание сочинений в 8 т. С-Пб., — Наука, 1865. — С.217
- Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. — 124с.
- Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений в 6 томах. М.: Наука, 1983.-Т. 2.- С. 259−307.
- Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983- С.15−30.
- Леонтьев К. Н. Несколько мыслей о покойном Ап. Григорьеве \ Русская мысль. 1915, IX, С. 108−124
- Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. М.: Наука. Т.З. — С. 303
- Письма В. В. Розанову, 1891г. \ Русский вестник, 1903. (Письмо от 13 апреля 1891 г.)
- Бахтин М. М. Проблема поэтики Достоевского. Киев: Советский писатель, 1994 — 570 с.
- Розанов В. В. Неоценимый ум. \ Новое время. 1911- 21 июня. — С. 3.
- Зеньковский В. Гоголь и Достоевский в сборнике «О Достоевском» под ред. Бема. 1 т. — с70.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. 346с.
- Письма К. Н. Леонтьев к А. Александрову. Сергиев Посад, 1915. — 256с.
- Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. -473 с.
- Шкловский В. Материал и стиль в романе Л. Толстого «Война и мир». М. -1928.-С. 74.
- Михайлов А. В. Одиссей. Человек в истории. Личность и общество. М., 1990.-С.56
- Гроссман Л. М. Этюды о Пушкине. М, 1923. — С.46.
- Леонтьев К. Н. Тургенев в Москве, из моих воспоминаний \ Русский вестник. 1888. — II-III. — С. 35−67.
- Вл. Гусев. Герой и стиль. М., 1983. 345 с.
- Парамонов Б. Конец стиля. С-Пб.: Алетейя. М. Аграф, 1997. — С. 5, 7.
- Леонтьев К. Н. Избранные письма. Пб., 1993 293 с.
- Попов Д. Л. Повесть К. Н. Леонтьева «Исповедь мужа»: сюжет и поэтика \ интернет-издание
- Буянова Е. Г. Романы Ф.М. Достоевского. М.: МГУ, 1999. — С.32.
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 томах. М.: Худ. лит., Т. 4−9.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1998. — 621с.
- Недзвецкий В.А. От Пушкина к Чехову. М.: МГУ, 1999. — 167 с.
- Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М.: ГИХЛ, 1961. -567 с.
- Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка, ч. 3. Л, 1929. — 456с.
- Эйхенбаум Б. Лев Толстой, семидесятые годы. М., 1960. — С. 174−181.
- Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. М., 1958. — 456с.
- Вл.Сорокин. Сб. рассказов. М.:РУССЛИТ, 1992. — С. 49−60.
- БочаровС. Г. Леонтьев К. Н. \ Русские писатели. 1800−1917: биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 45.
- Рабкина Н. А. Антигерой Достоевского и штрихи реальной истории \ Известия ОЛЯ. 1984. — № 4. С. 56.
- Буданова Н. Ф. Достоевский и Л. \ Достоевский. Материалы и исследования. -Л., 1991. Т. 9. — С. 59−70.
- Долгов К.М. Восхождение на Афон. М.: Раритет, 1997. — 395с.
- Кулешов В.И. История русской критики XVIII XIX вв. — М., 1984. — 389с.
- Белинский В.Г. Полное собр. соч. в тринадцати томах. М.: Наука, 1953 -1959.
- Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984. — 432с.
- Дружинин А.В. Прекрасное и вечное. М.: Современник, 1988. — 398с.
- Писарев Д.И. Сочинения. Т. I IV. М.: Наука, 1955 — 1956. — 456с.
- Григорьев А. А Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986. -379с.
- Григорьев А.А. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1980. 456с.
- Леонтьев К.Н. Письмо провинциала к Тургеневу (о его романе «Накануне») \ Отечественные записки. 1859. — № 5.
- Леонтьев К.Н. О сочинениях Марко Вовчка \ Отечеств, записки. 1861. -№ 3.
- Леонтьев К.Н. Ай-бурун (Исповедь мужа), роман \ Отечеств, записки. -1861.-№ 3.
- Леонтьев К.Н. Грамотность и народность \ Заря. 1870. — № 11−12.
- Леонтьев К.Н. Византизм и славянство \ Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1875. -№ 3.
- Леонтьев К.Н. Новый драматический писатель Н. Я. Соловьёв \ Русский вестник.-1879.-№ 12.
- Леонтьев К.Н. Египетский голубь, роман \ Русский вестник. 1881. — № 810- 1882.-№ 1.
- Леонтьев К.Н. Страх Божий и любовь к человечеству \ Гражданин. 1882. -С. 54−55
- Леонтьев К.Н. Тургенев в Москве (1851−1861), из моих воспоминаний \ Русский вестник. 1888. — № 2 — 3.
- Леонтьев К.Н. Кстати и некстати, письмо А. А. Фету по поводу его юбилея \ Гражданин. 1889. — С. 80, 81, 83.
- Леонтьев К.Н. По поводу моих статей «Анализ. Стиль и веяние» \ Гражданин.-1890.- С. 157, 158.
- Леонтьев К.Н. Какой Успенский Глеб или Николай? \ Гражданин. — 1890. -С. 190−195.
- Леонтьев К.Н. Достоевский о русском дворянстве \ Гражданин. 1891. — С. 204−206.
- Леонтьев К.Н. Оптинский старец Амвросий \ Гражданин. 1891. — С. 305, 313.
- Леонтьев К.Н. Где разыскивать мои сочинения после моей смерти \ Русское обозрение-1894. № 8.
- Леонтьев К.Н. Моё обращение и жизнь на Святой Афонской горе \ Русский вестник. -1900. № 9.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 1−9. (т. 10−12 изданы не были). -1912: т. VIII, типография В. М. Саблина, Москва. — 1913: т. VII, издательство «Деятель», СПб.- т. IX там же, дата опубликования не указана.
- Александров А.А.: I. Памяти К. Н. Леонтьев. II. Письма Леонтьева к А. Александрову. Сергиев-Посад. — 1915. — 356с.
- Соколов Теория стиля. -М.: Искусство, 1968. 389с.
- Борьба за стиль. Л.: Гослитиздат, 1937. — 346с.
- Структурализм: «за» и «против» М.: Прогресс, 1975.-436с.
- Шеллинг Ф. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. -457с.
- Гегель Эстетика. Т. 1−4.-М.: Искусство, 1968−1973.-478с.
- Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. — 478с.
- Дудышкин С. С. Примечания к статье К. Н. Леонтьев «Письмо провинциала к Тургеневу» \ Отечеств, записки. 1860. — № 5. — 16с.
- Салтыков-Шедрин М. Е. Рецензия на роман Леонтьева «В своем краю» \ Современник. 1864. — № 10. — 45с.
- Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. М.: Прогресс-Традиция, 1998.-412с.
- Лесков Н. С. Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи \ Новости. 1883. — 1 и 3 апр.
- Соловьев Вл. С. «Несколько слов о брошюре г. Леонтьева «Наши новые христиане». Заметки по поводу «Новых христиан» \ Русь. 1883. -№ 9. — 334с.
- Лесков Н. С. Золотой век. Утопия общественного переустройства. Картины жизни по программе Леонтьева \ Новости. 1883. — 22−29 июня.
- ИЗ. Говоруха-Отрок Ю. Н. Новый критик славянофильства W Московские ведомости. 1892. — 15 и 29 окт.
- Александров А. А К. Н. Леонтьев \ Русский вестник. 1892. — № 4. Фудель И. И. Памяти К. Л. \ Русское обозрение. — 1892. — № 2.
- Розанов В. В. Предисловие и послесловие к письмам Леонтьева, а также примечания \ Русский вестник. 1903. — № 4−6.
- Аггеев К. М. (свящ.). Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания христианства: диссертация. Киев, 1909. — 200с.
- Аггеев К. М К. Леонтьев как религиозный мыслитель \ Богословский вестник. 1909. -№ 4−8.
- Александров А. А К. Н. Леонтьев \ Московские ведомости. 1911. — 13 янв.
- Фудель И. И. (свящ.). Рецензия об этюде К. Н. Л. «О романах гр. Л. Н. Толсто-го"\ Московские ведомости. 1911. — 28 апр.
- Розанов В. В. Неоценимый ум \ Новое время. -1911.-21 июня.
- Лернер Н. О. Отзыв о книге Л. «О романах гр. Л. Н. Толстого» (1911) \ Исторический вестник. 1911. — Т. 126. — С. 34−36.
- Лернер Н.О. Рецензия на книгу Л. «О романах гр. Л. Н. Толстого» \ Речь.- 1911.-27 июня.
- Горнфельд А. Г. Рец. на: «О романах гр. Л. Н. Толстого \ Русское богатство. 1911. — № 9. — С.57−85.
- Грифцов Б. А. Библиогр. отзыв на сборник «Памяти К. Н. Л.» и издание сочинений Леонтьева \ Русская мысль. 1912. — № 5. — С. 3915.
- Розанов В. В. К изданию Поли. собр. сочинений К. Н. Л. \ Новое время. -1912.-№ 13 024.
- Гусев В.И. Рождение стиля. М.: Советская Россия, 1984. — 360с.
- Розанов В. В. Опавшие листья. М.: Современник, 1992. — 541с.
- Розанов В. В. К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве \ Новое время. 1915.- 9 дек.
- Булгаков С.Н. Победитель- Побежденный \ Биржевые ведомости. -1916.- 9, 16, 22 дек.
- Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж, 1926. — 245с.
- Зайцев К. Любовь и страх. Памяти К. Леонтьева \ К познанию православия. Шанхай, 1948. — С. 78−95.
- Зеньковский В. В. (протоиерей). История русской философии. Париж, 1948. — № 1, гл. XII (2-е изд. — 1989).
- Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. М., 1960. — 498с.
- Дунаева Е. Н. Тексты писем Тургенева к К. Н. Леонтьеву (Вновь найденные автографы) \ Тургеневский сборник. М.- Л., 1966. — Вып. 2
- Гартман Н. Эстетика. М.: Изд-во ин. лит., 1958. — 563с.
- Данилевский Н.Я. Статьи. Пб., 1890. — 579 с.
- Поэтика. Сборники по теории поэтического языка и стиля. С- Пб.: Опояз, -С.119.
- Минералов Ю.И. Поэтика индивидуального стиля: Диссертация доктора филологических наук. М., 1986. — 400с.
- Миночкина Л.И. Новый взгляд на роль русской критики на рубеже XIX—XX вв.еков (К. Леонтьев и В. Розанов) // Вестник Челябинского университета. -Серия 2. Филология. — 1997. — № 2. — С. 45−48.