Метафора и дискурс
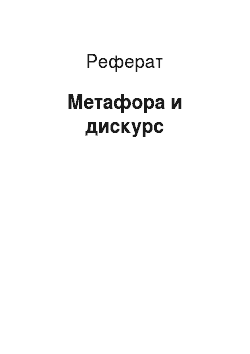
Тайна метафоры привлекала к себе крупнейших мыслителей — от Аристотеля до Руссо и Гегеля и далее до Э. Кассирера, X. Ортеги-и-Гассета и многих других. О метафоре написано множество работ. О ней высказывались не только ученые, но и сами ее творцы — писатели, поэты, художники, кинематографисты. Нет критика, который не имел бы собственного мнения о природе и эстетической ценности метафоры. Изучение… Читать ещё >
Метафора и дискурс (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Тайна метафоры привлекала к себе крупнейших мыслителей — от Аристотеля до Руссо и Гегеля и далее до Э. Кассирера, X. Ортеги-и-Гассета и многих других. О метафоре написано множество работ. О ней высказывались не только ученые, но и сами ее творцы — писатели, поэты, художники, кинематографисты. Нет критика, который не имел бы собственного мнения о природе и эстетической ценности метафоры. Изучение метафоры традиционно, но было бы неверно думать, что оно поддерживается только силой традиции. Напротив, оно становится все более интенсивным и быстро расширяется, захватывая разные области знания — философию, логику, психологию, психоанализ, герменевтику, литературоведение, литературную критику, теорию изящных искусств, семиотику, риторику, лингвистическую философию, разные школы лингвистики. Интерес к метафоре способствовал взаимодействию названных, направлений научной мысли, их идейной консолидации, следствием которой стало формирование когнитивной науки, занятой исследованием разных сторон человеческого сознания. «В ее основе — предположение о том, что человеческие когнитивные структуры (восприятие, язык, мышление, память, действие) неразрывно связаны между собой в рамках одной общей задачи — осуществления процессов усвоения, переработки и трансформации знания, которые, собственно, и определяют сущность человеческого разума» [1].
В последние десятилетия центр тяжести в изучении метафоры переместился из филологии (риторики, стилистики, литературной критики), в которой превалировали анализ и оценка поэтической метафоры, в область изучения практической речи и в те сферы, которые обращены к мышлению, познанию и сознанию, к концептуальным системам и, наконец, к моделированию искусственного интеллекта [2]. В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа. Метафора тем самым укрепила связь с логикой, с одной стороны, и мифологией — с другой.
Рост теоретического интереса к метафоре был стимулирован увеличением ее присутствия в различных видах текстов, начиная с поэтической речи и публицистики и кончая языками разных отраслей научного знания. Естественно, что экспансия метафоры в разные виды дискурса не прошла незамеченной. Искусствоведы, философы и психологи, науковеды и лингвисты обратились к проблеме метафоры с возросшим интересом. Вынесенный метафоре «вотум доверия» вызвал существенное расширение «материальной базы» ее изучения: появились исследования метафоры в различных терминологических системах, в детской речи и дидактической литературе, в разных видах масс-медиа, в языке рекламы, в наименованиях товаров, в заголовках, в спорте, в речи афатиков и даже в речи глухонемых [3].
Распространение метафоры в многочисленных жанрах художественной, повседневной и научной речи заставляло авторов обращать внимание не столько на эстетическую ценность метафоры, сколько на предоставляемые ею утилитарные преимущества. Р. Хофман — автор ряда исследований о метафоре — писал: «Метафора исключительно практична. Она может быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка» [4]. Создавалось мнение о всемогуществе, всеприсутствии [5] и вседозволенности метафоры, которое, наряду с отмеченным выше положительным эффектом, имело и некоторые отрицательные следствия. Представление о вездесущности метафоры отодвигало на задний план проблему ограничений на ее употребление в разных видах дискурса. Это привело к размыванию границ самого концепта метафоры: метафорой стали называть любой способ косвенного и образного выражения смысла, бытующий в художественном тексте и в изобразительных искусствах — живописи, кинематографе, театре. Меньше стали обращать внимание и на различие между метафорой, используемой в качестве номинативного приема, и собственно метафорой, сдваивающей представление о разных классах объектов.
При обращении к практической речи бросается в глаза не всеприсутствие метафоры, а ее неуместность, неудобство и даже недопустимость в целом ряде функциональных стилей. Так, несмотря на семантическую емкость метафоры, ей нет места в языке телеграмм, текст которых сжимается отнюдь не за счет метафоризации. Между тем в так называемом «телеграфном стиле» художественной прозы она появляется, и нередко.
Не прибегают к метафоре в разных видах делового дискурса: в законах и военных приказах, в уставах, запретах и резолюциях, постановлениях, указах и наказах, всевозможных требованиях, правилах поведения и безопасности, в циркулярах, в инструкциях и медицинских рекомендациях, программах и планах, в судопроизводстве (приговорах и частных определениях), экспертных заключениях, аннотациях, патентах и анкетах, завещаниях, присягах и обещаниях, в предостережениях и предупреждениях, в ультиматумах, предложениях, просьбах — словом, во всем, что должно неукоснительно соблюдаться, выполняться и контролироваться, а следовательно, подлежит точному и однозначному пониманию. Приведенный перечень показывает, что метафора несовместима с прескриптивной и комиссивной (относящейся к обязательствам) функциями речи. Естественно, что метафора редко встречается и в вопросах, представляющих собой требование о предписании (типа «Как пользоваться этим инструментом?»), а также в вопросах, имеющих своей целью получение точной информации.
Прескрипции и комиссивные акты соотносятся с действием и воздействием. Они предполагают не только выполнимость и выполнение, но и возможность определить меру отступления от предписания и меру ответственности за отступление. Метафора этому препятствует. Однако, как только центр тяжести переносится на эмоциональное воздействие, запрет на метафору снимается. Так, когда в обыденной речи ультиматум вырождается в угрозу, имеющую своей целью устрашение, он может быть выражен метафорически. Вспомним также, как тщетно боролся председатель суда с потоком метафор в речи адвоката миссис Бардль в «Пиквикском клубе». Адвокат стремился воздействовать на воображение присяжных через воображение на их эмоции, через эмоции — на решение суда, а через него — на последующие реальные ситуации. В эмоциональном нажиме на адресата заинтересован не только писатель, публицист и общественный деятель, но и любой член социума. Общность цели естественно порождает и общность используемых языковых приемов. Сфера выражения эмоций и эмоционального давления вносит в обыденную речь элемент артистизма, а вместе с ним и метафору [6].
Метафора часто содержит точную и яркую характеристику лица. Это — приговор [7], но не судебный. Метафора не проникает ни в досье, ни в анкету. В графе об особых приметах Собакевича не может быть поставлено «медведь» — метафорическое «вместилище» его особых примет. Но для актера, исполняющего роль Собакевича, эта метафора важна: инструкция для создания художественного образа может быть образной. Метафора эффективна и в словесном портрете разыскиваемого лица. Ведь узнавание производится не только по родинкам и татуировкам, но и по хранимому в памяти образу. Это искусство. Метафора, если она удачна, помогает воспроизвести образ, не данный в опыте.
Интуитивное чувство сходства играет огромную роль в практическом мышлении, определяющем поведение человека, и оно не может не отразиться в повседневной речи. В этом заключен неизбежный и неиссякаемый источник метафоры «в быту». В практике жизни образное мышление весьма существенно. Человек способен не только идентифицировать индивидные объекты (в частности, узнавать людей), не только устанавливать сходство между областями, воспринимаемыми разными органами чувств (ср. явление синестезии: твердый металл и твердый звук, теплый воздух и теплый тон), но также улавливать общность между конкретными и абстрактными объектами, материей и духом (ср.: вода течет, жизнь течет, время течет, мысли текут и т. п.). В этих последних случаях говорят о том, что человек не столько открывает сходство, сколько создает его.
Особенности сенсорных механизмов и их взаимодействие с психикой позволяют человеку сопоставлять несопоставимое и соизмерять несоизмеримое. Это устройство действует постоянно, порождая метафору в любых видах дискурса. Попадая в оборот повседневной речи, метафора быстро стирается и на общих правах входит в словарный состав языка. Но употребление появляющихся живых метафор наталкивается на ограничения, налагаемые функционально-стилевыми и коммуникативными характеристиками дискурса, о которых шла речь выше. Однако не только они пресекают метафору. Метафора, вообще говоря, плохо согласуется с теми функциями, которые выполняют в практической речи основные компоненты предложения — его субъект и предикат.
В обыденной речи метафора не находит себе пристанища ни в одной из этих функций. Сама ее сущность не отвечает назначению основных компонентов предложения. Для идентифицирующей функции, выполняемой субъектом (шире — конкретно-референтными членами предложения), метафора слишком произвольна, она не может с полной определенностью указывать на предмет речи. Этой цели служат имена собственные и дейктические средства языка. Для предиката, предназначенного для введения новой информации, метафора слишком туманна, семантически диффузна. Кажущаяся конкретность метафоры не превращает ее в наглядное пособие языка.
Рано или поздно практическая, речь убивает метафору. Ее образность плохо согласуется с функциями основных компонентов предложения. Ее неоднозначность несовместима с коммуникативными целями основных речевых актов — информативным запросом и сообщением информации, прескрипцией и взятием обязательств.
Метафора не нужна практической речи, но она ей в то же время необходима. Она не нужна как идеология, но она необходима как техника. Всякое обновление, всякое развитие начинается с творческого акта. Это верно и по отношению к жизни и по отношению к языку. Акт метафорического творчества лежит в основе многих семантических процессов — развития синонимических средств, появления новых значений и их нюансов, создания полисемии, развития систем терминологии и эмоционально-экспрессивной лексики. Без метафоры не существовало бы лексики «невидимых миров» (внутренней жизни человека), зоны вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих абстрактные понятия. Без нее не возникли бы ни предикаты широкой сочетаемости (ср., например, употребление глаголов движения), ни предикаты тонкой семантики [8]. Метафора выводит наружу один из парадоксов жизни, состоящий в том, что ближайшая цель того или другого действия (и в особенности творческого акта) нередко бывает обратна его далеким результатам: стремясь к частному и единичному, изысканному и образному, метафора может дать языку только стертое и безликое, общее и общедоступное. Создавая образ и апеллируя к воображению, метафора порождает смысл, воспринимаемый разумом.
Естественный язык умеет извлекать значение из образа. Итогом процесса метафоризации, в конечном счете изживающим метафору, являются категории языковой семантики. Изучение метафоры позволяет увидеть то сырье, из которого делается значение слова. Рассматриваемый в перспективе механизм действия метафоры ведет к конвенционализации смысла. Этим определяется роль метафоры в развитии техники смыслообразования, которая включает ее в круг интересов лингвистики.
Рассмотрим теперь положение метафоры в научном дискурсе. Отношение к употреблению метафоры в научной терминологии и теоретическом тексте менялось в зависимости от многих факторов — от общего контекста научной и культурной жизни общества, от философских воззрений разных авторов, от оценки научной методологии, в частности, роли, отводимой в ней интуиции и аналогическому мышлению, от характера научной области, от взглядов на язык, его сущность и предназначение, наконец, от понимания природы самой метафоры [9].
Естественно, что пафос резкого размежевания рациональной и эстетической деятельности человека, науки и искусства, стремление противопоставить строгое знание мифу и религии, гносеологию — вере всегда оборачивались против использования метафоры в языке науки.
Особенно отрицательно относились к метафоре английские философы-рационалисты.
Так, Т. Гоббс, считая, что речь служит в первую очередь для выражения мысли и передачи знания и что для выполнения этой функции пригодны только слова, употребленные в их прямом смысле, ибо только буквальное значение поддается верификации, видел в метафоре, равно как и в переносных значениях вообще, препятствие к выполнению этого главного назначения языка [10]. Он писал: «Свет человеческого ума — это вразумительные слова, предварительно очищенные от всякой двусмысленности точными дефинициями. Рассуждение есть шаг, рост знания — путь, а благоденствие человеческого рода — цель. Метафоры же и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ignes fatui (блуждающих огней), и рассуждать при их помощи — значит бродить среди бесчисленных нелепостей, результат же, к которому они приводят, есть разногласие и возмущение или презрение» [11].
Дж. Локк в своей инвективе против несовершенств языка также осудил образное употребление слов, которое «имеет в виду лишь внушать ложные идеи, возбуждать страсти и тем самым вводить в заблуждение рассудок и, следовательно, на деле есть чистый обман. И напрасно жаловаться на искусство обмана, если люди находят удовольствие в том, чтобы быть обманутыми» [12]. Склонность человека к метафоре представлялась Локку противоестественной.
Приведенные оценки исходят из того, что метафора — это один из способов выражения значения, существующий наряду с употреблением слов в их прямом и точном смысле, но гораздо менее удобный и эффективный. На этом тезисе сходились мыслители, придерживающиеся рационалистических, позитивистских и прагматических взглядов, сторонники философии логического анализа, эмпирицисты и логические позитивисты. В рамках названных направлений метафора считалась недопустимой в научных сочинениях и «совершение метафоры» приравнивалось к совершению преступления (ср. англ. to commit a metaphor по аналогии с to commit a crime).
Философы и ученые романтического склада, искавшие истоки языка в эмоциональных и поэтических импульсах человека, напротив, считали метафору фатальной неизбежностью, единственным способом не только выражения мысли, но и самого мышления. Особенно категоричны и последовательны в этом отношении высказывания Ф. Ницше, на которых мы остановимся более подробно. Ницше писал: «» Вещь в себе" (ею была бы именно чистая, беспоследственная истина) совершенно недостижима. для творца языка и в его глазах совершенно не заслуживает того, чтобы ее искать. Он обозначает только отношения вещей к людям и для выражения их пользуется самыми смелыми метафорами. Возбуждение нерва становится изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! Вторая метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно другую и чуждую область. Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям" [13].
Картина мира, выстроенная из заведомо антропоморфных понятий, не может быть ничем иным, как «умноженным отпечатком одного первообраза — человека» (с.400). Понятие, не изжившее метафоры, не поддается верификации [14]. Путь к истине заказан. «Что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов, — короче, сумма человеческих отношений.; истины — иллюзии, о которых позабыли, что они таковы, метафоры, которые уже истрепались и стали чувственно бессильными» (с.398).
Между субъектом и объектом, следовательно, возможно только эстетическое отношение, выражаемое метафорой (с.401). Поэтому побуждение человека к сознанию метафор неискоренимо. Оно ищет для своей реализации все новые возможности и находит их в мифе и искусстве (с.404).
Здесь действует одновременно инстинкт разрушения и импульс к созиданию. Человек ломает «огромное строение понятий». Он «разбрасывает обломки, иронически собирает их вновь, соединяя по парам наиболее чуждое и разделяя наиболее родственное; этим он показывает,. что им руководят не понятия, а интуиция» (с.405).
Таким образом, Ницше считает, что познание в принципе метафорично, имеет эстетическую природу и не оперирует понятием верифицируемости.
Если рационализм исторгал метафору как неадекватную и необязательную форму выражения истины, то философский иррационализм стремился отдать все царство познания метафоре, изгнав из него истину.
Разные версии и рефлексы такого подхода к роли метафоры в познании встречаются во всех философских концепциях, которые отмечены печатью субъективизма, антропоцентричности, интуитивизма, интереса к мифо-поэтическому мышлению и национальным картинам мира.
X. Ортега-и-Гассет, статья которого помещена в настоящем сборнике, полагал, что метафора — это едва ли не единственный способ уловить и содержательно определить объекты высокой степени абстракции. Позднее стали говорить о том, что метафора открывает «эпистемический доступ» к понятию [15]. Рассмотрев метафорические модели сознания, Ортега-и-Гассет писал: «От наших представлений о сознании зависит наша концепция мира, а она в свою очередь предопределяет нашу мораль, нашу политику, наше искусство. Получается, что все огромное здание Вселенной, преисполненное жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце метафоры» (наст, сб., с.77).
В те же годы было положено начало другой важной для современных когнитивных штудий линии развития мысли.Э. Кассирер начал публикацию цикла исследований о символических формах в человеческой культуре [16]. В небольшой книге «Язык и миф», предварившей издание этого труда, Кассирер в сжатой форме изложил основные положения своей концепции. Завершающая глава этой книги «Сила метафоры» включена в настоящий сборник.
Э. Кассирер расширил область теории звания за счет исследования дологического мышления, отложившегося в языке, мифологии, религии, искусстве. Кассирер исходил из мысли о целостности человеческого сознания, объединяющего различные виды ментальной деятельности, и из необходимости сопряженного изучения как их генезиса, так и общей структуры. Эпистемические исследования должны, по мысли Кассирера, начинаться не с анализа форм знания, а с поисков первичных, доисторических форм зарождения представлений человека о мире, не базирующихся на категориях рассудка. В языке выражены, полагал Кассирер, как логические, так и мифологические формы мышления. Рефлексы мифологических представлений о мире он искал в метафоре, понимаемой им очень широко (Кассирер включал в это понятие также метонимию и синекдоху).
Символика, которую мы находим в языке, мифологии, искусстве, религии, логике, математике и т. п., открывает исследователю доступ к сознанию. Способность к символической репрезентации содержательных категорий составляет уникальное свойство человека, противопоставляющее его животным. В фокусе внимания Кассирера находится homo symbolicus.
В отличие от Ницше, Кассирер не сводил к метафоре все способы мышления. Он различал два вида ментальной деятельности: метафорическое (мифо-поэтическое) и дискурсивно-логическое мышление. Дискурсивно-логический путь к концепту состоит в ряде постепенных переходов от частного случая ко все более широким классам. Приняв в качестве отправной точки какое-либо эмпирическое свойство предмета, мысль пробегает по всей области бытия (отсюда термин «дискурсивное мышление»), пока искомый концепт не достигнет определенности. Именно так формируются понятия естественных наук. Их цель — превратить «рапсодию ощущений» в свод законов.
В противоположность дискурсивному мышлению метафорическое «освоение мира» (т.е. мифологическое и языковое, Кассирер рассматривает их совместно) имеет обратную направленность: оно сводит концепт в точку, единый фокус. Если дискурсивное мышление экстенсивно, то мифологическая и языковая концептуализация действительности интенсивны; если для первого характерен количественный параметр, то для двух других — качественный.
В итоге вотум недоверия метафоре и всему человеческому познанию, вынесенный Ницше, обернулся надеждой на ее эвристические возможности, суггестивность. Из тезиса о внедренности метафоры в мышление была выведена новая оценка ее познавательной функции. Было обращено внимание на моделирующую роль метафоры: метафора не только формирует представление об объекте, она также предопределяет способ и стиль мышления о нем. Особая роль в этом принадлежит ключевым метафорам, задающим аналогии и ассоциации между разными системами понятий и порождающими более частные метафоры. Ключевые (базисные) метафоры, которые ранее привлекали к себе внимание преимущественно этнографов и культурологов, изучающих национально-специфические образы мира, в последние десятилетия вошли в круг пристального интереса специалистов по психологии мышления и методологии науки. Существенный вклад в разработку этой проблематики внесли работы М. Джонсона и Дж. Лакоффа. Начальные главы из их книги «Метафоры, которыми мы живем» включены в настоящий сборник.
М. Минский — автор теории фреймов (сценариев, в контексте которых изучаются предметные и событийные объекты) — вводит в свою систему также аналогии, основанные на ключевой метафоре. Он пишет: «Такие аналогии порою дают нам возможность увидеть какой-либо предмет или идею как бы „в свете“ другого предмета или идеи, что позволяет применить знание и опыт, приобретенные в одной области, для решения проблем в другой области. Именно таким образом осуществляется распространение знаний от одной научной парадигмы к другой. Так, мы все более и более привыкаем рассматривать газы и жидкости как совокупности частиц, частицы — как волны, а волны — как поверхности расширяющихся сфер» [17]. Метафора, по Минскому, способствует образованию непредсказуемых межфреймовых связей, обладающих большой эвристической силой.
Итак, ключевые метафоры прилагают образ одного фрагмента действительности к другому ее фрагменту. Они обеспечивают его концептуализацию по аналогии с уже сложившейся системой понятий. Со времен Маркса стало принято представлять себе общество как некоторое здание, строение (Aufbau) [18]. Эта метафора позволяет выделять в обществе базис (фундамент), различные структуры (инфраструктуры, надстройки), несущие опоры, блоки, иерархические лестницы. Об обществе говорят в терминахстроительства, воздвижения и разрушения, а коренные изменения в социуме интерпретируются как его перестройка.
Ассоциация общества со зданием, домом, который человек строит, чтобы в нем жить, присутствует не только в социологии и экономике, но и в обыденном сознании. В 1937 г. Б. Пастернак сказал А. С. Эфрон: «Как все-таки ужасно прожить целую жизнь и вдруг увидеть, что в твоем доме нет крыши, которая бы защитила тебя от злой стихии». Дочь Цветаевой на это ответила: «Крыша прохудилась, это правда, но разве не важнее, что фундамент нашего дома крепкий и добротный?» [19].
Лингвистам хорошо известны метафоры, дающие ключ к пониманию природы языка и его единиц: биологическая концепция языка делала естественным его уподобление живому и развивающемуся организму, который рождается и умирает (ср. живые и мертвые языки); компаративисты предложили метафоры языковых семей и языкового родства (праязык возник по аналогии с прародителем); для структурного языкознания была ключевой метафора уровневой структуры; для генеративистов — метафора языка как порождающего устройства. Смена научной парадигмы всегда сопровождается сменой ключевой метафоры, вводящей новую область уподоблений, новую аналогию.
Подведем короткий итог первым двум разделам. Метафора дисгармонирует со многими параметрами как практического, так и научного дискурса. Вместе с тем ею пользуются и в быту, и в науке. Метафора согласуется с экспрессивно-эмоциональной функцией практической речи. Однако более важен другой ее источник: метафора отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между очень разными индивидами и классами объектов. Эта способность играет громадную роль как в практическом, так и в теоретическом мышлении. «Нет ничего более фундаментального для мышления и языка, — писал У. О. Куайн, — чем наше ощущение подобия» [20]. Это ощущение является общим для практического и научного дискурса стимулом к порождению метафор. В обоих случаях метафора знаменует собой лишь начало мыслительного процесса. Сравнение ни там, ни тут не может быть самоцелью. Волновая теория света создавалась не для того, чтобы уподобить свет волне. Дав толчок развитию мысли, метафора угасает. Она орудие, а не продукт научного поиска. Точно так же и в практической речи, дав толчок семантическому процессу, метафора постепенно стирается и в конце концов утрачивает образ, на смену которому приходит понятие (значение слова).
Поэтическая (образная) мысль ограничена начальной стадией познания. Между тем в искусстве создание образа, в том числе и метафорического, венчает творческий процесс. Художественная мысль не отталкивается от образа, а устремляется к нему. Метафора — это и орудие, и плод поэтической мысли. Она соответствует художественному тексту своей сутью и статью.
Если присутствие метафоры в практической речи наталкивается на существенные ограничения, налагаемые коммуникативными целями и видами дискурса, а проникновение метафоры в научный текст может вызвать достаточно обоснованные протесты, то употребление метафоры в художественном произведении всегда ощущалось как естественное и законное. Метафора органически связана с поэтическим видением мира. Само определение поэзии иногда дается через апелляцию к метафоре. Когда Ф. Гарсия Лорку спросили о существе поэзии, он вспомнил своего друга и сказал, что в применении к нему поэзия выразилась бы словами «раненый олень». В свойствах метафоры ищут признаки поэтической речи.
Поэтическое творчество того или иного автора нередко определяется через характерные для него метафоры, и поэты понимают и принимают такие определения.Н. Вильмонт, например, искал ключ к поэзии Б. Пастернака в его панметафористике [21], и поэт откликнулся на эту характеристику следующими словами: «Мне показалось странным. то, как это я, столь фатально связанный особенностями и судьбами с метафорой, так ни разу не прошелся вверх по ее течению, о каковом верхе говорит любая ее струя силою своего движущегося существования» [22]. Другим примером могут послужить проницательные работы Р. О. Якобсона о Маяковском, в частности наблюдения над его восприятием мира сквозь метафорику игры, обозначившуюся уже в стихотворном дебюте Маяковского и выросшую в стихах «Про это» в jeu supreme [23].
С чем связано тяготение поэзии к метафоре? С тем прежде всего, что поэт отталкивается от обыденного взгляда на мир, он не мыслит в терминах широких классов. Гарсиа Лорка, для которого характерна рефлексия над позицией поэта и поэтическим творчеством, писал: «Все, что угодно, — лишь бы, не смотреть неподвижно в одно и то же окно на одну и ту же картину. Светоч поэта — противоборство» [24]. Он освещает ему кратчайший путь к истине: «Когда прибегают к старому слову, то оно часто устремляется по каналу рассудка, вырытому букварем, метафора же прорывает себе новый канал, а порой пробивается напролом» [25].
Если взглянуть на поэтическое произведение сквозь призму диалога, то ему будет соответствовать не инициальная реплика, признаваемая обычно диалогическим «лидером», а ответ, реакция, отклик, часто отклик-возражение. Вполне естественно видеть в начале стихотворения «да» и особенно «нет»: Да, я знаю, я вам не пара, / Я пришел из другой страны (Н. Гумилев); Да, этот храм и дивен и печален (Он же); Нет, не тебя так пылко я люблю. (М. Лермонтов); Нет, ты не прав, я не собой пленен. (В. Ходасевич); Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл. (А. Ахматова).
Не случайно поэзия часто начинается с отрицания, за которым следует противопоставление. Тому, кроме уже приведенных, есть много хрестоматийных примеров: Нет, не агат в глазах у ней, / Но все сокровища Востока / Не стоят сладостных лучей / Ее полуденного ока (Пушкин); Нет, я не Байрон, я другой, / Еще неведомый избранник. (Лермонтов); Не то, что мните вы, природа: / Не слепок, не бездушный лик — / В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык. (Тютчев).
Именно по этому столь органически присущему поэзии принципу построена метафора. В ней заключено имплицитное противопоставление обыденного видения мира, соответствующего классифицирующим (таксономическим) предикатам, необычному, вскрывающему индивидную сущность предмета [26]. Метафора отвергает принадлежность объекта к тому классу, в который он на самом деле входит, и утверждает включенность его в категорию, к которой он не может быть отнесен на рациональном основании. Метафора — это вызов природе. Источник метафоры — сознательная ошибка в таксономии объектов. Метафора работает на категориальном сдвиге. Это отмечалось многими авторами: см. в настоящем сборнике статьи X. Ортеги-и-Гассета (с.74) и П. Рикёра (с.441). Метафора не только и не столько сокращенное сравнение, как ее квалифицировали со времен Аристотеля, сколько сокращенное противопоставление. Из нее исключен содержащий отрицание термин. Однако без обращения к отрицаемой таксономии метафора не может получить адекватной интерпретации. Это хорошо показано А. Вежбицкой (см. ее статью в наст. сб.). На это обращали внимание и другие авторы, в частности Ортега-и-Гассет (см. наст. сб., с.74).
Сокращенное в метафоре противопоставление может быть восстановлено. Оно и в самом деле нередко присутствует в метафорических высказываниях: Утешенье, а не коляска (Гоголь); Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой чорт, а не лошадь (Л. Толстой); Господи, это же не человек, а — дурная погода (М. Горький).
В метафоре заключена и ложь и истина, и «нет» и «да». Она отражает противоречивость впечатлений, ощущений и чувств [27]. В этом состоит еще один мотив ее привлекательности для поэзии. Метафора умеет извлекать правду из лжи, превращать заведомо ложное высказывание если не в истинное (его трудно верифицировать), то в верное. Ложь и правда метафоры устанавливаются относительно разных миров: ложь — относительно обезличенной, превращенной в общее достояние действительности, организованной таксономической иерархией; правда — относительно мира индивидов (индивидуальных обликов и индивидных сущностей), воспринимаемого индивидуальным человеческим сознанием. В метафоре противопоставлены объективная, отстраненная от человека действительность и мир человека, разрушающего иерархию классов, способного не только улавливать, но и создавать сходство между предметами.
Итак, в метафорическом высказывании можно видеть сокращенное сравнение, но в нем можно видеть и сокращенное противопоставление. В первом случае подчеркивается роль аналогического принципа в формировании мысли, во втором акцент переносится на то, что метафора выбирает самый короткий и нетривиальный путь к истине, отказываясь от обыденной таксономии. Вместо нее метафора предлагает новое распределение предметов по категориям и тут же от него отказывается. Она вообще не стремится к классификации. Сам таксономический принцип для нее неприемлем.
Субстантивная метафора, будучи по форме таксономической, осуществляет акт характеризующей предикации: «материя» исчезает, остаются воплощенные в образе признаки. Метафора учит не только извлекать правду из лжи, она учит также извлекать признаки из предмета, превращать мир предметов в мир смыслов. Когда говорят «Ваня (не мальчик, а) настоящая обезьянка», не имеют в виду ни расширить класс обезьянок за счет включения в него одного мальчика, ни сузить класс мальчиков, изъяв из него Ваню. Метафора имеет своей целью выделить у Вани некоторое свойство, общее у него с обезьянками.
Субстантивная метафора дает характеристику предмета, но в то же время она не совсем оторвалась и от таксономического принципа мышления, предполагающего, что объект может быть включен только в один узкий класс (в идеале таксономия строится как последовательное включение более узких категорий в более широкие), тогда как характеризация предмета имплицирует множественность, то есть выделение неограниченного набора свойств. Метафора стремится соблюдать принцип единичности. Выводя наружу сущность предмета, метафора избегает плюрализма. Хорошая метафора объемлет совокупность сущностных характеристик объекта и не нуждается в дополнении. Для таких метафор более естествен «спор», чем конъюнкция, выстраивающая метафоры в шеренгу, например: И я знаю теперь, чего не знала тогда: что я не скала, а река, и люди обманываются во мне, думая, что я скала. Или это я сама обманываю людей и притворяюсь, что я скала, когда я река? (Н. Берберова, «Курсив мой»). Выбор Метафоры из числа метафор отвечает поиску сущности. Разумеется, «правило единичности» не является жестким. Конвенционализация, употребление в эмоциональной речи и другие условия могут снять это требование.
Метафора в ее наиболее очевидной форме — это транспозиция идентифицирующей (дескриптивной и семантически диффузной) лексики, предназначенной для указания на предмет речи, в сферу предикатов, предназначенных для указания на его признаки и свойства [28].
Классическая метафора — это вторжение синтеза в зону анализа, представления (образа) в зону понятия, воображения к иону интеллекта, единичного в зону общего, индивидуальности м страну классов.
Здесь опять же действует принцип сдвига, транспозиции — один из основных ресурсов поэтической речи. В данном случае имеет место нарушение соответствия между лексическим типом слова и выполняемой им синтаксической функцией.
Вернемся, однако, к метафорическому контрасту. Чем дальше отстоят друг от друга противополагаемые разряды объектов, тем ярче «метафорический сюрприз» от их контакта. Соположение далекого (создание сходства) — один из важных принципов построения художественной речи и еще одна причина родства метафоры с поэзией. Псевдоидентификация в пределах одного класса не создает метафоры. Назвать толстяка Фальстафом, а ревнивца Отелло не значит прибегнуть к метафоре.
Для метафоры, таким образом, характерно установление далеких связей. В какой мере случайны эти далекие отношения? Они случайны в том смысле, что прямо обусловлены индивидуальным опытом и субъективным сознанием автора. Произвол в выборе метафоры — недвусмысленное свидетельство ее поэтической природы, ведь поэзия — это царство случайного, неожиданного, непредсказуемого. Ю. Н. Тынянов писал, имея в виду метафору Пастернака: «Случайность оказывается более сильной связью, чем самая тесная логическая связь» [29]. Однако метафора и здесь знакома с ограничениями: устанавливаемые ею отношения не выходят за пределы чувственно воспринимаемой реальности, иначе она бы утратила главное из своих свойств — образность (ср. приводимое ниже высказывание Ф. Гарсиа Лорки).
Мы стремились в общих чертах показать, что метафора является органическим компонентом художественного (поэтического) текста и ее употребление в других видах дискурса связано с тем, что и в них необходимо присутствуют элементы поэтического мышления и образного видения мира.
Метафору роднят с поэтическим дискурсом следующие черты:
- 1) слияние в ней образа и смысла,
- 2) контраст с тривиальной таксономией объектов,
- 3) категориальный сдвиг,
- 4) актуализация «случайных связей» ,
- 5) несводимость к буквальной перефразе,
- 6) синтетичность, диффузность значения,
- 7) допущение разных интерпретаций,
- 8) отсутствие или необязательность мотивации,
- 9) апелляция к воображению, а не знанию,
- 10) выбор кратчайшего пути к сущности объекта.
Метафора расцветает на почве поэзии, но ею не исчерпывается поэзия. Гарсиа Лорка, однажды объяснивший существо поэзии через метафорический образ (см. выше), в одной из своих наиболее проницательных лекций «О воображении и вдохновении» (ее текст сохранился не полностью) говорил: «Для меня воображение — синоним способности к открытиям. Подлинная дочь воображения — метафора, рожденная мгновенной вспышкой интуиции, озаренная долгой тревогой предчувствия. Воображение поэтическое странствует и преображает вещи, наполняет их особым, сугубо своим смыслом и выявляет связи, которые даже не подозревались, но всегда, всегда, всегда оно явно и неизбежно оперирует явлениями действительности.; оно никогда не могло погрузить руки в пылающий жар алогизма и безрассудности, где рождается вольное и ничем не скованное вдохновение. Воображение — это первая ступень и основание всей поэзии» [30].
Связь метафоры с поэтическим воображением, с фантазией, ее образность, открыли возможность говорить о метафоре в современной живописи, театре и кино, техника которых развилась в сторону использования косвенных выразительных средств, символики.
Точно так же, как Н. Вильмонт искал существо художественного метода Пастернака в панметафоризме (см. выше), некоторые искусствоведы видят ключ к разгадке поэтики М. Шагала в том, что он — мастер изобразительной метафоры. Однако в знаменитых шагаловских иллюстрациях к «Мертвым душам» (их 96) мы не обнаружим ни одной из гоголевских метафор. Словесная метафора не просится на бумагу. Собакевич может быть назван медведем, и в таком его обозначении сконцентрирована сущность этого персонажа, но он не может быть изображен в облике медведя. И наоборот: хотя среди шагаловских иллюстраций есть изображение тройки, оно не воспринимается ни как метафора России, ни как метафора фантасмагории.
Касаясь буквализма в передаче на экране «одной из главных тайн художественного слова — метафоры» и отмечая «необходимость найти на кинематографическом языке свою метафору», Г. Товстоногов пишет далее: «Разве может, скажем, гоголевская „птица-тройка“ быть воссоздана на экране показом быстро едущей тачки, запряженной тремя лошадьми? А ведь здесь кульминация, квинтэссенция „Мертвых душ“, которые не зря же были названы поэмой! Необходимо, на мой взгляд, взяв за основу главную особенность гоголевского мира — фантасмагорию, — подвести к тому, чтобы из обычного движения вдруг выросло нечто космическое, глобальное. Иначе говоря, важно передать ощущение невозможной, нереальной и в то же время очень реальной тройки» («Лермонтовский демон кисти Врубеля». — «Литературная газета», 1985, № 1).
Перенос метафоры на почву изобразительных искусств ведет к существенному видоизменению этого понятия. «Изобразительная метафора» глубоко отлична от метафоры словесной. Она не порождает ни новых смыслов, ни новых смысловых нюансов, она не выходит за пределы своего контекста и не стабилизируется в языке живописи или кино, у нее нет перспектив для жизни вне того произведения искусства, в которое она входит. Сам механизм создания изобразительной метафоры глубоко отличен от механизма словесной метафоры, непременным условием действия которого является принадлежность к разным категориям двух ее субъектов (денотатов) — основного (того, который характеризуется метафорой) и вспомогательного (того, который имплицирован ее прямым значением). Изобразительная метафора лишена двусубъектности. Это не более чем образ, приобретающий в том или другом художественном контексте символическую (ключевую) значимость, более широкий, обобщающий смысл. Так, когда пишут, что бронированный автомобиль министра с наглухо захлопнувшимися дверцами (в итальянском фильме «Шутка») есть метафора обреченности, то речь идет просто о расширительном прочтении эпизода. В этом случае более уместно говорить о киносимволике или о символическом истолковании текста, о символической модальности в интерпретации произведений искусства в духе идей Умберто Эко [31] или в духе анализа поэтических текстов Р. Якобсоном и опоязовцами, стремившимися к выделению в творчестве поэта индивидуальной символики — ключевых образов и эпизодов. Такого рода метод одинаково пригоден в интерпретации искусств словесных и изобразительных. Речь идет об образе-обобщении, метафора же, напротив, — это образ-индивидуализация.
Хотя в применении к изобразительным искусствам излишне говорить о метафоре, само обращение к этой теме небесполезно. Оно подводит к вопросу о месте метафоры в ряду других семиотических концептов, в частности о ее отношении к символу.
метафора дискурс деловой В основе метафоры и символа лежит образ [32]. Образ — источник основных семиотических понятий, структура которых создается взаимодействием (органическим или конвенциональным) принципиально разных планов — плана выражения (означающего) и плана содержания (означаемого). И метафора и символ часто определяются через апелляцию к образу [33]. Многие критики недифференцированно говорят о метафорике и символике в индивидуальном стиле того или другого поэта. Можно встретить синонимическое употребление выражений метафорический образ и символический образ. Действительно, концепты метафоры и символа пересекаются. Их близость, основанная на ряде разделяемых признаков, усилена общей тенденцией литературной критики к расширительному употреблению терминов. Между тем, с точки зрения своего положения в иерархии семиотических концептов, метафора и символ не могут быть отождествлены.
Восходя к одному источнику — понятию образа, метафора и символ унаследовали от него ряд общих черт, отличающих их от центрального семиотического концепта — знака. Как и образ, метафора и символ возникают стихийно в процессе художественного освоения мира. Они относительно независимы от воли человека. Их значение нельзя считать полностью сформированным. И метафора и символ являются объектом скорее интерпретации, чем понимания.
Именно это свойство не позволяет им служить орудием коммуникации: ни символами, ни метафорами не передают сообщений. Ими нельзя отдать приказ или взять на себя обязательство. Они безадресатны. Это отличает их от знака. Знаком можно осуществить адресованный речевой акт: поздороваться и попрощаться, пригласить войти или выдворить вон, пригрозить или предостеречь. Ни символ, ни метафора не могут войти в те контексты, в которых имя знак эквивалентно высказыванию, включающему коммуникативную цель (иллокутивную силу). Концепт знака связан с прагматикой речи. Знак — орудие в руках человека. При помощи знаков общаются и регулируют межличностные отношения. Метафора и символ не инструментальны, как не инструментален образ.
Из этого различия вытекает и расхождение в типичных для символа и метафоры значениях. Метафора не знает семантических ограничений. Выполняя в предложении характеризующую функцию, метафора может получить любое признаковое значение, начиная с образного (пока она сохраняет живую семантическую двуплановость) и кончая значением широкой сферы сочетаемости. Вместе с тем метафору обычно относят к конкретному субъекту, и это удерживает ее в пределах значений, прямо или косвенно связанных с действительностью. Символ, напротив, легко преодолевает «земное тяготение». Он стремится обозначить вечное и ускользающее, то, что в учениях с мистическими тенденциями (например, в даосизме) считается подлинной реальностью, не поддающейся концептуализации. «Великая душа и великая память мира — Anima Mundi — может быть названа (evoked) только символами» (У. Йитс). Поэтому символ часто имеет неотчетливые трансцендентные смыслы. «В символе есть сокрытие и откровение, молчание и речь» (Т. Карлейль). Именно символ выражает «ощущение запредельности» (the sense of beyond). У метафоры другая, более «земная» задача. Она призвана создать такой образ объекта, который бы вскрыл его латентную сущность. Метафора углубляет понимание реальности, символ уводит за ее пределы.
Близость к метафоре образного сравнения не вызывает сомнений. Исключение из сравнения компаративной связки как (подобно, точно, словно, будто, как будто) или предикативов подобен, сходен, похож, напоминает [38] часто считается основным приемом создания метафоры. Этот ход имеет своим следствием существенное изменение синтаксической структуры. Предложение подобия преобразуется в предложение тождества, точнее, таксономической предикации: Эта девочка похожа на куклу > Эта девочка как кукла > Эта девочка — настоящая кукла. Поэтому формальные и семантические различия между образным сравнением и метафорой в большой мере связаны с различием этих двух видов логических отношений.
Для сравнения характерна свобода в сочетаемости с предикатами разных значений, указывающими на те действия, состояния и аспекты объекта, которые стимулировали уподобление:. И мщенье бурное падет / В душе, моленьем усмиренной: / Так на долине тает лед, / Лучом полудня пораженный (Пушкин); Высоко в небе облачко серело, / Как беличья распластанная шкурка (А. Ахматова); Я слышу: легкий трепетный смычок, / Как от предсмертной боли бьется (А. Ахматова).
Метафора лаконична. Она легко входит в «тесноту стихотворного ряда» (по Ю.Н. Тынянову). Она избегает модификаторов, объяснений и обоснований. Метафора сокращает речь, сравнение ее распространяет. Эти тропы отвечают разным тенденциям поэтического языка. Метафора может быть противопоставлена не только сравнению, но и метаморфозе, если позволено в этом явлении видеть качественно иную фигуру речи. О необходимости различения метафоры и метаморфозы писал В. В. Виноградов: «В метафоре нет никакого оттенка мысли о превращении предмета. Наоборот, „двуплаповость“, сознание лишь словесного приравнивания одного „предмета“ другому — резко отличному — неотъемлемая принадлежность метафоры. Вследствие этого следует обособлять от метафор и сравнений в собственном смысле тот приглагольный творительный падеж, который является семантическим привеском к предикату (с его объектами), средством его оживления, раскрытия его образного фона» Проникновение в область семантики свойственно метафоре, но не характерно для метаморфозы, которая, указывая на «частное совпадение субстанций» [41], не отлагается в языке в виде особого способа преобразования и порождения значений.
На «перекрестке» метафоры и метаморфозы возникает автометафора — метафорическая самоидентификация поэта, проливающая некоторый свет на психологию творчества. В этом случае автометафора пронизывает собой все стихотворение; ср. у Блока: Зеленею, таинственный клен, / Неизменно склоненный к тебе. / Теплый ветер пройдет по листам, / Задрожат от молитвы стволы. Или у современных поэтов; Я — куст из роз и незабудок сразу, / Как будто мне привил садовник дикий / Тяжелую цветочную проказу. / Я буду фиолетовой и красной, / Багровой, желтой, черной, золотой, / Я буду в облаке жужжащем и опасном / Шмелей и ос заветный водопой. / Когда ж я отцвету, О Боже, Боже, / Какой останется искусанный комок, / Остывшая и с лопнувшею кожей — / Отцветший полумертвый зверь-цветок (Е. Шварц); ср. также развернутую контрметафору в стихотворении А. Горнона «Краб»: Я краб, я граб, / Я крепок, смел и груб. — / Не зверь-цветок, / Не рыбка золотая, / Я вскормлен морем, вписываюсь в грунт, / Весь век тружусь, / Клещей не покладая. (два последних примера взяты из сборника «Круг» .Л., 1985).
Резюмируем сказанное. Метафора выполняет в предложении характеризующую функцию и ориентирована преимущественно на позицию предиката. Характеризующая функция осуществляется через значение слова. Метонимия выполняет в предложении идентифицирующую функцию и ориентирована на позицию субъекта и других актантов. Идентифицирующая функция осуществляется через референцию имени. Поэтому метафора — это прежде всего сдвиг в значении, метонимия — сдвиг в референции. Рассматриваемые в синтагматическом аспекте, метафора и метонимия — они могут соприсутствовать в предложении — находятся между собой в отношении контраста. Рассматриваемая в парадигматическом плане, метафора противопоставлена сравнению и метаморфозе по признакам наличия / отсутствия идентификации объектов и постоянного / преходящего характера обозначаемого признака.