Контекстуальные связи поэзии и прозы Андрея Платонова
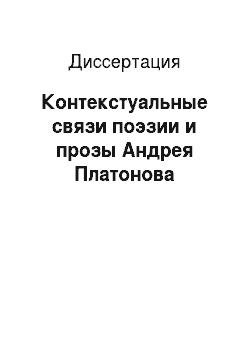
Еще одна тема, которая является показательной при определении духовного состояния народа — это тема семьи. К. Н. Леонтьев в статье «Византизм и славянство» указывал на связь семьи и религиозности народа: «Кто хочет укрепить нашу семью, должен дорожить всем, что касается церкви нашей». Продолжив этот ряд, получим: укрепляя семью, возвращаем человека к Богу. Пристальное внимание Платонова к теме… Читать ещё >
Содержание
- Новизна исследования
Данная работа ставит своей целью на основе контекстуальных связей поэзии и прозы А. Платонова проследить движение образа к «целокупному», насыщение его различными смыслами, перерастание образа в символ и создание мифа. Сравниваются романы «Чевенгур» и «Счастливая Москва» по типу образования мифов. Проводится цветовой анализ поэзии Платонова и «обратной перспективы» образов его прозы на примере романа «Счастливая Москва». Проводится попытка определить линию А. Платонова в национальной культуре как духовно-концептуальную.
Материалом для исследования послужил корпус опубликованных произведений писателя, включая стихи и публицистику первой половины 20-ых годов, а также романы, повести, рассказы и сказки писателя. В работе применялись следующие методы:
1) сравнительный, помогающий выявить развитие одного образа на протяжении нескольких произведений, определить расхождения между народным восприятием и авторским на примере сказок-
2) стилистический, помогающий выделить поэтические конструкции в прозе писателя-
3) философский, помогающий обобщить картину мира писателя, определить его место и вклад в национальную культуру-
4) концептуальный (выявляет то или иное понимание явления, систему взглядов, основную мысль произведения), помогающий проанализировать особенности видения русской культуры, отбора национальных типов героев Платонова и концепты, характеризующие художественный мир писателя.
На защиту выносятся следующие положения:
1) Лирика Платонова — база и мастерская работы с символом, образом в прозе.
2) Поэтические приемы в большинстве своем используются автором в прозе.
3) Образование мифа — путь к поиску «истинной идеологии».
4) Многоуровневая разработка образа — поиск духовных констант.
5) Образ Платонова обладает «обратной перспективой», присущей символике русской иконы.
I глава. Лирика Платонова, работа с образом.
1. Основные работы по проблемам мифотворчества. Теоретики и интерпретаторы
— мифическое мировосприятие, его признаки
2. Лирика А. Платонова и мифотворчество пролетарских поэтов.
3. Контекстуальные связи, параллельность разработки образа в лирике, публицистике, рассказах, романах
— архетип матери в лирике Платонова и его романах
— мифологема сиротства
— мотив вечера в лирике и романе «Чевенгур»
— образ травы в лирике и прозе
— мотив времени в лирике и романе «Чевенгур»
4. Цвет в лирике А. Платонова
5. Работа А. Платонова над поэтическим текстом. Выработка индивидуальных стилистических конструкций
II глава. Работа с образом в прозе.
1. Поэтические приемы прозы А. Платонова
— выявление мифов и смыслообразов в романах
— мифы нового времени (мифологема субботника, имени и прозвища)
2. Типологические образы А. Платонова
— образ старика, развитие образа как смены типологических характеров (на примере образа Захара Павловича, роман «Чевенгур»)
— характеры, связанные с образами-понятиями (травы, дерева, коня, воробья) соответствия между чевенгурской коммуной и «лесным братством" — «Чевенгуром» и тридесятым царством, на основе статьи В. Проппа
3. Сравнительная характеристика романов «Чевенгур» и «Счастливая Москва» по методу построения текста и создания мифа классификация сказочных мотивов в романе «Чевенгур» на основе книги
В. Проппа «Морфология сказки» определение мифов романа «Счастливая Москва» на основе работ А.Ф. Лосева
— графические приемы прозы Платонова
III глава. Реализм сказки А. Платонова стихотворение «Сказка»
— пересказанная сказка «Финист — Ясный Сокол», выявление авторских вставок
— рассказ «Никита», быт, превращенный в сказку
Контекстуальные связи поэзии и прозы Андрея Платонова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В постепенном «возвращении» А. Платонова существует определенная символическая закономерность, не позволяющая успокоиться ни литературоведам, ни читателям. Исследовательский труд платоноведов, как отечественных (JL Шубин, В. Свительский, В. Скобелев, В. Васильев, С. Бочаров, Н. Корниенко, Н. Полтавцева, Н. Малыгина, М. Дмитровская, В. Чалмаев, С. Семенова, Т. Никонова, Г. Белая, JI. Фоменко, И. Савельзон, В. Эйдинова, Е. Яблоков, В. Вьюгин и др.), так и зарубежных (М. Любушкина, М. Геллер, Т. Лангерак, В. Кейс, Г. Гюнтер, Е. Толстая-Сегал, О. Меерсон и др.) не только открывает новые контексты понимания платоновского текста, но и дает возможность взглянуть на творчество писателя в целом, учитывая историческую обстановку, историю создания произведения, и сопоставить редакторские варианты текста, разрабатываемые автором.
Важными достижениями текстологической работы явились первые публикации романа «Счастливая Москва» (1991 г.) и динамической транскрипции фрагментов черновой редакции «Чевенгура». Эти публикации заставили по-новому увидеть лабораторию писателя, позволили определить его движение от «Чевенгура» к рассказам 1930;40 годов, внесли существенные коррективы и в литературно-исторический контекст изучения творчества Платонова, став связующим звеном в моделировании динамики развития писателя.
Контекстуальное изучение творчества Платонова — выявление литературных аллюзий, идеологических контекстов, связей с современными ему литературными движениями и группами, с реальным событием, с фольклором, Библией, произведениями русской и зарубежной классики, философскими учениями и естественнонаучными теориями — позволяет определить основные мотивы исторического, литературного процесса, влияющие на зарождение и развитие того или иного образа, характера, символа.
В области литературного контекста наиболее разработан ранний период творчества писателя: Платонов и Пролеткульт, Платонов и Богданов, Платонов и авангард, Платонов и русские формалисты, Платонов и РАПП и т. д. От раннего периода идет разделение мыслительных и художественных тенденций, которое Н. В. Корниенко определяет как «параллельность становления мысли о мире и постижения логики художественного творчества» [75.9], что является важным условием мифического мировоззрения писателя.
Для нашей работы важны достижения и текстологии, и контекстуальных изысканий.
Лирика А. Платонова в основном рассматривалась, как отдельный блок, этап творчества (работы В. Пронина, Л. Таганова, Л. Ивановой,.
JI. Колосса, где авторы останавливались на сборнике «Голубая глубина»). Разрабатывались контекстуальные связи поэзии А. Платонова с поэтами «серебряного века», Пролеткульта (работы JI. Ивановой, М. Левченко, В. Пронина, Л. Таганова) — с «Федоровским учением» (работы С. Семеновой, Н. Малыгиной, Н. Полтавцевой и др.). Исследовались мифопоэтические корни лирики (статьи Н. Полтавцевой, Н. Агеносовой, Е. Сергеевой и др.).
На связь лирики и прозы Платонова указывал Л. Шубин. Влияние поэзии на прозу в понимании особой структуры поэтики Платонова впервые отметила Е. Толстая-Сегал, определив основной принцип организации текстов писателя, как «изоморфизм» — «повторение построения целого текста в построении его частей» [132.171]. Дальнейшие исследования по этому вопросу проводила Н. Малыгина: «В прозе Платонова обнаруживается основное качество поэтического языка: в каждом фрагменте текста он стремится максимально передать целостный образ мира, преломленного индивидуальностью автора. Платоновская модель мира определилась в основных своих чертах в его поэзии и сохранилась в последующем творчестве писателя» [89.65]. Исследователем сделан вывод, важный для нашей работы: «Влияние поэзии на прозу Платонова проявилось в том, что многие поэтические метафоры легли в основу сюжетов и мотивов как отдельных произведений, так и творчества писателя в целом» [89.69].
На связь образов лирики и прозы Платонова обращали внимание многие исследователи. М. Дмитровская и А. Кулагина анализировали связь образов писателя с народной поэзией. Ю. Орлицкий проводил анализ метризации прозы Платонова. С. Брель писал о нарушении языковой симметрии. Н. Кожевникова рассматривала воплощение метафоры в прозаических текстах писателя. М. Михеев отметил один из поэтических признаков прозы писателя: «В языке Платонова мы на каждом шагу сталкиваемся со случаями нагнетания избыточности при языковом выражении» [94.385]. О стилистических особенностях прозы Платонова писал В. Вьюгин. Проблема контекстуальных связей поэзии и прозы раннего Платонова поставлена в комментариях к 1 тому «Сочинений» А. Платонова.
При накопленном сегодня текстологическом и исследовательском материале становится актуальной и одновременно реальной необходимость исследования художественной лаборатории писателя, его индивидуальных методов работы с образом действительности и преобразованием реального материала в художественный.
Цель нашего исследования — с помощью текстологических и контекстуальных сопоставлений показать внутреннюю связь образов лирики и прозы писателя, их движение к символу и мифу.
Поставленная цель продиктовала следующие задачи: описать поэтику стихотворений Платоновапроанализировать принцип художественного преобразования реальности в романах Платоновараскрыть специфику работы Платонова с народной волшебной сказкой и путь к созданию «платоновской» сказки на бытовом материале.
Для решения этих задач анализируется весь блок лирики Платонова 1918;1926 гг. и ее литературные контексты, романы «Чевенгур» и «Счастливая Москва» как наиболее полно отражающие определенные этапы смены поэтики писателя, его сказки и рассказы 1930;40 гг.
Определим те смысловые акценты, на основе которых будет выстраиваться анализ текста. Это образ, символ, миф и сказка. Эти понятия связаны между собой по мере нарастания, насыщения их новым внутренним содержанием, расширением и углублением этого содержания.
Образ — в художественном понимании это поэтическая единица, «которая служит связью между внешней формой и значением» [104.35].
Символ — одухотворение образа, доведение единичного до общего, частного до целого. Знаковым олицетворением символа может служить проступивший на убрусе лик Христа.
Миф — движение символа к выявлению внутренних связей между данным понятием и окружающим миром, то есть определение связей всего со всем.
Сказка — «застывший миф», обретший устоявшийся контур.
В графическом плане их взаимосвязь может выражаться двумя конусами, соединяющимися основаниями, где символ и миф находятся в пике расширения на стыке конусов, а вершинами являются образ и сказка. Вершина образа находится в поле владения слова, а сказка — в поле владения произведения. Так, расширение образа достигается с помощью перерастания его в символ, символ в свою очередь является необходимым условием мифа, который, сужаясь, то есть, выхватывая из всего многообразия форм и связей только некоторые, превращается в сказку.
Работа состоит из 3 глав и заключения.
В первой главе «Лирика Платонова, работа с образом» рассматривается работа писателя с образом в лирике. Нами выдвигается идея о мифической основе мировоззрения писателя, позволяющая объяснить связь многих символов Платонова с архетипами, движение значимых образов писателя к символу и мифу, поиск и разработку им новых мифологем. В этих целях в первом параграфе дается краткий обзор теоретических работ по мифологии, а также работ исследователей, так или иначе затрагивающих проблематику мифологии в творчестве Платонова. Определяются основные принципы мифического мышления.
Во втором параграфе анализируется работа А. Платонова с образом в сравнении с мифотворчеством пролетарских поэтовпоказан переход «корабельных», «заставочных» образов в «ангелические» [62.205].
О параллельной разработке образа в лирике, публицистике и прозе писателя речь идет в третьем параграфе. На примере анализа мифологем материнства, сиротства, образов травы, вечера, времени исследован принцип работы Платонова с «образом-понятием» [141.123] и образом-идеей.
Четвертый параграф посвящен вопросам текстологии: на основе вариантов, сличения прижизненных редакций стихотворений, выявляются стилистические конструкции, которые позже будут перенесены в прозу.
В пятом параграфе исследуется проблема цвета в лирике и прозе Платонова.
Вторая глава «Работа с образом в прозе» посвящена анализу прозаического текста с выявлением поэтических конструкций в прозаических текстах романов «Чевенгур» и «Счастливая Москва" — мифов и смыслообразов, принципа создания мифов нового времени — в первом параграфе.
В центре второго параграфа — типология платоновских характеров. Затрагиваются темы музыки и скрипача, девы, старика, проводится анализ образа Захара Павловича, выявляются характеры, связанные с образами-понятиями травы, дерева, коня, воробьяфиксируются кочующие образы и мифы в других произведениях А. Платонова и т. д.
Третья глава «Реализм сказки Платонова» посвящена работе писателя со сказкой. На примере лирического стихотворения «Сказка» (1921), пересказанной сказки «Финист — Ясный Сокол» (1950) и рассказа «Никита» (1930;е гг.) исследуются особенности работы писателя со сказкой, преобразованием реалий быта, научных фактов в сказочный материал.
В заключении проводится мысль, что творчество Платонова в силу своей духовной концептуальности становится неотъемлемой частью русского сознания. Исподволь, как произведения Пушкина и Достоевского, с их непростыми вопросами ценности человеческой личности, «сокровенные люди» Платонова влияют на формирование внутреннего мира нынешнего поколения. И влияние это будет только усиливаться, потому что нет у человека иного пути, как возвращение к главному в себе, поиску своей духовной Родины.
Заключение
:
Платонов проходит непростой путь, прежде чем определить главные ценности. Реальность Гражданской войны, голода ставит перед писателем потребность поиска «истинной идеологии». По определению Н. Трубецкого: «Нам необходима идеология, которая бы одушевляла пафосом вечного, абсолютно ценного. <.> Это значит найти основание идеологии в человечестве и мире и даже более — прежде всего в том, что обуславливает человечество и мир» [133.358]. Через миф, символическое обобщение Платонов пробует ответить на те непростые вопросы, которое поставило время перед людьми, размышляющими о духовном состоянии русского народа. Анализируя историю Древней Руси и прогресса нового времени, В. Розанов отмечает, что до революции отношения внутри народа строились в основном на нравственных понятиях, «внутреннее домостроительство» совести было непременной потребностью и удовлетворялось «средствами столь деликатными», как богомольность и милостивость. «Внешний покой, обращение внимания куда-то внутрь — к своей душе, к кругу своей семьи <.> отсутствие какой-либо смятенности в жизни и совести — было той почвой, на которой выросли все эти близкие, человеколюбивые отношения в древней Руси» [109.т.1,85]. Тут же Розанов показывает, что все эти качества, сам образ миросозерцания стал невозможен, когда нищий получил равные возможности с другими сословиями. Революция, выполнив казалось бы нравственную задачу всеобщего равенства, вместе с тем поменяла внутреннюю ориентацию человека. «Явились иные потребности, и между ними на первом месте — потребность силы, внешнего одоления, и в сторону этих потребностей стали расти силы души, в то же время умаляясь в других направлениях». «Это потерянное, в самом деле, имеет гораздо более абсолютную цену, нежели то, что заместило его» [109.86].
Осмысление революции неоднозначно у многих философов. Русский бунт, русская вольница, понятия неоднозначные. В. В. Кожинов, анализируя данную проблему, писал: «Пушкин, в котором наиболее полно и совершенно воплотился русский национальный гений, начиная по меньшей мере с 1824 года испытывал самый глубокий и острый интерес к этим явлениям. <.> Пушкинские слова: „Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный“ <.> как-то перекликаются с приведенными Пушкиным удивительными словами самого Пугачева (их сообщил следователь, первым допросивший выданного своими сподвижниками атамана, — капитан-поручик Маврин): „Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство“. И в том, и в другом высказывании „русский бунт“ — то есть своеволие — как-то связывается с волей Бога. <.> Это скорее Божья кара, а не человеческая жестокость. <.> События, которые так или иначе захватывают народ в целом, с необходимостью несут в себе и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость» [80.164−165]. «Русский бунт» — это по сути своей не чье-либо конкретное действие, но своего рода состояние, вдруг захватившее весь народ, — ничему и никому не подчиняющаяся стихия, подобная лесному пожару." [80.165]. Можем предположить, что такие стихийные всплески необходимы для внутреннего очищения, омоложения народного самосознания. Возможно, именно в этих бессмысленных взрывах, как и в народном приятии революции, выразилась потребность очищения, как веры, так и социального института. Здесь важны конечные цели, не абстракция, а возвращение к духовной цельности, катарсис.
Творчество Платонова играет важную роль в восстановлении русского самосознания. Путь его героев от самозабвенных делателей мира, которые насильственно осуществляют свои цели, ведут непримиримую идеологическую борьбу, а «не ждут терпеливо результатов процесса» [133.359], к образу Юшки — суть возвращения русской души к главному в себе. Юродство Юшки не в добровольном отказе от мирских благ, а в том, что он один живет по высоким человеческим требованиям, и незаметно, исподволь заставляет задуматься других о своей жизни.
Платонов трудный писатель потому, что он каждого ставит перед выбором смысла существования, он заставляет найти в себе те ценности, которыми обусловлено понятие человека, как подобия Божьего.
В этом отношении можно предположить, что Платонов явился как бы эманацией, выплеском народной души, которой потребовался голос на переломе революционных событий. Ощущением глубинной связанности своего творчества с внутренним «сокровенным» голосом народа объясняется с нашей точки зрения многоуровневость языка писателя. То, что И. Савельзон называет псевдо-поговорками, псевдоприбаутками и т. п., возможно является тем смещением речевого центра, который происходит в момент разъятия привычного духовного мира. Похожим явлением и в использовании разных уровней языка, и в построении образных рядов был протопоп Аввакум. Его явление также совпало с коренным переломом русского духовного мира — расколом.
Андрей Платонов является выразителем состояния общей души народной, при работе с образом, символом, типом характера всегда прослеживается движение к расширению образа за счет его духовного, скрытого смысла. В плане художественного выражения это достигается в первую очередь соединением в тропах не двух, а более предметов, признаков в один ряд, расширением поля взаимодействия смыслов, возможностью сцепления максимального количества понятий, что создает не только многоплановость, но и полифоническое суждение о предмете. Помимо этого широко используются словесные контексты и эллипсы на основе ключевых духовно-нравственных основ. (О словарных концептах Платонова писала М. Дмитровская). Все вышеизложенное дает право определить прозу Платонова, как духовно-концептуальную.
Основным отличием духовно-концептуальной прозы является четкая ориентация на выражение внутреннего состояния души народа, поиск духовных ориентиров и типологических характеров. Впервые о явлении такого рода заговорили почвенники, в частности А. Григорьев, в связи с творчеством А. С. Пушкина. В письме к Страхову А. Григорьев указывал: «полное и цельное сочетание стихий великого народного духа было только в Пушкине» [52.435]. В статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» А. Григорьев выявляет сущность творчества великого поэта: «Когда мы говорим здесь о русской сущности, о русской душе, — мы разумеем не сущность народную допетровскую и не сущность послепетровскую, а органическую целостность <.> Пушкин-то и есть наша такая, на первый раз очерком, но полно и цельно обозначившаяся душевная физиономия» [52.167].
В творчестве Пушкина Григорьев особо выделяет и подчеркивает создание им простых народных типов, которые являются выразителями внутреннего состояния народной души. Страхов приводит в своей статье слова А. Григорьева: «В данном народе художественные произведения представляют, как бы многоярусные попытки выразить все одно и то же — душевную сущность этого народа. <.> Григорьев показал, что к чужим типам, господствующим в нашей литературе принадлежит почти все, что носит на себе печать героического — типы блестящие или мрачные, сильные, страстные, хищные. Русская натура, наш душевный склад — в типах простых и смирных (Белкин, Максим Максимович)» [120.74].
Чувство коренного душевного настроя народа уловил JI. Толстой в романе «Война и мир». К произведениям, верно осмысляющим народный менталитет, можно отнести «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова- «Богомолье» и «Лето Господне» И. Шмелева. Но проследить движение к духовному осмыслению народной сути, как вектор, который проходит через все творчество писателя, можем только у А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и А. П. Платонова. В данном движении и «чувство пути писателя», о котором пишет А. Блок, и «движение идеи», как определяет главный принцип поэтики Ф. М. Достоевского М. Бахтин.
Анализируя творчество Ф. М. Достоевского, М. Бахтин обобщает: «Владычествующая идея» намечается в замысле каждого романа. «Я не за роман, я за идею мою стою» (о «Идиоте» Страхову) «Идея соблазнила меня, я полюбил ее ужасно» (Майкову о «Бесах») <.> Идеи.
Достоевского угаданы в самой действительности, живые идеи — символы, он слышал диалог своей эпохи" [36.68]. Важна направленность идей. Все идеи-символы Достоевского о духовном утверждении. Сам Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» определяет назначение творчества: «Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, «горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесах есть» [61.101]. В. Розанов отмечает духовный концепт творчества Ф. М. Достоевского: «Удивительно: в эпоху совершенно безрелигиозную, в эпоху существенным образом разлагающуюся, хаотически смешивающуюся — создается ряд произведений, образующих в целом что-то напоминающее религиозную эпопею, однако со всеми чертами кощунства и хаоса своего времени» [110.282]. Это определение можно вполне отнести и к творчеству А. Платонова. В каждом произведении Платонова прочитывается «владычествующая» идея. Наряду с пристальным вниманием к низовой жизни, построению образных рядов, связанных с естественными нуждами человека, для каждого произведения можно выделить духовный художественный концепт. В «Счастливой Москве» -им является поиск душив «Чевенгуре» — поиск матери и возвращение к отцув повести «Джан» — снова поиск души, поиск народав «Котловане» — попытка осмыслить будущее «эссесерши», то есть поиск духовного вектора.
Н.В. Корниенко, анализируя основной текст Платонова 30-х годов, обобщает смысл романа «Счастливая Москва»: «Лишь одно явление оказалось не под силу героям романа — душа, с которой они сражаются искренне неистово и последовательно, чтобы прийти к тяжкому для них выводу: «Везде есть проклятая душа» [77.187]. Там же она приводит слова А. Гурвич «О восстановленной формуле «религиозного душеустройства» в рассказах Платонова 1936 годов».
Поиск «единого» смысла, в чем душа может успокоиться, и движение героев к простым народным типам — есть главное направление платоновских произведений.
Одной из особенностей духовной жизни русского народа является соборность, которая может проявляться по-разному. Один из аспектов соборности выделяет П. Флоренский. Многоголосье, хоровое пение является древним выражением русской музыкальной души. П. Флоренский пишет о «гетерофонии» русской песни, «полной свободе всех голосов, „сочинении“ их друг с другом в противоположность подчинению. Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей» [135.65]. Нам кажется, что именно здесь надо искать разгадку многоголосья произведений Платонова. При ярко выраженном духовном векторе самого произведения, оно несет в себе множественность суждений о теме, вариативность решений, символический фон, мифический и социальный пласты, тема обыгрывается разными голосами, в разных направлениях. Наиболее ярко это проявлено в романе «Счастливая Москва».
У Флоренского о ведении песни русским народом: «идет к конечной цели по разным дорогам, сразу со всех сторонне дойдя до конца по одной, он бросает ее и ведет другую издали и с другой стороны, в том же направлении, так, что срединная мысль оказывается как бы заключенной внутри большого круга радиусов, стремящихся к ней, но не достигающих, что дает устремление мысли» [135.69]. Такой принцип выражения своего внутреннего, духовного состояния Флоренский называет «круглым мышлением» и объясняет восточным мышлением.
С данной точки зрения интересно посмотреть еще на одну проблему. Эта проблема затрагивалась А. Григорьевым, касается она русского героизма. Приведем высказывания Страхова о JI.H. Толстом: «Л. Н. Толстой писал: „Нет величия там, где нет простоты, добра и правды“ — вот смысл „Войны и мира“ — русская формула героической жизни. <.> Задача всей литературы после Гоголя, уразуметь русскую действительность более правильным, более широким образом. Голос за простое и доброе против ложного и хищнического впервые поднял Толстой». Страхов выделяет два вида героизма: «деятельный и страдательный (спокойный). Нет у нас чистых и ясных образов деятельного героизма. Толстой прославил и воплотил героизм смиренный. Мы сильны всем народом» [120.70].
Военные рассказы Платонова — продолжение осмысления русского народного героизма.
Еще одна тема, которая является показательной при определении духовного состояния народа — это тема семьи. К. Н. Леонтьев в статье «Византизм и славянство» указывал на связь семьи и религиозности народа: «Кто хочет укрепить нашу семью, должен дорожить всем, что касается церкви нашей» [84.198]. Продолжив этот ряд, получим: укрепляя семью, возвращаем человека к Богу. Пристальное внимание Платонова к теме семьи отмечали многие исследователи. И. П. Сахаров пишет: «Народная поэзия всех веков и всех народов воспевала семейную жизнь <.> здесь человек только пел сам с собою» [112.33]. Именно в семейном мифе Платонов ищет сокровенное движение человеческой души, здесь она наиболее открыта и обнажена, нежели на виду, в обществе. В «Размышлениях читателя» Платонов определяет важность семьи для общественного устройства: «Семья позволяет человеку любой эпохи более устойчиво держаться в обществе <.> ограничивая в человеке животное, семья освобождает в нем человеческое. <.> Семья служит не самоцелью, но питает, как источник, и другие, более широкие и высшие сферы жизни человека». Если ранние произведения Платонова идут под знаком невозможности создания семьи, ущербности, сиротства, то позже он обращается к этой теме, как основе нормального, плодотворного человеческого существования.
В связи с этим можем утверждать, что основное развитие смыслообразов Платонова простраивается на глубинных национальных установках, которые являются основой русского характера, коренятся в мифологическом воззрении народа, составляют его внутреннюю генную память. Использование Платоновым образов, мифологем других писателей, философов происходит в строгом соответствии с сокровенным знанием духовной потребности народа.
Помимо этого открытые концовки платоновских романов также связаны с духовным концептом произведения. Платонов дает возможность каждому самостоятельно прийти к Богу, найти свой путь, свой финал.
П.Н. Сакулин пишет о законе сохранения творческой энергии: «Творческая энергия, если она проявила себя в тех или иных формах, не умирает бесследно, и продолжает жить, как элемент творческой традиции» [113.59]. Традиция духовно-концептуальной литературы существует, но проблема в том, что эта линия не может стать массовой, в силу необходимости наличия духовного вектора при осмыслении окружающего мира и особого творческого мышления — мифологического. Так, Пушкин использует мифы общекультурные, в большей мере европейские, греческие, славянские для создания своих символов и образов. Достоевский применяет в основном религиозные мифы. Платонов использует пласт народного мифотворчества. Проследив общий вектор движения, видим, что народная душа обращается к постижению основного, главного в себе, для того, чтобы создать новые ориентиры возвращения к своей святой сущности — слитности с Богом.
Список литературы
- Издания А.П. Платонова
- Платонов А.П. Сочинения. Т. 1. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2004.
- Платонов А.П. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2004.
- Платонов А.П. Чевенгур. М.: ACT, 2003.
- Платонов А.П. Счастливая Москва // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, 1999.
- Платонов А.П. Избранные сочинения. М.: Худож. лит., 1987.
- Платонов А.П. На заре туманной юности. М.: Советская Россия, 1990.
- Платонов А.П. Волшебное кольцо. М.: Астрель, 2004.1. Произведения А. П. Платонова из архива М.А. Платоновой
- Тою ночью, тою ночью. (страница сборника «Стихи» с авторской правкой и правкой неизвестного лица).
- Тою ночью, тою ночью. (машинопись в составе ПД).
- Вечер после труда // Железный путь. 1919. № 6. 31 января. С. 11.
- Вечер после труда // Голубая глубина. Краснодар: Буревестник, 1922. С. 14.
- Вечер душен. Ночь недалека. // Железный путь. 1919. № 9 (апр.). С. 13.
- Вечер душен. Ночь недалека. (машинопись в составе ПД).
- К звездным товарищам // Огни (газ.). Воронеж. 1921. 11 июля.
- К звездным товарищам // Голубая глубина. Указ. изд. С. 11.
- Конец света // Воронежская коммуна. 1923. 14 января. С. 4.
- Конец света (машинопись в составе ПД).
- Напор // Красная деревня. 1920. 18 июля. С. 2.
- Я сердцем знаю (авторизованная машинопись).
- Гудок // Железный путь. 1919. № 10 (май). С. 5.
- Гудок // Голубая глубина. Указ. изд. С. 3.
- Познаны нами тайны Вселенной // Воронежская коммуна. 1921. 29 июня. С. 1.
- Познаны нами тайны Вселенной // Голубая глубина. Указ. изд. С. 12.
- Много матерей // Воронежская коммуна. 1920. 2 дек. С. 3.
- Много матерей (вырезка из газеты с авторской правкой).
- Последний шаг // Воронежская коммуна. 1921. 15 января. С. 1.
- Последний шаг (вырезка из газеты с авторской правкой).
- Судьба // Воронежская коммуна. 1921. 13 февр. С. 2.
- Судьба (беловой автограф).
- Когда я думаю, я слышу музыку // Голубая глубина. Указ. изд. С. 60.
- В моем сердце песня вечная // Голубая глубина. Указ. изд. С. 35.
- Мир родимый, я тебя не кину (машинопись в составе ПД).
- Александровский А. // Пролетарские поэты. М.: Никитинские субботники, 1927.
- Афанасьев А.Ф. Поэтическое воззрение славян на природу. М.: Современный писатель, 1995.
- Аристотель. Поэтика. Л.: Орфей, 1991.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Наука, 1963.
- Бочаров С. «Вещество существования». Проблемы художественной формы. Т. 2. М., 1971.
- Бочарова Н. Поэтика чудесного в военных рассказах Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- Брель С. Культурные контексты поэтики «живого-неживого» А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Булгаков С.Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994.
- Васильев В. Андрей Платонов. М.: Современник, 1990.
- Вьюгин В. Поэтика А. Платонова и символизм // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. М.: Наследие, 1999.
- Вьюгин В. «Чевенгур» и «Котлован»: Становление стиля Платонова в свете текстологии // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Гастев А.К. Поэзия рабочего удара. Пг.: Пролеткульт, 1918.
- Гвардини Р. Конец нового мира // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 45−68.
- Герасимов М.П. Северная весна. Стихи. Кн. 3. М.: Госиздат, 1924.
- Герасимов М.П. Завод весенний. М.: Пролеткульт, 1919.
- Герасимов М.П. Стихи о заводе и революции. Харьков: Харьковское гос. изд. Украины, 1925.
- Гердер. Мифы народов мира. Энциклопедия. 1—2 тт. М.: Советская энциклопедия, 1991.
- Григорьев А. Одиссея последнего романтика. М.: Моск. рабочий, 1988.
- Голосовкер Я. Логика мифа. М.: Полит, лит., 1990.
- Гусев С. Замечательный случай с глазами Дэвидсона и машиниста Мальцева // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5, М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- Гюнтер X. «Счастливая Москва» и архетип матери в советской культуре 30-х годов // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества". Вып. 3. М.: Наследие, 1999.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1989.
- Дмитровская М.А. Язык и миросозерцание А. Платонова. Автореферат. д-ра филол. наук. М., 1999.
- Дмитровская М.А. Архаичная семантика зерна (семени) у А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Дмитровская М.А. «Огненная Мария» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М.: Правда, 1980.
- Есенин С.А. Полное собр. соч. Т. 5. М.: Наука Голос, 1997.
- Заболоцкий Н. Столбцы и поэмы. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1989.
- Иванова Л.А. Действительность в творчестве Платонова.
- Ивлев В. «Голубая глубина»: к семантике заглавия // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- Казаркин А. Платоновский период // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- Казин В.В. Избранные стихи. М.: Огонек, 1925.
- Казин В.В. Рабочий май. Стихи. Пб.: Госиздат, 1922.
- Калениченко О. Мифологема строительной жертвы в повести «Котлован» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Капельницкая О. Мифологема «женщина-город»: Культурная традиция и «Счастливая Москва» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества". Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Карасев Л. Движение по склону (пустота и вещество в мире Платонова) // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995.
- Келлер В. Андрей Платонов // Зори. № 1. 1922. С. 3—7.
- Кереньи. Душа и миф. М.: Совершенство, 1997.
- Кирилов В. // Пролетарские поэты. М.: Никитинские субботники, 1927.
- Корниенко Н.В. История текста и биография А.П. Платонова (1926−1946) // Здесь и теперь. № 1. М., 1993.
- Корниенко Н.В. М. Шолохов и А. Платонов. М.: ИМЛИ РАН, 2004.
- Корниенко Н.В. Современная текстология: теория и практика. М.: Наследие, 1997.
- Корниенко Н.В. Повествовательная стратегия Платонова в свете текстологии // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995.
- Кожевникова Н. Тропы в прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Кожинов В.В. Загадочные страницы истории XX века. М.: Прима В, 1995.
- Кузнецов Ю.П. Избранное. М.: Худож. лит., 1990.
- Кулагина А. Метафора любви «жизнь сердца» в народной лирике и романе «Счастливая Москва» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3, М.: Наследие, 1999.
- Краткий словарь по эстетике. М.: Политиздат, 1963.
- Леонтьев К.Н. О романах графа Л. Толстого // Русский вестник. 1890. С. 12−25.
- Ливингстон А. Христианские мотивы в романе «Чевенгур» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества". Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990.
- Луначарский А.В. Пролеткульт и советская культурная работа. Пг.: Пролеткульт, 1919.
- Малашкин С. Мускулы. Поэмы. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской коммуны, 1919.
- Малыгина Н.М. Художественный мир А. Платонова. М.: Изд-во педагог, института, 1995.
- Малыгина Н.М. Модель сюжета в прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995.
- Меерсон О. «Свободная вещь»: Поэтика неостранения у Андрея Платонова. Berkeley Slavic Specialties, 1997.
- Мережковский Д. Лев Толстой и Достоевский // Мир искусств. 1900. № 1−2. С. 5.
- Мифы народов мира. Энциклопедия. 1−2 тт. М.: Советская энциклопедия, 1991.
- Михеев М. Неправильность платоновского языка: Намеренное косноязычие или бессильно-невольные «затруднения» речи? // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Мущенко Е. Имя и судьба в художественном сознании А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Никонова Т. Из одного вдохновенного источника жизни: общие истины и человеческая жизнь в романе «Счастливая Москва» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. М.: Наследие, 1999.
- Ницше Ф. Сочинения. М.: Наука, 1996.
- Нонака С. Рассказ «Уля». Мотив отражения и зеркала. // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- Орлицкий Ю.Б. Стиховое начало в прозе А. Платонова (предварительные замечания) // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, 2000.
- ЮО.Ортега-и-Гассет. Восстание масс.
- Пасту шенко Ю. Г. Мифологические основы сюжета у А. Платонова (Роман «Чевешур»). Автореферат.. канд. филол. наук. М., 1998.
- Пасту шенко Ю.Г. О мифологической природе образа у Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. 1934. Репринтное воспроизведение издания 1934 года. М.: Советский писатель, 1990.
- Ю4.Потебня А. П. Мысль и язык // Теоретическая поэтика. М.: Русский язык, 1980.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. Д.: Академия, 1921.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2004.
- Реформатский А.П. Введение в языковедение. Л.: Изд. Ленинградского ун-та, 1984.
- Ристер В. Имя персонажа у Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 1999.
- Розанов В.В. Религия и культура. М.: Правда, 1990.
- Ю.Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе. М.: Республика, 1996.
- Ш. Розанов И. // Пролетарские поэты. М.: Никитинские субботники, 1927.
- Сахаров И.П. Сказания русского народа. СПб.: Изд. Суворина, 1895.
- Словарь русских пословиц и поговорок. М.: Русский язык, 1991.
- Савельзон И.В. Структура художественного мира А. Платонова. Автореферат. канд. филол. наук. М., 1992.
- Савельзон И.В. Фразеопаремиологическая система А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: Наследие, 1995.
- Савельзон И.В. Категория Пространства в художественном мире А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 1999.
- Семенова С. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // Андрей Платонов: Мир творчества. М.: Соврем, писатель, 1997.
- Смирнов В.П. «Мастер всеобщей жизни» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Страхов Н.Н. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. СПб., 1895.
- Андрей Платонов. Проблемы интерпретации. (Сборник). Воронеж: Траст, 1995.
- Конница бурь. (Сборник). М., 1920.
- Нечистая неведомая сила. (Сборник). Т. 1. М.: Русский духовный центр, 1993.
- Крестная сила. (Сборник). Т. 2. М.: Русский духовный центр, 1993.
- Народные русские сказки (в обработке Афанасьева). М.: Худож. лит., 1982.
- Таганов JI., Пронин В. Платонов-поэт (сборник «Голубая глубина»). Статьи и сообщения. Воронеж, 1970.
- Тарасов Е. Книга лирических стихотворений. М., 1906.
- Твардовский А. Избранное. М.: Русская книга, 2000.
- Токарев С.А., Мелетинский Е. М. Мифология. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1991.
- Толстая-Сегал Е. О связи низших уровней текста с высшими // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995.
- Трубецкой Н.С. Исход к Востоку // Пути Евразии. М.: Русская книга, 1992.
- Флоренский П. Иконостас (Избранные труды по искусству). СПб.: МИФРИЛ, Русская книга, 1993.
- Флоренский П. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990.
- Флоренский П. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990.
- Фет А. А. Стихотворения. Петрозаводск: Карелия, 1986.
- Харитонов А. Система имен персонажей в поэтике повести «Котлован» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995.
- Ходел Р. «Чевенгур» и Роза Люксембург // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. М.: Советский писатель, 1987.
- Щербаков А. Сиротство, гражданственность, одиночество и родство в произведениях А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995.
- Эйдинова В. Андрей Платонов и Л. Добычин: стилистические схождения и отталкивания // «Страна философов Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- Эпельбоин А. Проблемы перспективы в поэтике А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
- Юнг К.-Г. Душа и миф (шесть архетипов). М.: Совершенство, 1997.
- Яблоков Е.А. На берегу неба (Роман Андрея Платонова «Чевенгур»). СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.