Модальность сложных предложений с отношениями обусловленности в древнерусском языке XI — XIV вв
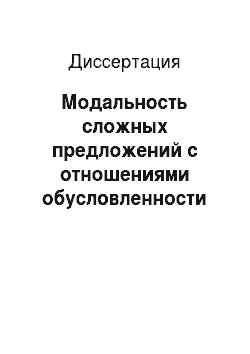
Исторический отрезок, выбранный нами, представляет собой иллюстративный материал для выявления тенденций образования «поверхностных» структур сложного предложения. Как выяснилось, в этом процессе наряду со всеми системными перестройками важную роль играла категория модальности, которая, как известно, служит своеобразным мостиком между человеком и языком, вследствие чего буквально пронизывает все… Читать ещё >
Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- 1. К вопросу о формировании сложного предложения в древнерусском языке
- 2. Философский аспект изучения категории обусловленности
- 3. К вопросу об изучении категории модальности в лингвистике
- ГЛАВА I. МАКРОПОЛЕ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
- 1. Микрополе причины
- 2. Микрополе следствия
- 3. Микрополе цели
- 4. Микрополе условия
- 5. Микрополе уступки
- ВЫВОДЫ
- ГЛАВА II. МОДАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СО
- ЗНАЧЕНИЕМ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
- 1. План содержания категории обусловленности
- 1. 1. Характер взаимодействия объективной и субъективной модальностей
- 1. 2. Модальная структура макрополя обусловленности
- 2. Предложения с модальной доминантой желательности
- 3. Предложения с модальной доминантой долженствования
- 4. Предложения с модальной доминантой возможности
- 5. Модальные отношения между микрополями
- 5. 1. Интерферентные зоны субъективной модальности
- 5. 2. Интерферентные зоны объективной модальности
- 1. План содержания категории обусловленности
Модальность сложных предложений с отношениями обусловленности в древнерусском языке XI — XIV вв (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В настоящей работе на материале памятников письменности XI — XIV вв. рассматриваются конструкции, объединенные в семантическую категорию обусловленности в рамках категориальной ситуации модальности. Подобное расширение исследовательского взгляда обусловливает тщательное изучение одной из самых сложных, неоднозначных и философски обогащенных категорий языковой реальности — категории модальности.
В центре исследования находится интерферентная зона пересечения двух семантических категорий: обусловленности и модальности, рассматриваемая с точки зрения специфики построения коммуникативных актов с определяющим участием в них говорящего. Отсюда возникает живейшая потребность в определении сферы субъективной и объективной модальности.
Общепризнанное мнение о доминировании человеческого фактора в процессе функционирования языковой системы в речевых произведениях формирует представление о взаимосвязи категорий оценочности с категориями обусловленности и модальности в плане их отнесения в эмотивно-концептуальную сферу человеческого сознания.
В качестве основных положений, выносимых на защиту, выдвигаются следующие:
1. В период XI — XIV вв. в целом сформировались основные семантические типы и формальные средства выражения конструкций с общим значением обусловленности. В структурном оформлении указанных типов предложений участвуют по преимуществу союзные средства старославянского происхождения, но уже набирают функционально-синтаксическую «силу» и древнерусские «релятивы» (М.В. Ляпон), что связано с внутрисистемными изменениями языка.
2. Смысловое содержание конструкций со значением обусловленности, информативно «дублируя» одно из наиболее общих и фундаментальных характеристик онтологического устройства мира — зависимое следование одной ситуации за другой, основывается на представлении человека о времени.
3. При группировке полей обусловленности релевантным является понятие «нормы», соотносящее весь контекст исследования с категорией оценочности. При этом понятие «нормы» в условиях заданной темы наполняется семантикой, определяемой содержанием оппозиции: «логический закон научного мышления» -«логический закон обыденного мышления». Для конструкций обусловленности, реализующихся в речевом контексте, актуальным является второй оппозитивный член.
4. Анализ конструкций обусловленности обнаружил ближайшее функциональное «соседство» последних с семантической категорией модальности, с помощью характеристик которой во многом объясняется специфика содержательного плана некоторых микрополей категории обусловленности.
5. Исследования языкового материала в модальной плоскости позволило провести функциональную «границу» между планами субъективной и объективной модальностями. Вместе с тем живая языковая реальность сохраняет тенденцию либо к перемещению этой границы, либо к ее имплицированию.
6. Центральным компонентом в макроструктуре обусловленности мы признаем микрополе условия, поскольку альтернативное начало условной семантики более «объемно» представляет ситуацию, а конкретная реализация выбора вызывает мощный «поток» модальной энергии языковой системы, что выражается в богатых «напластованиях» различных модальных значений.
7. Семантическая категория модальности, благодаря своей всеоохватности, особым образом «высвечивает» речевые репрезентации категории обусловленности, «обнажая» скрытые смыслы, составляющие сферу пресуппозиций различного происхождения, воздействует на синтагматические отношения внутри фразы, специфицирует само содержание коммуникативного акта.
Предварительные замечания.
Обращение к грамматической системе древнерусского языка требует системного подхода к языковым фактам. Данная установка обусловливается спецификой функционирования языковых единиц в условиях становления языковой системы. Начальный период развития древнерусского языка характеризуется следующими аспектами: импульс" наследия праславянской языковой системы, который на грамматическом уровне был еще далеко не «затухающим" — праславянские реликты синтаксической системыопределяющее значение конституирующего признака текстасвязности, „проявляющегося каждый раз в других параметрах, на разных уровнях текста и в разной совокупности частных связей“ (Кожевникова 1979, с. 50)1- единство мировоззрения, общие философские взгляды, принадлежность к общему культурно-историческому ареалу» участников коммуникативного акта — книжника и слушателя (читателя) (Трестерова 1985, с. 13 — 14) — цитация как стержневой признак структурно-семантической организации текста, дополняющий его общий модальный планживейшее участие модальных интенций языка в изменении и перестройке системных отношений.
1 Об особенностях связности древнерусского текста также см.: С. А. Рылов, Р. Д. Кузнецова, JI.H. Гукова, B.JI. Ринберг, И. В. Ильинская, Л. А. Глишсина, Р. Б. Кершиене, С. Е. Морозова, М. Н. Преображенская.
Указанные аспекты исследования не составляют цели нашего исследования, но играют важную роль в интерпретации некоторых языковых фактов, касающихся заявленной темы. Поэтому обозначив их в общем виде, некоторые, наиболее актуальные для адекватного отражения темы, мы вынесли в отдельные разделы. Остальные отмечены дополнительными замечаниями. * *.
Целью диссертационной работы является анализ функционирования сложных предложений со значением обусловленности в аспекте актуализации их модальных отношений в рамках указанных синтаксических единиц.
Актуальность настоящего исследования определяется тем фактом, что сложное предложение как единица синтаксической системы древнерусского языка еще не получило однозначного определения в лингвистической литературе, вернее, это определение постоянно подвергается пересмотру. Так, бытовавший до недавнего времени метод анализа структуры сложного предложения по аналогии с современным русским языком2 критически пересмотрен в связи с развитием теории синтаксиса текста, которая «в современной лингвистике провозглашается как основа диахронических реконструкций в области синтаксиса» (Мишланов 1997а, с. 25)3. л.
Ср. «В совокупности выделяемых в текстах бинарных объединений, которые рассматриваются в качестве сложноподчиненных предложений различаются главная и придаточная части по принципам, которые приняты и для современного языка» (Структура предложения в истории восточнославянских языков. 1983. С. 185).
3 См. об этом также: Дресслер В. Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988. Вып. 8. Трестерова 3. К некоторым особенностям связности древнерусского текста и их роли в перестройке «типа» синтаксиса II Восточные славяне. Языки. История.
Развитию наметившейся тенденции к исследованию синтаксических фактов в текстовой перспективе служит разработка частных вопросов модальности сложных предложений в древнерусском языке. Системная связь сложного предложения и текста уже изучается в современной лингвистике. «Если считать, что сложное предложение (сложное высказывание) есть результат осмысленного соединения двух или более относительно завершенных (коммуникативно значимых) отрезков информации, в его структуре следует искать отражение существенных характеристик текста как особой лингвистической категории"4. Последовательное рассмотрение модальных отношений внутри сложного предложения позволяет выйти на уровень текста и рассмотреть его как культурно-лингвистический феномен с учетом специфики его хронологической принадлежности. Применительно к древнерусскому периоду экстралингвистические условия функционирования текстов отличаются единством мировоззрения участников прямой (чтение летописной и житийной литературы вслух)5 и косвенной (письменная литература) коммуникации: автора и слушателя (читателя), общностью их умонастроений, единой культурно-исторической атмосферой. Указанные признаки эпохи позволяют расширить позиции исследовательского взгляда на семантическую структуру древнерусского текста и установить.
Культура. М., 1985; Попова З. Д. Об изучении сложных предложений старорусского языка // Гам же.
4 Ляпон М. В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986. С. 8.
5 См. об этом: Русский язык. Энциклопедия. М., 1979; Рыбаков Б. А. Сказания, былины, летописи. М., 1963. О текстовой специфике древнерусских произведений также см. доклады Булахова М. Г., Максимович К. А., Мишиной Е. А., Мишланова В. А. // Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс русистов-исследователей. Москва, МГУ, 13−16 марта, 2001 г. Труды и материалы. Под общ. ред. M. JL Ремневой и А. А. Поликарповой. Изд-во Моск. ун-та, 2001. модальную «ось» текста, которая «управляет» его имплицитными смыслами. Исследования по модальности сложного предложения могут служить компонентом построения общей теории модальности текста.
Для современного исследователя древнерусского языка необходимым представляется постижение культурного интенсионала, которое невозможно без обращения к содержательному объему общих философских категорий эпохи. Основным «инструментом» понятийного освоения мира для древнего сознания являлась категория времени. Время непосредственно «переживалось» человеком («Одиссей возвратился, пространством и временем полный"6) и измерялось событиями. Объединения предикативных единиц, представлявшие на языковом уровне сложные взаимодействия фактов действительности, отражали своеобразный процесс декатегоризации идеи времени, потери ее внутренней формы. Результатом такого гносеологического преобразования явилось рождение семантической «протоформы» со значением обусловленности.
Особенности синтаксической структуры сложного предложения в условиях древнерусского текста обусловили обращение исследователей к проблеме его генезиса с учетом теории глубинных и поверхностных структур (Адамец 1978, Арутюнова 1976, Гак 1969, Панкрац 1992, Богданов 1977, 1978 и др.). Системный взгляд на происхождение сложного предложения представлен в диссертации В. А. Мишланова. Обобщая уже имеющиеся точки зрения на процесс формирования сложного предложения, автор с позиций логико-вероятностного метода, применяя положения теории синтаксиса и глубинных структур, создает оригинальную, логически выверенную картину представления деривационно-генетических процессов образования сложных предложений. Главным мотивом рассматриваемого процесса признается стремление человека к коммуникативно надежному, эксплицитному выражению получаемых знаний о мире. Указанная тенденция означает факт активного участия человека в создании вторичной (по отношению к миру) — речевой — действительности. Категория модальности, призванная выражать эту особую человеческую роль в языке, непосредственным образом влияла на формирование поверхностных уровней синтаксической системы, что позволяет утверждать ее панхроничность.
Учет человеческого фактора, играющего роль экстралингвистического компонента языковых преобразований, обусловливает закономерный интерес исследователей к коммуникативно-прагматическому аспекту функционирования языковых единиц. Рассмотрение такой универсальной языковой категории, как модальность, невозможно без обращения к внелингвистическим мотивам порождения высказывания, о чем наглядно свидетельствует ряд диссертационных исследований по проблемам модальности, выполненных в последние годы (С.С. Ваулина 1990, Л. В. Колобкова 1995, И. Ю. Кукса 1997, И. Р. Федорова 1997, O.JI. Кочеткова 1998, Н. А. Суворова 2001). Еще рельефнее прагматические обоснования выражения того или иного смысла проявляются на базе сложных предложений древнерусского языка.
Все разнообразие различных фрагментов, уровней, подуровней, пластов, рядов содержательного плана модальности целесообразно рассматривать в рамках функционально-семантического подхода с учетом.
6 Мандельштам О. «Золотистого меда струя из бутылки текла. «// О.Мандельштам. коммуникативно-прагматических элементов речевой ситуации. Указанное направление исследовательской работы делает возможным моделирование функционально-семантических полей (Бондарко 1987), которое иллюстрирует распределение модальных «пропорций» в процессе речевой интерпретации экстралингвистической действительности в рамках сложного предложения.
Модальность как категория, отражающая отношение субъективного к объективному, предполагает обращение к такому семантическому инварианту, по отношению к которому вся модальная стихия языка распределялась бы в соответствии с системным положением своих компонентов и типовым значением речевого репрезентанта определенного элемента внеязыковой действительности. Подобную функцию выполняет категория оценочности, с которой связана категория модальности, на что обращается все большее внимание в современной лингвистике (Вольф 1985, Николаева 1986, Арутюнова 1988, Колшанский 1988, Маркелова 1996, Бондарко 1996, и др.). Например, И. В. Николаева, соглашаясь с мнением Г. В. Колшанского о том, что «познавательный акт как некоторый фрагмент мыслительной деятельности человека уже по своей природе содержит так называемый оценочный момент, который и есть не что иное, как произведенная субъектом, мыслительная операция над предметом высказывания (восприятие, понимание, обобщение, заключение и т. д.) (Колшанский 1988, с. 19), объединяет в рамках категории оценочности пропозициональную и прагматическую модальности, а также понятие оценки, выражающей отношение говорящего к содержанию высказывания с точки зрения.
Поли. собр. стихотворений. СПб, 1997. С. 139. противопоставления «положительное/отрицательное» (Николаева 1986, с. 13).
Все вышеперечисленные параметры исследования являются необходимыми теоретическими предпосылками, которые определяют актуальность и новизну исследования.
Научная новизна настоящей работы определяется новым ракурсом постановки проблем модальности и обусловленности. Отдельно изучению данных вопросов посвящено очень большое количество монографических и диссертационных исследований. Однако попытки системного рассмотрения этих двух категорий еще не осуществлялись. С учетом уникальности исторического периода (XI — XIV вв.) в развитии языковой системы основное внимание в диссертационном сочинении сосредоточено на исследовании особенностей семантической структуры конструкций с общим значением обусловленности. Из всех средств создания высказывания нас интересуют, в первую очередь, модальные соотношения, положенные в основу самих конструкций, доминирующие модальные значения внутри микрополей, а также общие поля субъективной и объективной модальностей, интегрирующие конструкции разных синтаксических значений в одну сферу. Таким образом, новизна реферируемой работы объясняется спецификой материала, отражающего диахронический срез функционирования синтаксических единиц и категорий. Вместе с тем выводы, сделанные в процессе работы, подтверждают правомерность использования при анализе языковых фактов некоторых положений точных наук, а также данных философии и психологии. Указанное направление работы позволяет расширить научное представление о путях формирования сложного предложения, о древнерусской языковой картине мира, одной из фрагментов которой является категоризация идеи порождения одним событием другого.
Достижению основной цели исследования подчинено решение следующих задач: определение структурно-семантических признаков конструкций со значением обусловленностивыявление логических оснований для объединения конструкций указанного семантического признака в одно функционально-семантическое макрополе обусловленностиустановление философского объема категории времени в древнем сознании и результатов ее переосмысления на языковом уровнеопределение системного положения категории модальности среди языковых средств выражения синтаксических значенийвыявление особенностей плана содержания субъективной и объективной модальностей в рамках сложного предложения со значением обусловленности в исследуемый периодмоделирование функционально-семантических микрополей с частными значениями обусловленности в соответствии с доминирующим модальным признакомреконструкция функционально-семантического поля модальности в соотношении его подуровней: субъективной и объективной модальностейанализ соотношения частных модальных значений в рамках определенных микрополей, а также между ними.
Материалом для исследования послужили 30 памятников древнерусской письменности XI — XIV вв. различной жанровой принадлежности, из которых методом сплошной выборки, но с учетом текстовых связей синтаксических конструкций было извлечено около 2000 предложений со значением обусловленности.
При анализе фактического материала учитывались различия в формальных средствах связи предикативных единиц, которые распределяются по условным параметрам сочинения и подчинения. Семантическая специфика конструкций со значением обусловленности объясняет наш интерес, в первую очередь, к структурам, которые отражают процесс оформления синтаксической категории подчинения.
Цели и задачи представленного диссертационного исследования обусловили целесообразность применения следующих приемов и методов: метод формального описания структуры сложного предложения, позволяющий установить логические связи и основное синтаксическое значение конструкциидедуктивно-гипотетическиим метод, позволяющий обосновать многочисленные предположения как языкового, так и философского характераметод системного анализа, являющийся наиболее продуктивным в области диахронических исследований синтаксических изменений, поскольку отражает онтологическое свойство связности и цельности фактов внешнего мира и дает верные результаты при соотносительном изучении уровня синтаксиса и текстаконтекстуальный анализ, являющийся необходимым при работе с историческими языковыми фактами в условиях одностороннего изучения, когда невозможна опора на разговорную речьтрансформационный метод, позволяющий оправдать попытки реконструировать семантические протоформы синтаксических единиц, формируемые на глубинном уровне, но визуально доступные только на поверхностном.
Частично применяется методика статистической обработки (количественного подсчета) материала.
Теоретическая значимость представленной работы определяется возможностью использовать полученные результаты в качестве описания взаимодействия модальных значений в рамках сложных предложений при формировании и «уточнении» его поверхностной структуры. Исследовательские изыскания могут также дополнить общую картину представления синтаксической системы древнерусского языка, отражающую процесс категоризации и концептуализации окружающего мира.
Практическая значимость исследования обусловливается сделанными выводами и наблюдениями, которые могут быть использованы при разработке вузовского курса по историческому синтаксису, а также спецкурсов по проблемам модальности, синтаксиса древнерусского текста, методики функционально-семантического анализа, функциональной грамматики.
Апробация работы. Материалы настоящего исследования представлены в пяти публикациях, в докладах на ежегодных конференциях и семинарах преподавателей и сотрудников КГУ (1999, 2000, 2001), научно-практическом семинаре «Текст в лингводидактическом аспекте» (Калининград, Зеленоградск, 2002).
Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры истории русского языка КГУ.
Структура диссертационного исследования определяется стремлением автора адекватно описать исследованный материал и по возможности полно решить поставленные в работе цель и задачи. Диссертация строится по традиционной схеме: введение, две главы, заключение, список использованной литературы, указатель источников.
Анализ фактического материала диссертации, предпринятой нами в исследовательских главах, считаем уместным предварить кратким рассмотрением теоретических вопросов, имеющих непосредственное отношение к нашей работе. Этому посвящены три нижеследующих параграфа.
ВЫВОДЫ.
В результате исследования микрополей со значением обусловленности в модальной плоскости еще более очевидным стал тот факт, что микрогруппы предложений с различными частными значениями обусловленности представляют собой единую категорию предложений, обладающую цельностью модальных значений при различных средствах их выражения.
Так, было выяснено, что распределение модальных значений подчиняется структурированию по полевому принципу. При этом релевантным для указанной классификации является категория оценочности, которая представляет собой метауровневую, соединяющую языковые и гносеологические интенции говорящих, абстрактную категорию. Если модальность, по замечанию Ш. Балли, — это душа предложения, то оценка — это онтологическая сердцевина категории модальности.
При исследовании распределение полей обусловленности по модальным планам выяснилось, что оценочная шкала лежит в основе определения области значений субъективной и объективной модальностей. Высокая «отметка» формирует плоскость субъективной модальности, на которой «располагаются» условные конструкции в форме сослагательного наклонения, условные градационного сравнения, прямого и косвенного вопроса, побуждения. Синтаксические структуры указанных значений составляют ядро субъективной модальности.
Дальнейшее распределение полей подчиняется пропорциям субъективной и объективной модальностей. Так, ближнюю периферию образуют конструкции, еще сохраняющие высокое «напряжение» субъективной модальности. Сюда относятся предложения с доминирующим модальным планом желательной модальности: сложноподчиненные предложения с придаточными условия, цели, причины.
Пограничной между сфер повышенной оценочности и пониженной считается модальная сфера долженствования. Указанный модальный оттенок характеризует сравнительно большую часть конструкций, почти равномерно распределяющихся по субъективной и объективной областям модальности. Сюда относятся сложноподчиненные предложения с придаточными условия, следствия, уступки.
Частное значение возможности в его «чистом» виде характеризует конструкции, располагающиеся в плоскости объективной модальности. Поэтому дальная периферия субъективной модальности пространственно ближе к центру объективной модальности. Однако прагматические установки говорящего «адаптируют» основной модальный план для выражения субъективных признаков ситуации. Так, выделяются сложноподчиненные предложения, отражающие объективную возможность связи двух явлений, и возможность, мысленно устанавливаемую говорящим.
Указанными отношениями не ограничиваются рассматриваемые конструкции. Если попытаться объемно представить семантическое поле языка, то описанные связи будут располагаться скорее по горизонтали, образуя «синтагматические» линии, следствием распространения которых являются синонимические ряды конструкций со значением обусловленности (см. выше). Рассматривая же семантическое пространство в вертикальном измерении, необходимо установить некую «ось», определяющую соотношение субъективного и объективного в высказывании. Таким модальным «остовом» признается человеческий фактор. Производитель речевого акта оказывается вправе сам моделировать те или иные пропорции субъективного и объективного. Зоны таких конструкций условно распределяются на интерферентные зоны субъективной и объективной модальностей. «Творческое» распределение модальных значений и оттенков создает парадигматику синтаксических конструкций со значением обусловленности. Если при выражении конкретных модальных значений человек «подстраивается» языковую данность, используя возможности языковых средств, то при создании речевых произведений, отражающих сугубо личный взгляд на мир, человек конструирует свою модель мира, сообразно с целью высказывания выстраивая модальные планы и отношения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Исследование двух функционально-семантических категорий — обусловленности и модальности — на материале памятников письменности XI — XIV вв. позволило решить исследовательские задачи, поставленные нами, выявить направления семантических линий синтаксического значения обусловленности в области действия категории модальности и обогатить представления о формировании и функционировании сложных конструкций со значением обусловленности.
Исторический отрезок, выбранный нами, представляет собой иллюстративный материал для выявления тенденций образования «поверхностных» структур сложного предложения. Как выяснилось, в этом процессе наряду со всеми системными перестройками важную роль играла категория модальности, которая, как известно, служит своеобразным мостиком между человеком и языком, вследствие чего буквально пронизывает все уровни языковой системы. Указанная специфика категории определяет тот факт, что модальность так же панхронична, как и язык человека. Особую сложность представляет данная проблема в приложении ее к историческим процессам в области синтаксиса сложного предложения с неравноправными отношениями между частями. Универсальная характеристика зависимости отражает главную гносеологическую установку человеческого мышления: как и почему одно явление определяет, объясняет другое. Как было показано, такие отношения реализуются посредством синтаксических конструкций со значением обусловленности. Следовательно, модальность, «представляя» человека в языке, входит в саму «плоть» сложного предложения, являясь важным элементом его структурной схемы. В некотором смысле все эти рассуждения послужили теоретической преамбулой к первой главе.
Определенное структурно-семантическое единство сложных предложений с отношениями причины, условия, следствия, цели, уступки позволило принять точку зрения лингвистов, рассматривающих указанные конструкции в комплексе, как единую лингвистическую группу, объект. Тем более такой взгляд оказывается приемлемым в диахронической плоскости языка, характеризующейся большей долей, в сравнении с современным языком, семантической имплицитности на синтаксическом уровне, что выражалось в слабой системной структурированности синтаксических значений и, как следствие, семантической неоднозначности синтаксических конструкций. Такое положение определило необходимость обращения к уровню текста в ходе исследования.
Лингвистическая целостность и учет системных отношений сложного предложения и текста позволили представить общее синтаксическое значение обусловленности как комплекс частных вариантов: причины, условия, следствия, цели, уступки. Следствием такого прочтения явилось обнаружение определенных единых текстовых отрывков, характеризующихся распределением почти всех значений обусловленности по модальным уровням конструкции. В результате анализа подобных структур выяснилась особая, модальнообразующая роль контекста.
Применение в процессе исследования основных положений теории оценочности позволило выстроить соответствующую шкалу, основанием которой послужило семантическое наполнение основной категории оценки — нормы. Для конструкций со значением обусловленности в качестве нормы мы принимает значение закона, учитывая разницу между понятиями закона в научном мышлении и обыденном. Для указанных конструкций релевантным оказывается значение закона обыденного мышления. С этих позиций наиболее «положительной» оказывается причинно-следственная связь, эксплицируемая в основном конструкциями со значением причинности. Признак «законности» относит нас к идее времени. Именно семантика пространственно линейной и последовательной во временном отношении связи явлений считается той точкой соприкосновения человека и времени, которая порождает концептуальное представление об обусловленности и создает положительную «коннотацию» причинно-следственных отношений.
Однако совершенно особое место условных конструкций в макроструктуре обусловленности заставляет нас обратить наиболее пристальное внимание именно к этому типу предложений. Специфика условных предложений заключается, на наш взгляд, в наличии у таких структур альтернативного начала, благодаря которому условная семантика более «объемно» представляет ситуацию, чем остальные типы отношений. Условные конструкции всегда имплицируют альтернативную оппозитивную пару, которая так или иначе репрезентуется в семантической структуре предложения. Конкретная реализация выбора формирует модальные соотношения значений. Так, условная конструкция способна участвовать в выражении как объективных модальных значений, так и субъективных, причем больший удельный вес относится к сфере выражения различных значений, порождаемых конкретным коммуникативным актом.
Эмпирическая часть исследования показала, что пропозитивная основа сложных синтаксических конструкций испытывает на себе сильное влияние прагматического аспекта высказываний. Исследование категории обусловленности в свете модальности позволило наметить основные линии разграничения объективной и субъективной модальности. Эти разграничения в условиях обусловленных конструкций отражают смысловой объем пресуппозиций объективного и субъективного плана. Так, к объективным пресуппозициям относятся явления социального характера: установленные нормы поведения, меры наказания за отступления от этих норм, общие мировоззренческие установки и т. д. Сферу субъективных пресуппозиций составляют, как правило, личные интенции говорящих, их отношение к нормам жизни, личный опыт, и, собственно, прагматика высказывания.
Интересом к прагматической оценке высказывания обусловливается наше обращение к прагматической модальности, которая, как и все семантические категории, возможно представить в виде функционально-семантического поля.
Функционально-семантическое поле модальности обусловленных конструкций имеет традиционную структуру: центральный компонент (ядро), состоящий из некоторого числа ярусов, зона ближней периферии, дальней и интерферентные зоны пересечения с другими семантическими категориями. Так, применительно к конструкциям обусловленности можно описать следующую схему распределения модально-семантических значений.
Ядерный компонент в нашей структуре занимают конструкции, имеющие формы сослагательного наклонения предикатов. Такое положение определено сильным модальным влиянием конситуации. Здесь репрезентуется модальность волеизъявления с «сильными» эмоциональными оттенками, как-то: угроза, разочарование, предупреждение об опасности неизбежность и т. д.
Ближнюю периферию заполняют конструкции, характеризующиеся модальным доминированием желательности. Сюда относятся предложения со значением причины, цели, условия.
Пограничной между сферами повышенной оценочности и пониженной является модальная сфера долженствования. Указанный модальный оттенок характеризует сравнительно большую часть конструкций, почти равномерно распределяющихся по субъективной и объективной областям модальности. Сюда относятся сложноподчиненные предложения с придаточными условия, следствия, уступки.
Частное значение возможности в его «чистом» виде характеризует конструкции, располагающиеся в плоскости объективной модальности. Поэтому дальняя периферия субъективной модальности пространственно ближе к центру объективной модальности. Однако прагматические установки говорящего «адаптируют» основной модальный план для выражения субъективных признаков ситуации. Так, выделяются сложноподчиненные предложения, отражающие объективную возможность связи двух явлений, и возможность, мысленно устанавливаемую говорящим.
Особые сферы распределения модальных значений представляют интерферентные зоны пересечения субъективной и объективной модальности. Такими зонами мы определили две зоны: с интегрирующим субъективным планом и объективным. Так, под влиянием коммуникативных интересов говорящего конструкция одного синтаксического значения может выражать значения других синтаксических конструкций. Сильнейшим фактором формирования субъективности является категория оценочности. Наиболее яркие примеры совмещенных синтаксических значений представляют конструкции условно-причинной семантики, конструкции, эксплицирующие альтернативу.
Модальная зона, интегрирующим началом которой является объективная модальность, состоит в основном из конструкций, отмеченных модальностью долженствования. Такую семантику выражают условно-временные конструкции, причинные, причинно-дополнительные И Др.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо признать, что изучение синтаксических конструкций обусловленности в модальном плане имеет важное значение для уточнения содержания функционально-семантической категории модальности в диахроническом разрезе, а также для выяснения факторов, влияющих на формирование сложного предложения. Конструкции со значением обусловленности, являющиеся уникальным средством выражения модальности, заслуживают дальнейшего их изучения, так как позволяют расширить представление о системе функционально-семантических отношений категории модальности и обусловленности на протяжении истории русского языка. Затронутый в работе круг проблем имеет также выход на теорию синтаксиса текста, теорию семантических пресуппозиций, концептологию, философию языка. Анализ конструкций с отношениями обусловленности в модальном контексте дает возможность разрешить отдельные проблемы описания синтаксических единиц языка, исследование которых применено в данной работе в хронологических рамках одного из наиболее значимых периодов истории русского языкадревнерусского периода XI — XIV вв.
Список литературы
- Абрамов Б.А. Номинационный и коммуникативно-прагматический потенциалы лексико-структурной основы предложения // Язык как коммуникативная деятельность человека. М., 1987. Вып.284.
- Августин. Исповедь // Августин. Творения об истинной религии. СПб., УЦИММ-Пресс Киев: Алетейа, 1998. T.I.
- Адамец П. Образование предложений из пропозиций. Praha, 1978.
- Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956.
- Алимпиева Р.В. Сложноподчиненные предложения в Ипатьевском списке летописи. Дис. канд. филол. наук. Куйбышев, 1953.
- Апресян Ю.Д. Синтаксис и семантика в синтаксическом описании // Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М.: Наука, 1969.
- Аристотель Физика // Аристотель. Соч. в 4-х т. М.: Мысль, 1981. Т. III.
- Арутюнова Н.Д. Понятие пропозиции в логике и лингвистике // Изв. АН СССР. Сер. лит. и язв. 1976а. № 1. Т. 35.
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М.: Наука, 19 766.
- Арутюнова Н.Д. Синтаксис // Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М.: Наука, 1972.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт.1. М.: Наука, 1988.
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.:
- Изд-во лит. на иностр. яз., 1955.
- Беличова-Кржижкова Е. О модальности предложений в русском языке // Актуальные проблемы русского синтаксиса. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
- Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа, 1977.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Богданов В.В. Актанты и сирконстанты // Проблемы членов предложения в индоевропейских языках. Грозный, 1978.
- Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. Л.: Наука, 1977.
- Бондаренко В.М. Виды модальных значений и их выражение в языке: Дис. канд. филол. наук. М., 1977.
- Бондарко А.В. Введение. Основание функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л.: Наука, 1987.
- Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб.: Изд-во СпбГУ, 1996.
- Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л.: Наука, 1984.
- Бондарко А.В. Функциональное направление грамматических исследований и проблемы модальности // Императив вразноструктурных языках: Тезисы докл. конф. «Функционально-типологическое направление в грамматике. Повелительность». JL: Наука, 1988.
- Борковский В.И. Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. М.: Наука, 1968.
- Борковский В.И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М. Наука, 1965.
- Бронзова Л.И. Синтаксические конструкции уступительного значения как средства выражения антилогизмов (на материале английского и русского зыков). Автореф. канд. дис. М., 1994.
- Бронникова Н.В., Левицкий Ю. А. Артикль: семантика и функционирование. М.: Наука, 1986.
- Бунге М. Причинность. Место принципа причинности в современной науке. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
- Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М.: Учпедгиз, 1959.
- Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М.: Высшая школа, 1978.
- Васильев JLM. Модальные слова в их отношении к структуре предложения // Учен. зап. Башкирск. ун-та. 1973.
- Ваулина С.С. Эволюция средств выражения модальности в русском языке. (XI — XVII вв.). Дис. докт. филол. наук. Калининград, 1990.
- Ваулина С.С. Эволюция средств выражения модальности в русском языке (XI — XIV вв.). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988.
- Визгина A.M. Модальность неместоименных общевопросительных предложений в диалогической речи. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1973.
- Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Труды Института русского языка. Т. 2. М., 1950.
- Виноградов В.В. Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» Академии наук СССР // В. В. Виноградов. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
- Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.: Высшая школа, 1986.
- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985.
- Гак В.Г. К проблеме синтаксической семантики (семантическая интерпретация «глубинных» и «поверхностных» структур) //
- Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969.
- Гак В.Г. О категориях модуса предложения // Предложение и текст в семантическом аспекте. Калинин, 1978.
- Гак В. Г. Структурная и семантическая деривация конструкций с предикатными актантами // Типология конструкций с предикатными актантами. JL: Наука, 1985.
- Гармаш С.В. Пресуппозиционная обусловленность сложных предложений с причинно-следственным значением в современном русском языке. Дис. канд. филол. наук. Таганрог, 1998.
- Георгиева B.JI. История синтаксических явлений русского языка.1. М., 1968.
- ГлинкинаЛ.А. О структурно-семантической соотносительностинесоотносительности бессоюзных и союзных предложений в языкедревнерусских памятников письменности XVI — XVII вв. // Проблемыистории и диалектологии славянских языков. М.: Наука, 1971.
- Гомальд. Язык, опыт анализа мексиканского языка. — Цит. по: Наука. Философия. Религия. Дубна, 1997.
- Грепл М. О сущности модальности // Языкознание в Чехословакии. М.: Прогресс, 1978.
- Гукова Л.Н. Усложненные предложения со ступенчатым подчинением в русской деловой письменности XYII в. Автореф. дис. канд. филол. наук. Ростов н/Дону, 1969.
- Гулыга Е.В. Место сложноподчиненного предложения в синтаксисе // Филолог, науки. 1961. № 3.
- Гулыга Е.В. Модальность сложноподчиненного предложения // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, т. 141, вып. 1, каф. нем. яз. М., 1959.
- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Наука, 1984.
- Дресслер В. Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1988. Вып. 8.
- Евтюхин В.Б. Категория обусловленности в современном русском языке. Автореф. дис. докт. филол. наук. СПб., 1995.
- Емец Т.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными условными как формы выражения логических умозаключений (на материале немецкого и русского языков). Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1996.
- Ерхов В.Н. Текст и предложение. К определению статуса лингвистических объектов // Синтаксическая семантика и прагматика: Сб. науч. тр. Калинин: Изд-во Калининск. ун-та, 1982.
- Жданов Д.А. Возникновение абстрактного мышления. Харьков: Изд-во Харьковск. ун-та, 1969.
- Завгородняя Е.В. Структурно-семантические особенности условныхконструкций на различных ярусах синтаксиса современного русскогоязыка. Дис. канд. филол. наук. Ставрополь, 2000.
- Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка.1. М.: Наука, 1973.
- Золотова Г. А. Роль ремы в организации и типологии текста //
- Синтаксис текста. М.: Наука, 1979.
- Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. М.: Высшаяшкола, 1983.
- Ильинская И.В. Функционально-грамматические показатели членения старорусского письменного текста (на материале статейных списков XVI в.). Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1978.
- Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение. М.: Наука, 1979.
- Истрина Е.С. Синтаксические явления Синодального списка 1-ой Новгородской летописи. Пг., 1923.
- Казанская И.В. Синтаксические конструкции с причинными союзами как средство выражения логических силлогизмов (на материале русского языка). Авторефдис. канд. филол. наук. М., 1991.
- Калинская Н.В. Выражение модальной оценки обычности высказывания. Дис. канд. филол. наук. М., 1988.
- Калюга М.А. Выражение отношений причинности в тексте. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1986.
- Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. JL: Наука, 1972.
- Кершиене Р.Б., Морозова С. Е., Преображенская М. Н. Особенности организации сложных синтаксических конструкций в текстах древнерусских и старорусских памятников XI XVII вв. // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1983. № 1.
- Клике Ф. Пробуждающееся мышление: У истоков человеческого интеллекта. М.: Прогресс, 1983.
- Клобуков Е.В. К основаниям семантической типологии каузальных конструкций (аспекты соотношения диктума и модуса) // Системныйанализ значимых единиц русского языка: Сб. науч. тр. Красноярск: Изд-во Красноярск, ун-та, 1984.
- Кожевникова К.С. Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста. М.: Наука, 1979.
- Колобкова JI.B. Средства выражения модального значения волеизъявления в русском языке XVII — начала XVIII вв. Дис. канд. филол. наук. Тверь, 1995.
- Колшанский Г. В. Лингво-гносеологические основы языковой номинации // Языковая номинация: Общие вопросы. М.: Наука, 1977.
- Колшанский Г. В. Логика и структура языка. М.: Наука, 1965.
- Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М.: Наука, 1975.
- Копейкин К.В. Физика на рубеже метафизики // Наука. Философия. Религия. Дубна, 1997.
- Корнева В.В. Временная и аспектуальная характеристика сложноподчиненного предложения с придаточным следствия. Автореф. дис. канд. филол. наук. Воронеж, 1984.
- Корш Ф.Е. Способы относительного подчинения. М. Наука, 1977.
- Котвицкая Э.С. Типовая ситуация, отражающая причинно-следственные отношения, как содержательная единица языка: (и ее речевые реализации). Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1990.
- Кочеткова О.Л. Средства выражения модальных значений возможности и необходимости в русском языке второй половины XVII — начала XVIII вв. Дис. канд. филол. наук. Калининград, 1998.
- Крылова О.А., Максимов Л. Ю., Ширяев Е. Н. Современный русский язык. Теоретический курс. Синтаксис и пунктуация. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 1997.
- Крючкова С.Е., Максимова Л. Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения. М.: Прсвещение, 1977.
- Кузнецова Р.Д. Исторические изменения в сложноподчиненном предложении. Калинин: Изд-во Калининск. ун-та, 1983.
- Кукса И.Ю. Средства выражения побудительной модальности в русском языке XI — XIV вв. Дис. канд. филол. наук. Калининград, 1997.
- Лавров Б.В. Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. М., 1941.
- Леденев Ю.И. Неполнозначные слова как средства оформления синтаксических конструкций, связей и отношений // Неполнозначные слова как средства оформления в синтаксисе: Сб. науч. тр. Ставрополь: Изд-во Ставропольск. ун-та, 1988.
- Леденев Ю.Ю. Структурно-семантические особенности каузативных детерминантных конструкций в синтаксисе современного русского языка. Дис. канд. филол. наук. Ставрополь, 1996.
- Ломов A.M. Части речи в их отношении к предложению // Семантические категории языка и методы из изучения: Тезисы докл. Всесоюзн. науч. конф. Ч. I. Уфа, 1985.
- Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка.
- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956.
- Лотман Ю.В. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
- Ляпон М. В. Смысловая структура сложного предложения. Ктипологии внутритекстовых отношений. М.: Наука, 1986.
- Маркелова Т.В. Взаимодействие оценочных и модальных значений в русском языке // Филологические науки. 1996. № 1.
- Марков Ю.Г. Функциональный подход и современная наука // Вопросы философии. 1981. № 8.
- Маркова З.М. Семантико-синтаксическая характеристика местоименных производных в языке памятников XV — XVII вв. Автореф. канд. дис. Л., 1984.
- Мартыненко В.В. Модально-временная организация предложений в текстах советского конституционного законодательства. Дис. канд. филол. наук. Киев, 1988.
- Мельничук А.С. Развитие структуры славянского предложения. Автореф. дис. докт. филол. наук. Киев, 1964.
- Мецлер А.А. О лингвистическом статусе категории модальности // Филологические науки. 1982. № 4. С. 66 — 72.
- Мигирин В.Н. Эволюция придаточного и разные виды трансформации главного и придаточного предложений в русском языке. Автореф. дис. докт. филол. наук. Симферополь, 1955.
- Мишланов В.А. Русское сложное предложение в свете динамического синтаксиса. Дис. докт. филол. наук. Пермь, 1996а.
- Мишланов В.А. Семантика и структура русского сложного предложения в свете динамического синтаксиса. Пермь, 19 966.
- Молчанов Ю.Б. // Вопросы философии. 1998. N8.
- Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса (на материале немецкого языка). М.: Высшая школа, 1981.
- Мякотина В.М. Модальная характеристика высказываний с видо-временными формами изъяснительного наклонения в современном русском языке. Автореф. дис. канд. филол. наук. JI., 1982.
- Назаретский В.В. К истории Сложноподчиненного предложения в древнерусском языке. Енисейск, 1960.
- Налетов И.З. Причинность и теория познания. Философия и естествознание. М.: Мысль, 1975.
- Нечай Ю.П. Языковые средства выражения модальных отношений в предложении. Дис. канд. филол. наук. Краснодар, 1993.
- Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. М.: Высшая шклоа, 1988.
- Николаева И.В. Структурно-семантическая характеристика включенных предикативных единиц в современном французском языке. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1986.
- Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков) // М.: Наука, 1985.
- Одри Ж. Индоевропейский язык // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1988. Вып. XXI.
- Оськина И.В. Функции причинных союзов в построении силлогических умозаключений (на материале английского и русского языков). Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1992.
- Панкрац Ю.Г. Пропозициональные структуры и их роль в формировании языковых единиц разных уровней. Минск- Москва, 1992.
- Паньков А.Ф. Теория развития систем и системная теория логики. Пермь, 1993.
- Парамонов Д.А. Особенности грамматического выражения модальности в русском языке. Дис. канд. филол. наук. М., 1998.
- Парменова Т.В. Функционирование сослагательного наклонения в современном русском языке. Дис. канд. филол. наук. Л., 1975.
- Перцева Н.К. Типы аспектно-темпоральных и модальных значений в инфинитивных предложениях и характер отношений между ними. Дис. канд. филол. наук. Л., 1987.
- Петрекеева А.П. Модальная перспектива в побудительных предложениях. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1988.
- Петров Н.Е. О содержании и объеме языковой модальности. Новосибирск: Наука, 1982.
- Пиаже Ж. Избранные психологические произведения. М., 1969.
- Подольный Р.Г. Освоение времени. М.: Изд-во полит, лит-ры, 1989.
- Попова З.Д. Об изучении сложных предложений старорусского языка. //Восточные славяне. Языки. История. Культура. М., 1985
- Поспелов Н.С. О грамматической природе сложного предложения // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1950.
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. IV. M.-JL: Учпедгиз, 1941.
- Потебня А.А. Мысль и язык. Киев, 1993.
- Преображенская М.Н. Служебные средства в истории синтаксического строя русского языка XI — XVII вв. М.: Наука, 1991.
- Припадчев А.А. Иерархическая организация синтаксической системы древнерусского книжного языка XI — XIII вв. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1986.
- Прохорова С.М. Еще раз о языковой непрерывности. Минск: Изд-во БГУ, 1999.
- Распопов И.П. Очерки по теории синтаксиса. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1973.
- Распопов И.П. Спорные вопросы синтаксиса. Ростов-на/Д.: Изд-во Ростовск. ун-та, 1981.
- Ринберг В.JI. Древнерусские сложные конструкции и и их современные параллели. К., 1975.
- Ринберг В.Л. Конструкции связного текста в истории русского языка. Автореф. дис. докт. филол. наук. М., 1981.
- Русинов Н.Д. Древнерусский язык. М.: Высшая школа, 1977
- Русская грамматика: В 2-х т. Praha., 1979. Т. II.
- Русская грамматика: В 2-х т. М.: Наука, 1980. Т. И. Синтаксис.
- Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс русистов-исследователей. Москва, МГУ, 13 16 марта, 2001 г. Труды и материалы. Под общ. ред. М. Л. Ремневой и А. А. Поликарповой. Изд-во Моск. ун-та, 2001.
- Рыбаков Б.А. Сказания, былины, летописи. М. Наука, 1963.
- Рылов С.А. Синтаксическая организация древнерусской речи. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 1990.
- Санников В.З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М.: Наука, 1989.
- Сидоренко Е.А. Логическое следствие и условные высказывания. М.: Наука, 1983.
- Скиба Ю.Г. союзы как средства оформления паратаксиса и гипотаксиса // Неполнозначные слова как средства оформления в синтаксисе. Ставрополь, 1988.
- Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1984.
- Соколова М.А. О некоторых морфологических и синтаксических данных русского языка начального периода формирования русской нации // Начальный этап формирования русского национального языка. JL: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961.
- Стеценко А.Н. Сложноподчиненные предложения в русском языке XIV — XVI вв. Томск, 1960.
- Структура предложения в истории восточнославянских языков. 1983.
- Суворова Н.А. Фразеологизмы как экспликаторы модального значения возможности в русском языке второй половины XVII -начала XVIII. Дис. канд. филол. наук. Калининград, 2001.
- Сумкина А.И. К истории относительного подчинения в русском языке XIII — XVII вв. // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. Т. V. 1954.
- Тарланов З.К. Становление типологии русского предложения в ее отношении к этнофилософии, Петрозаводск, 1999.
- Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб.: Наука, 1996.
- Теория фунуциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность. СПб.: Наука, 1996.
- Теремова P.M. Функции каузальных конструкций в современном русском языке // Филологические науки. 1989. № 3.
- Теремова P.M. Функционально-грамматическая типология конструкций обусловленности в современном русском языке. Дис. докт. филол. наук. Л., 1988.
- Типология условных конструкций. СПб.: Наука, 1998.
- Тихомирова Е.А. Анафорические знаки подчинения как наиболее архаический тип в сложном предложении // Средства выражения синтаксических связей в сложном предложении. Калинин: Изд-во Калининск. ун-та, 1987.
- Трестерова 3. К некоторым особенностям связности древнерусского текста и их роли в перестройке «типа» синтаксиса // Восточные славяне. Языки. История. Культура. М.: Наука, 1985.
- Федорова И.Р. Способы выражения значений ситуативной модальности в современном русском языке. Дис. канд. филол. наук. Калининград, 1997.
- Федорова М.В. Лексико-грамматические очерки по истории русских местоимений. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1965.
- Федотова Т.В. Уверенность в достоверности информации в смысловой организации русского предложения. Дис. канд. филол. наук. Красноярск, 1997.
- Филипповская И.А. Модальность предложения. Душанбе: Изд-во Таджикск. ун-та, 1978.
- Философия. М.: Прогресс, 1999.
- Хрычиков Б.В. Категория модальности, ее объем и средства выражения в современном русском языке. Автореф. дис. докт. филол. наук. Днепропетровск, 1986.
- Черных ПЛ. Историческая грамматика русского языка. М.: Наука, 1962.
- Черри К. Человек и информация. М.:Прогресс, 1972.
- Чичварина О.А. Отношения логической обусловленности в сложном предложении: способы выражения. Дис. канд. филол. наук. М., 2000.
- Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М.: Наука, 1960.
- Швырев B.C. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М.: Наука, 1978.
- Шилков Ю.М. Гносеологические основы мышления. СПб: Наука, 1992.
- Ширяев Е.Н. Некоторые аспекты семантико-синтаксической структуры сложноподчиненного предложения (обзор) II Вопросы русского языкознания. Куйбышев, 1978.
- Шмелева Т.В. Смысловая организация предложения и проблема модальности // Актуальные проблемы русского синтаксиса. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
- Штелинг Д.А. О грамматическом статусе повелительного наклонения // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41. № 3.
- Шустова Ю.В. Функционирование в тексте предложений со значением потенциальной обусловленности. Дис. канд. филол. наук. Липецк, 1999.
- Эпштейн М. Философия возможного. СПб.: Алетейя, 2001.
- Яблонский В.Ю. Семантико-семиотическая обусловленность категории модальности в прагматике языков уголовного процесса и судопроизводства. Дис. докт. филол. наук. Краснодар, 1999.
- Якубинский Л.И. История древнерусского языка. М., 1953.
- Яновская С.А. Методологические проблемы науки. М.: Наука, 1972.
- Durovic Е. Modalnost'. Lexicalno-syntakticke vyjadrovanie modalnych a hodnotiacich vzt’ahov v slovencine a rustine. Bratislava: Vyd. Slovenskej akademie vied, 1956.
- H. Hart and A. Honore. Causation in the Law. Oxford, 1959. P. 34. Цит. по И. З. Налетов. Причинность и теория познания. М.: Наука, 1975.
- J.R. Lukas. Causation in Analitical Philosophy. New York, 1962.
- Lyons J. Modality // Semantics. T.2. London, 1977. P.787 — 849.
- P. Alexander. A. Preface to the Logic of Science. London New York, 1969.
- Skorek J. Rola akcentu logicznego w zdaniu // J
- БЭС — Языкознание. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1998.
- КФЭ — Краткая философская энциклопедия. М., 1994.
- MAC — Словарь русского языка: В 4 т. М., 1981 — 1984.
- НФЭ — Новая философская энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001.
- Сл. Даля — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978 — 1980 (воспроизведение текста издания 1955 г.).
- Сл. Фасмера — Фасмер М. Р. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1964 — 1973.
- Ж. Вяч. Чеш. — Житие Вячеслава Чешского // Успенский сборник XII -XIII вв. М., 1971.
- Ж. Дм. Сол. — Житие Дмитрия Солунского // Успенский сборник XII -XIII вв. М., 1971.
- Ж. Мефод. — Житие Мефодия Моравского // Успенский сборник XII1. XIII вв. М., 1971.
- Ж. Феод. — Житие Феодосия Печерского // Успенский сборник XII — XIII вв. М., 1971.
- Изб., 73. — Изборник 1073 года. М., 1967.
- Изб., 76. — Изборник 1076 года. М., 1965.
- Муч. Христ. — Мучение святого мученика Христофора // Успенский сборник XII — XIII вв. М., 1971.
- Никон, лет., IX — XIII —Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою летописью // ПСРЛ. Т. 9 — 13. М., 1965.
- Новг. гр. — Новгородские грамоты // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.- Л., 1949.
- Новг. лет. — Новгородская первая летопись старшего и младшего извода. М.- Л., 1950.
- ПВЛ — Повесть временных лет. М.- Л., 1950.
- Поел. Вас. Новг. — Послание Василия Новгородского // Там же.
- Пек. гр. — Псковские грамоты // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.- Л., 1949.
- Син. Пат. — Синайский патерик. М., 1967.
- Флав. — Мещерский Н. А. История «Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.- Л., 1958.