Законодательство об уголовном судопроизводстве по преступлениям против советской власти и его реализация в период наиболее масштабных политических репрессий в СССР: 1934-1941 гг
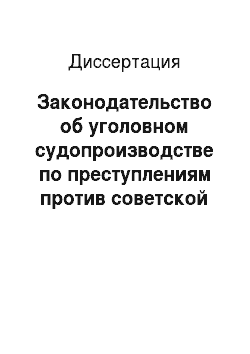
Степень разработанности темы. Вопросы, связанные с историко-юридическим анализом уголовно-политических репрессий в период 19 341 941гг., в научном плане стали изучаться лишь с конца 1980;х гг., когда в рамках политики перестройки советского руководства получил развитие принцип гласности и стали публиковаться ранее закрытые источники. Различные аспекты осуществления уголовно-политических репрессий… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. Карательная политика советского государства и ее организационно-правовое обеспечение в уголовно-политической сфере в довоенные годы
- 1. 1. Социально-правовая характеристика репрессивной деятельности советского государства в условиях укрепления культа личности Сталина
- 1. 2. Трансформация судебной системы и уголовно-процессуальное регулирование следственно-судебной деятельности по уголовно-политическим делам
- 1. 3. Нормативно-правовая база осуществления внесудебных политических репрессий органами НКВД
- ГЛАВА 2. Особенности применения уголовно-процессуального законодательства при подготовке и проведении наиболее характерных политических процессов
- 2. 1. Уголовно-политические дела, возникшие непосредственно в связи с убийством Кирова (конец 1934 — начало 1935 гг.)
- 2. 2. Политические процессы по делам «антисоветской троцкистской» направленности (1936−1938 гг.)
- 2. 3. Дело академика Вавилова (1941 г.)
Законодательство об уголовном судопроизводстве по преступлениям против советской власти и его реализация в период наиболее масштабных политических репрессий в СССР: 1934-1941 гг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
диссертационного исследования. Политические репрессии 1930;х гг. XX века по-прежнему остаются объектом внимания исследователей как у нас в стране, так и за рубежом и являются одним из предметов дискуссий в современной историко-правовой науке. Проблемы изучения политических репрессий получили особую актуальность в связи с изменениями, которые происходят в российском обществе в последние годы. Вопрос об эффективности и правомерности применения принуждения, в том числе репрессий, при разрешении социальных, национальных, этнических конфликтов и возможности их использования в рамках процесса построения правового государства подразумевает достаточно точное знание сущности и особенностей правового механизма применения подобных мер. И в этом смысле очень важно изучить и знать исторический опыт применения мер уголовной репрессии по преступлениям против государства, учитывая, что этот опыт в нашей стране чрезвычайно сложный, противоречивый и во многом негативный. Это особенно относится к временному отрезку 1934;1941гг., когда имели место наиболее масштабные уголовно-политические репрессии. Вместе с тем в многочисленных публикациях, касающихся этого периода «большого террора», речь идет преимущественно о репрессивной деятельности органов НКВД, а вопросы освещаются в основном с политологических позиций, в частности, акцентируется внимание на фальсификации обвинений в процессах по делам о «врагах народах», жестких приговорах, организации «всеобщей» их поддержки со стороны «широких слоев трудящихся» и т. д. Все это действительно имело место, и в целом историко-правовая наука уже дала оценку данным явлениям. Вместе с тем изучение столь сложных процессов в деятельности карательного механизма советского государства предполагает обращение к правовой стороне осуществления репрессий — этому аспекту уделяется явно недостаточное внимание. Так, важным представляется вопрос о соотношении содержания уголовно-процессуального законодательства, которое в своей основе соответствовало общепризнанным судопроизводственным принципам, и фактической его реализацией. Недостаточно изучена и нормативно-иравовая база внесудебных репрессий органами НКВД. В литературе нередко дело представляется так, что «органы» творили полный произвол. Однако ситуация здесь сложнее — «органы» по сути действительно часто творили произвол, но при этом в своих обвинительных заключениях они ссылались на действующее законодательство, ведомственные нормативно-правовые акты, то есть облекали заведомо несуществующие обвинения в необходимую правовую форму. Важно выяснить механизм этого процесса. Нельзя забывать также, что в большинстве своем обвиняемые и подсудимые признавались в деяниях против государства, ставили свои подписи под признательными протоколами допросов — соответственно требуют дополнительного выяснения методы проведения допросов следователями НКВД, посредством которых обвиняемые оговаривали себя и других. Представляется также важным изучить практику реализации норм уголовно-процессуального права применительно к конкретным уголовно-политическим процессам, и прежде всего связанным с убийством Кирова 1 декабря 1934 г., после чего интенсивность репрессий значительно возросла. Наличие этих и других историко-правовых проблем осуществления репрессий в 1934;1941 гг. диктует необходимость дальнейшего изучения правового механизма политических репрессий в указанный период и актуализирует значимость его научного анализа.
Степень разработанности темы. Вопросы, связанные с историко-юридическим анализом уголовно-политических репрессий в период 19 341 941гг., в научном плане стали изучаться лишь с конца 1980;х гг., когда в рамках политики перестройки советского руководства получил развитие принцип гласности и стали публиковаться ранее закрытые источники. Различные аспекты осуществления уголовно-политических репрессий в указанный период исследовали такие авторы, как Буков В. А., Волкогонов Д. А., Викторов Б. А., Гринберг М. С., Детков М. Г., Докучаев Е. С. Дугин А.Н., Жильцов C.B., Жуков Ю. С., Звягинцев А., Зеленин И. Е., Земсков В. Н., Иванов В. А., Кириллина А., Курицын В. М., Литвин A.JI., Мулукаев P.C., Медведев P.A., Мельгунов С. П., Мозохин О. Б., Поповский М. А., Рассказов Л. П., Роговин В. З., Смыкалин A.C., Соломона П., Яковлев А. Н и др. Данная проблематика нашла также отражение в ряде диссертационных работ, среди которых можно отметить следующие: Баранцева Е. Л. Организационно-правовые основы и механизм политики репрессий в Вятском крае (но-ябрь1917;декабрь1934 года). Дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005; Губжокова Л. А. Уголовно-политические процессы в период укрепления административно-командной системы советского государства (1929;1934 гг.). Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2007; Дьяченко О. В. Органы государственной безопасности в реализации пенитенциарной политики советского государства (1917;1941 гг.) (историко-правовой аспект). Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2002; Дэр H.H. Прокурорский надзор за законностью в системе органов государственного управления СССР (1922;1940 гг.): историко-правовое исследование. Дис .канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005; Кулиш М. В. Чрезвычайное законодательство в советском государстве (19 171 941 гг.). Дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2005; Петров А. Г. Реабилитация жертв политических репрессий (историко-правовой анализ). Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006; Рассказов Л. П. ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД в механизме формирования и функционирования политической системы советского общества (1917;1941). Дис.. д-ра юрид. наук. СПб., 1995; Романовская В. Б. Репрессивные органы и общественное правосознание в России XX в. (опыт философско-правового исследования). Дис.. д-ра юрид. наук. СПб., 1997; Старков Б. А. Утверждение режима личной власти И. В. Сталина и сопротивление в партии и государстве (итоги и уроки политической борьбы в 30-е годы). Дис.. докт. ист. наук. СПб., 1992; Усенко А. Н. Массовые политические репрессии 1930;х годов на Дону. Дис.. канд. ист.наук. Ростов-на-Дону, 2006 и др. Помимо этого издано большое количество публицистической литературы и воспоминаний, которые вызвали определенный резонанс в обществе, поскольку впервые открыто были затронуты весьма болезненные стороны советской истории довоенного времени (работы Альбац Е., Солженицына А. И., Ваксберга А., Восленского М., Орлова А., Кара-Мурзы С.Г., Конквеста Р., Маслова В., Чистякова Н., Рослякова М. В., Су-доплатова П.А., Эренбурга И., Шмелева Г. И. и др.). Однако юридические аспекты осуществления дознавательно-следственной и судебной деятельности по делам о преступлениях против государственных интересов в период 19 341 941 гг. еще не стали предметом специального монографического исследования. В данной работе предпринята попытка некоторым образом восполнить этот пробел.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 1934 г. и до начала Великой Отечественной войны. Отправной точкой является 1 декабря 1934 г., когда был убит Киров и принят закон, в соответствии с которым при судопроизводственной деятельности по преступлениям в виде террористических актов игнорировались фундаментальные принципы уголовно-процессуального нрава, после чего интенсивность уголовно-политических репрессий стала заметно усиливаться, достигнув пика в 1937 г. Верхний рубеж хронологических рамок (июнь 1941 г.) обусловлен тем, что в условиях военного времени характер осуществления судопроизводства был существенно изменен. Такой выбор временного периода (1934;1941 гг.) объясняется также тем, что в указанные годы были окончательно уничтожены представители старой большевистской гвардии, находившиеся в СССР, и которые, по мнению Сталина и его окружения, представляли опасность с точки зрения возможного захвата власти. В это время окончательно был закреплен культ личности Сталина. В совокупности с правоприменительной практикой все это позволяет составить целостную картину историко-правового развития уголовно-политического судопроизводства, но делам о государственных преступлениях в период наиболее масштабных репрессий.
Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникали и развивались в связи с совершением деяний, формально квалифицируемых как контрреволюционные преступления, в период наиболее массовых политических репрессий в СССР (1934;1941 гг.). В предмет исследования включены нормы уголовно-процессуального права, нормы административного права, регламентирующие деятельность органов государственной безопасности, прокуратуры, деятельность судов, а также научные труды, посвященные данной проблематике, материалы политических процессов по конкретным уголовным делам (дело «ленинградского центра», дело «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы Сафарова, За-луцкого и других», дело «московского центра», дело «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», «антисоветской троцкистской военной организации в Красной Армии», дело «параллельного антисоветского троцкистского центра», дело «антисоветского правотроцкистского блока» и др.).
Методологическая основа исследования базируется на основных положениях теории научного познания и принципах исторического анализа: объективность, историзм, единство исторического и логического, абстрактного и конкретного, общего и особенного, единичного и уникального. В процессе исследования использовались специальные методы — хронологический, сравнительно-правовой, системный, юридико-категориальный, структурнофункциональный, статистически-правовой и др. Источники исследования включают в себя опубликованные нормативные правовые акты, иные документы партийных и государственных органовсборники документальных материалов, статистические данные, справочные изданиянеопубликованные архивные материалыа также периодическую печать. В диссертации были использованы сборники опубликованных документов Советского государства, содержащие законы, декреты, постановления, распоряжения, приказы партийно-государственных и репрессивно-карательных органов. В них закреплялись политический курс правящего режима, механизмы борьбы власти с политическими противниками, регулирования репрессивных процессов в стране. Специфика темы исследования предопределяет определенную возможность использования публицистики, воспоминаний, автобиографий, так как произведения этих жанров в СССР на рубеже 1990 г. стали по сути первыми открытыми правдивыми публикациями в сложном периоде политических репрессий. Справочники, энциклопедические словари, библиографические указатели, использованные в диссертации, способствовали уточнению общих и частных вопросов, связанных с темой исследования. Неопубликованные сведения и материалы обнаружены в различных архивохранилищах Российской Федерации. В фондах Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) находится большое количество документов, которые помогли в изучении политических, законодательных, социально-экономических и других аспектов политических репрессий. Актуальным для данного исследования представляется прежде всего Ф. 17 -«Центральный Комитет ВКП (б)», учитывая, что все важнейшие решения государственных органов предварительно решались в партийных структурах. Значительное количество необходимых сведений извлечено из ряда фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). В работе использован также ряд материалов из Архива Президента Российской Федерации (АП РФ) и некоторых региональных архивов. Определенные сложности имелись с доступом в архивы органов государственной безопасности, в связи с чем автор использовал ряд документов из этого архива, которые были опубликованы ранее авторами, имевших возможность исследовать такого рода документа (прежде всего это работы Л. П. Рассказова, М.А. Поповского). В целом комплекс привлеченных источников помог осуществить сравнительный анализ законодательной основы политики репрессий и практики применения репрессий в 1934;1941 гг.
Целью исследования является анализ законодательной основы деятельности дознавательных, следственных, судебных органов и органов государственной безопасности по делам о преступлениях против государства в период наиболее массовых репрессий (1934;1941 гг.) и практики его применения по конкретных уголовным делам.
Поставленная цель предопределила следующие задачи:
— дать социально-правовую характеристику репрессивной деятельности советского государства в условиях укрепления культа личности Сталина;
— выявить особенности трансформации судебной системы в рассматриваемый период и роль судов разных уровней в рассмотрении дел о преступлениях против государства;
— раскрыть содержание уголовно-процессуального регулирования следственно-судебной деятельности по уголовно-политическим делам;
— проанализировать нормативно-правовую базу осуществления внесудебных политических репрессий органами НКВД;
— исследовать практику применения уголовно-процессуального законодательства при подготовке и проведении наиболее характерных политических процессов;
— выявить основные тенденции в развитии организационно-правовых основ уголовно-политических репрессий в рассматриваемый период.
Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что в данной работе на комплексном монографическом уровне изучена проблематика, связанная с юридической стороной проведения репрессий в период 1934;1941 гг., что в правовой науке еще не было предметом специального исследования. В диссертации выявлены тенденции развития уголовно-процессуального права в период наиболее массовых уголовно-политических репрессий. Проведен анализ основных стадий следственной и судебной деятельности по делам о т.н. «контрреволюционных» преступлениях, в том числе показан механизм получения от обвиняемых и подсудимых признательных показаний. Систематизирована нормативно-правовая база репрессивной деятельности органов государственной безопасности. Проведено сопоставление содержания уголовно-процессуальных норм, регулирующих судопроизводство по делам о преступлениях против советской власти, и практики их применения на примере конкретных политических процессов.
В результате проведенного исследования разработаны следующие основные положения, выносимые автором на защиту:
1. Уголовно-политические репрессии в 1934;1941 гг. обуславливались избранной стратегией правящей элиты во главе со Сталиным в методах достижения поставленной цели социалистического строительства, предусматривающих жесткое подавление противников власти, включая их физическое уничтожение, невзирая на моральные запреты. Данная стратегия поощрялась и закреплялась Сталиным, культ личности которого окончательно сложился во второй половине 1930;х гг. вместе с истреблением видных представителей революционного движения, бывших соратников вождя, в которых он усматривал возможных конкурентов для своего личного положения на вершине власти. При этом репрессии в большинстве своем осуществлялись со ссылками на действующие законы, что создавало правдоподобность совершаемых преступлений, и в этом находила отражение чрезвычайная противоречивость складывающихся в СССР общественных отношений в сфере уголовно-политического судопроизводства.
2. Функционировавшая в рассматриваемый период судебная система и соответствующее уголовно-процессуальное законодательство, взятые сами по себе, в своей основе отвечали общепринятым принципам ведения следственно-судебной деятельности, наиболее важные из них были закреплены на конституционном уровне. Однако конституционные положения, касающиеся основ государственного строя и правового статуса гражданина, во многом оставались на бумаге, в частности, это касается принципа народовластия, гарантий прав личности в уголовно-процессуальной сфере (например, несмотря на провозглашенное Конституцией СССР 1936 г. права обвиняемого на защиту, адвокат так и не получил доступа на стадию предварительного расследования). Не соблюдались на практике и многие нормы УПК РСФСР, в частности, обвиняемые не имели возможности дополнять протоколы допросов, знакомиться с материалами дела, следователи использовали недозволенные приемы и др. Кроме того, в уголовно-процессуальной сфере принимались нормы, противоречащие фундаментальным принципам права (в широком его понимании), которые позволяли осуществлять уголовное судопроизводство в обход общим положениям уголовного процесса, и чаще всего именно на основании этих норм осуществлялись репрессии. Наиболее наглядно это выразилось в законе об упрощенном производстве по делам о террористических организациях и террористических актах от 1 декабря 1934 г., согласно которому обвиняемые в терактах лишались элементарных процессуальных прав и который как инструмент для расправы над политическими противниками, в отношении которых общепринятая процедура согласно УПК РСФСР не позволяла достигнуть быстрого и нужного (как правило, расстрела) результата. В стране была создана ситуация, когда следственные органы и суды по преступлениям против государства вопреки провозглашенным принципам и соответствующим правовым нормам представляли собой лишь звенья репрессивного механизма, посредством которого Сталин и его окружение уничтожали своих онпонентов и добивались реализации той политики, которую они считали нужным проводить.
3. Характерной чертой репрессивной деятельности государства в довоенный период было наличие системы коллегиальных внесудебных органов (особых совещаний, троек) при НКВД СССР. Эти органы, созданные еще во времена ВЧК, выносили приговоры не на основе УПК РСФСР, они выпадали из общей судебной системы, то есть были внесудебными, несмотря на то, что решения принимались коллегиально и внешне сама процедура некоторым образом напоминала обычное судопроизводство (прежде всего, на стадии предварительного следствия). Во внесудебном порядке рассматривались сотни тысяч дел о т.н. контрреволюционных преступлениях, при этом особенность рассмотрения заключалась в предельно упрощенном порядке производства следственных действий и вынесения решения, и это упрощение совершенно не соответствовало ни масштабу ограничения прав и свобод обвиняемых, ни обстановке в стране, однако позволяло власти не обременять себя соблюдением уголовно-процессуальных норм при отсутствии доказательств вины, и скрытно от общества репрессировать «врагов народа». При этом деятельность внесудебных органов регулировалась за малым исключением ведомственными актами НКВД, также скрытых от общества и которые по своей фактической силе превосходили законодательные нормы, что могло быть возможным только при соответствующей санкции руководства страны и в условиях тоталитарного государства.
4. Беспрецедентно большие полномочия органов НКВД и бесконтрольность их деятельности приводили к такому огромному числу бездоказательных приговоров, что высшим партийным и государственным инстанциям приходилось периодически обращать внимание на перегибы, при этом Сталин в очередной раз применял свою тактику, когда виновными в наиболее массовых беззакониях объявлялись те, кто непосредственно руководили ими, и прежде всего сначала нарком Ягода, а затем сменивший его Ежов, а сам Сталин, фактически дирижировавший всем этим процессом, представлялся в облике борца за законность и справедливость. Внесудебная деятельность органов НКВД во многом способствовала созданию в стране обстановки страха и доносительства, что нанесло серьезный удар по нравственному здоровью советского общества.
5. С целью устранения своих основных политических противников Сталин устраивал открытые процессы, на которых абсолютное большинство подсудимых раскаивались, признавались в преступлениях против советской власти, в связях с троцкистскими террористическими организациями. При этом внешне судебные процессы осуществлялись по общепризнанным правилам, с формальным соблюдением уголовно-процессуальных прав подсудимых. Все это производило впечатление на общественность, в том числе на многих зарубежных наблюдателей, и соответственно приговоры в своей основе воспринимались как должное.
6. К середине 1930;х гг. в СССР была создана мощная система органов государственной безопасности, в которой на сотни тысяч граждан при малейшем подозрении или наличии доноса формировались секретные оперативно-наблюдательные дела, которые скрупулезно велись годами и в которых постепенно, шаг за шагом накапливалась информация, при этом информация не терялась, несмотря на все кадровые и организационные изменения в органах госбезопасности (так, от первого доноса на академика Вавилова в 1931 г. и открытия на него наблюдательной папки до его ареста в 1940 г. прошло девять лет). В какой-то момент информации становилось достаточно для того, чтобы человека в любое время можно было арестовать за «контрреволюционную деятельность», и сфабриковать уголовно-политическое дело, при этом правящая верхушка готова была бросить в жернова репрессий лучшие умы Отечества, и все это ради того, чтобы укрепить свою личную власть и заставить советское общество двигаться по пути, который, как покажет история, во многом окажется для этого общества губительным.
7. Свою трагическую роль в массовых репрессиях сыграли и личные качества тех, кто оказался на вершине власти. И в первую очередь это относится к Сталину. Стремление захватить власть, а затем ее удержать, сделать неограниченной владело многими большевиками. Но у Сталина это проявлялось больше всего. Судя по всему, им владела страсть — жажда власти, стремление повелевать. И одновременно быть любимым «отцом всех народов». Захватив власть путем «дворцовых интриг», Сталин сумел решить. Он хорошо разбирался в страстях и слабостях людей. Знал, что страх может менять человека, превращать его в послушное орудие чужой воли. Поэтому Сталин и способствовал развитию массовых репрессий.
8. Осуществление репрессий сопровождалось активнейшим использованием печати для формирования необходимого для власти общественного мнения. Многие уголовно-политические процессы широко освещались в газетах, книгах, где подробно разъяснялась суть обвинений, и народ в своих откликах (подготавливаемых в большинстве своем заранее и искусственно самими же организаторами пропагандистских акций), естественно, «одобрял» принимаемые решения о репрессиях, при этом под возмущенными, преисполненными гнева заметками подписывались рабочие, крестьяне, учителя и т. д., в том числе широко известные в стране люди — писатель А. Толстой, легендарный летчик А. Ляпидевский и др., что с учетом признаний самих подсудимых на открытых процессах в немалой степени способствовало правдоподобности совершенных ими «контрреволюционных» преступлений, включая наличие террористических организаций, имевший цель свержение советской власти и покушение на руководителей государства.
9. За соблюдением законности во время следствия и суда по уголовно-политическим делам в соответствии с законом должна была наблюдать прокуратура, однако в жесткой централизованной административно-командной системе прокуратуре отводилась лишь роль «винтика» в механизме политических репрессий, и, более того, прокурор СССР Вышинский, боясь показать себя менее «революционными» в смысле проведения репрессий, чем НКВД, сам проявлял инициативу в их правовом обосновании, а также подводил под репрессии теоретическую базу.
10. Во время следствия по уголовно-политическим делам часто применялись недозволенные методы воздействия с целью получения «признательных» показаний, включая многочасовые ночные допросы, пытки, угрозы применения мер принуждения к родственникам обвиняемых, изготовление фальшивых протоколов с признаниями других обвиняемых и др., в результате чего большинство проходивших по делам о государственных преступлениях подтверждали деяния, которые они никогда не совершали и не могли совершить. Кроме того, очевидно, распространенным было и обещания облегчения участи обвиняемых, если они будут давать «правильные» показания на следствии и суде. Для проведения следствия незаконными методами с отсутствием каких-либо моральных запретов подбирались следователи, которые либо были полностью преданы руководству, либо имевшие за собой пригрешения, что позволяло управлять ими в процессе формирования доказательственных документов, «подтверждающих» заранее определенные обвинения.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается, прежде всего, в том, что результаты проведенного ис-торико-правового анализа юридических основ осуществления политических репрессий в период их наибольшей интенсивности (1934;1941 гг.) могут представить научный интерес в изучении истории развития розыскных, следственных и судебных органов в нашей стране, а также могут быть использованы в правоприменительной практике реабилитации жертв политических репрессий. Сформулированные автором выводы дополняют и развивают ряд разделов науки истории государства и права и могут стать основой при последующем научном исследовании данной проблематики. Выводы и фактические материалы исследования будут способствовать дальнейшему изучению природы Советского государства и права в первой половине XX века. Кроме того, результаты научного исследования могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при преподавании как общетеоретических, так и практических дисциплин, при написании учебных, диссертационных, монографических и иных работ.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования нашли свое отражение: в четырех научных публикациях автора, в докладах и материалах научных конференциях. Научные, педагогические работники, работники судебной системы могли ознакомиться с основными положениями диссертации на научно-практических конференциях в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, в работе которых участвовал диссертант.
Структура диссертации обусловлена актуальностью и целями исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Главным вектором развития советского общества с середины 1930;х гг. по-прежнему была доктрина построения в нем социалистического государства, основанного на марксистско-ленинской идеологии. К тому времени уже была накоплена практика реального государственного строительства в этом направлении, начатая после Октябрьской революции 1917 г. и включившая в себя ряд драматических (военный коммунизм, Гражданская война) и противоречивых (НЭП, коллективизация) периодов. Однако советская политическая элита во всех случаях сумела сохранить свою власть, и на вершине этой элиты после смерти Ленина стал Сталин. При этом важно подчеркнуть, что.
381 Бабий С. Система поощряла низость // Аргументы и факты на Енисее. 2007. 1 августа. См. также: Литвин А. Л. Следственные дела как исторический источник // Эхо веков. Казань, 1995. № 1. С. 170−176- Петров А. Г. Реабилитация жертв политических репрессий (историко-правовой анализ). Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 31.
82 Указ Президента РФ «О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека» от 23.06.1992 г. № 658 // Российская газета. 1992.30 июня. советское государство, основанное на методе насилия, перманентно пребывало в таком состоянии. Дело в том, что политический строй, важнейшими характеристика которого были тотальное огосударствление экономики и диктатура пролетариата при однопартийной системе, стал результатом не выбора большинства населения России, определенного путем голосования в органы власти или референдума, а сверхактивной деятельности большевистской партии, сумевшей на волне отрицания царизма и популярных лозунгов (типа: фабрики — заводам, землю — крестьянам) получить определенную поддержку населения, оказавшуюся достаточной для продолжения революции, отражения интервенции, победы в Гражданской войне. При таком положении политика советской власти по директивному внедрению в жизнь социалистических (коммунистических) идей встречала внутреннее сопротивление, что не было удивительным, учитывая слом многовековых традиций, связанных с частной собственностью, подавлением свободы слова и других социальных ценностей. Борьба с оппозицией стала лейтмотивом внутренней политики советской власти. Эта борьба выражалась в арестах противников власти, организацией судебных процессов над ними и казнях наиболее опасных, по мнению власти, «классовых врагов».
Значительное место в борьбе с оппозицией занимали внесудебные репрессии, поскольку на основе провозглашенных демократических прав и свобод и принятых законов власти было очень трудно доказывать вину в классическом уголовном процессесоответственно возрастала роль репрессивных органов, и прежде всего ЧК-ВЧК-ОГПУ-НКВД, где те же самые репрессивные меры принимались в закрытом от общества режиме. С конца 1920;х гг., когда основная открытая политическая оппозиция (прежде всего в лице Троцкого) была уничтожена, наступил период подавления скрытой оппозиции, состоявшей из лиц, занимавших высокие ответственные посты в партийно-советских структурах. В рассматриваемый период (1934;1941 гг.) этот процесс еще больше интенсифицировался, в жернова репрессий стали попадать представители высших эшелонов советской власти, которые еще недавно вместе со Сталиным вели борьбу против врагов советской власти, но вот теперь и для них настала очередь стать такими врагами, а Сталин по-прежнему оставался у руля власти и, более того, его статус руководителя-вождя все более укреплялся. Отправной точкой нового этапа уголовно-политических репрессий стало явилось убийство 1 декабря 1934 г. секретаря ЦК и Ленинградского ОК ВКП (б), члена Политбюро, одного из возможных кандидатов на пост Генсека ЦК ВКП (б) С. М. Кирова.
Происходившее в рассматриваемый период укрепление культа личности Сталина происходило при активном и непосредственном участии самого.
Сталина, который методично, формально на законных основаниях, подводил к расстрельным приговорам, заключению в ИТЛ, ссылкам всех сколько-нибудь представлявших для него опасность с точки зрения политического влияния в стране. Также действовали и большинство партийно-советских функционеров по нисходящим линиям пирамиды государственной власти вплоть до самого низа, в результате чего под статьи о шпионаже, диверсиях, вредительстве и других контрреволюционных деяниях попадали не только политики высокого уровня, представлявшие для Сталина опасность личного характера (возможность «заговора», «переворота» и т. д.), но и десятки и сотни тысяч обычных советских жителей.
Политические репрессии формально осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. При этом в рассматриваемый период были внесены изменения в содержание уголовно-правового регулирования некоторых составов преступлений против государства. Так, Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. «О дополнении положения о преступлениях государственных об измене Родине» в главу первую Особенной части вошли ст. 58/1 а, 58/16, 58/1 в, 58/1 г. Статья 58/1 а ввела новое понятие — измена Родине, под которым понимались действия, совершенные гражданами СССР в ущерб военной мощи государства, его государственной независимости или неприкосновенности территории, выражающиеся в шпионаже, выдаче военных или государственных тайн, переходе на сторону врага, бегстве или перелете за границу. Такого рода преступления карались высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества.
Оценивая уголовный и другие законы, следует отметить, что ряд законов явно шли вразрез с демократическими устоями (законы о политических преступлениях). Вместе с тем многие законы, взятые сами по себе, заслуживают в целом позитивной оценки (тот же закон о защите избирательных прав). Однако положения принятой в рассматриваемый период Конституции СССР 1936 г. (и соответственно Конституции РСФСР 1937 г.), касающиеся основ государственного строя и правового статуса гражданина, оставались на бумаге, в частности, это касается принципа народовластия, гарантий прав личности в уголовно-процессуальной сфере (так, несмотря на провозглашенное Конституцией СССР 1936 г. права обвиняемого на защиту, адвокат так и не получил доступа на стадию предварительного расследования). Кроме того, в уголовно-процессуальном законодательстве имелись нормы, внешне незаметные, которые позволяли осуществлять уголовное судопроизводство в обход фундаментальным принципам уголовного процесса, формально нашедших отражение в действующем тогда УПК РСФСР, и чаще всего именно на основании этих норм творилось беззаконие (в широком понимании права) в формальных рамках закона. Наиболее наглядно это было выражено в законе от 1 декабря 1934 г., согласно которому обвиняемые в терактах лишались элементарных процессуальных правв принятии такого рода законов принимал участие Сталин, видевший стратегию укрепления свой власти в том, чтобы, с одной стороны, появлялись законы в целом демократического характера, и тем самым иметь «лицо» перед всем миром, а с другой стороны, принимались такие отдельные законы, которые позволяли проводить жестокие репрессии на формально законных основаниях, включая нормативно-правовые положения о возможности внесудебного привлечения к уголовной ответственности за тяжкие преступления.
В целом наблюдающиеся в 1934;1941 гг. наиболее массовые уголовно-политические репрессии обуславливались избранной стратегией советской власти в методах достижения поставленной цели социалистического строительства, предусматривающих жесткое подавление противников власти, включая их физическое уничтожение, невзирая на моральные запреты. Данная стратегия поощрялась и закреплялась Сталиным, культ личности которого окончательно сложился во второй половине 1930;х гг. вместе с истреблением видных представителей революционного движения, бывших соратников вождя, в которых он усматривал возможных конкурентов для своего личного положения на Олимпе власти. При этом репрессии в большинстве своем осуществлялись формально на законной основе, отражая тем самым чрезвычайную противоречивость складывающихся в СССР общественных отношений в сфере уголовно-политического судопроизводства.
С целью устранения своих основных политических противников Сталин устраивал открытые процессы, на которых абсолютное большинство подсудимых раскаивались, признавались в преступлениях против советской власти, в связях с троцкистскими террористическими организациями. При этом внешне судебные процессы осуществлялись по общепризнанным правилам, с формальным соблюдением уголовно-процессуальных прав подсудимых. Все это производило впечатление на общественность, в том числе на многих зарубежных наблюдателей, и соответственно приговоры в своей основе с учетом соответствующей безусловно одобрительной прессой воспринимались как справедливые, как должное.
В рассматриваемый период активно функционировала система коллегиальных внесудебных органов (особых совещаний, троек) при НКВД СССР (до 1934 г. — ОГПУ). Эти органы, созданные еще во времена ВЧК, выносили приговоры не на основе УПК РСФСР, они выпадали из классической судебной системы, то есть были внесудебными, несмотря на то, что решения принимались коллегиально и внешне сама процедура некоторым образом напоминала обычное судопроизводство (прежде всего на стадии предварительного следствия). Во внесудебном порядке рассматривались сотни тысяч дел о т.н. контрреволюционных преступлениях, при этом особенность рассмотрения заключалась в предельно упрощенном порядке производства следственных действий и вынесения решения, и это упрощение совершенно не соответствовало ни масштабу ограничения прав и свободы обвиняемых, ни обстановке в стране (обычно упрощенный порядок вводился при чрезвычайных обстоятельствах, и прежде всего когда страна находилась на военном положении), однако позволяло власти не обременять себя соблюдением уголовно-процессуальных норм при отсутствии доказательств вины, и скрытно об общества репрессировать «врагов народа». При этом деятельность внесудебных органов регулировалась за малым исключением ведомственными актами НКВД, также скрытых об общества и которые по своей фактической силе превосходили законодательные нормы, что могло быть возможным только при соответствующей санкции руководства страны и в условиях тоталитарного государства. Обвиняемые объективно лишались фундаментальных уголовно-процессуальных прав (права на защиту, ознакомление с материалами дела, права представления доказательств и т. д.). Беспрецедентно большие полномочия органов НКВД и бесконтрольность их деятельности приводили к такому огромному числу бездоказательных приговоров, что высшим партийным и государственным инстанциям приходилось «одергивать» органы НКВД, при этом Сталин в очередной раз применял свою тактику, когда виновными в наиболее массовых беззакониях ОСО и троек 1937;1938 гг. был объявлен тот, кто непосредственно руководил ими — нарком Ежов, а сам Сталин, фактически дирижировавший всем этим процессом, представлялся в облике борца за законность и справедливость. Внесудебная деятельность органов НКВД во многом способствовала созданию в стране обстановки страха и доносительства, что нанесло серьезный удар по нравственному здоровью советского общества.
Убийство Кирова повлекло за собой ряд уголовно-политических процессов, которые, но инициативе Сталина стали изначально развиваться по версии организации этого теракта оппозиционными силами под общим руководством Зиновьева. Следствие, искусственно подстраиваясь под эту версию, грубо нарушало действующее уголовно-процессуальное право. Так, по факту убийства Кирова первоначально не было даже официально возбуждено уголовное дело. Большинство привлекаемых к уголовной ответственности ранее были сторонниками Зиновьева и Каменева, в том числе в их критике Сталинского руководства, за что подвергались партийным взысканиям, административным и уголовным наказаниям. Но Сталину этого было мало, и убийство Кирова он, уже укрепившийся на вершине власти, использовал для широкомасштабной мести своим бывшим, в том числе личным политическим врагам, в первую очередь, Зиновьеву, организовав судилища по сути за прежнюю — середины 1920;х гг. — деятельность. Та легкость, с которой следственно-судебные органы произвольно «кроили и шили» необходимую им фабулу дела, та смиренность и обвиняемых, абсолютное большинство которых «раскаялось» в предъявляемых обвинениях, и общества в целом, не посмевшего протестовать против явно надуманных, нелепых обвинений, показали, что в стране сложилась обстановка всесилия политического руководства — Сталина, который это почувствовал и решил еще дальше развить дело об убийстве Кирова, сделав его отправной точкой для политических процессов не только по делам, возникшим непосредственно в связи с убийством Кирова, но и для последующих процессов, в орбиту которых попадут люди, которые не имели никакого отношения к теракту 1 декабря 1934 г., а также ставшие ненужными свидетели из «органов», которые воплощали в жизнь установки Сталина (неизменно оформляемые как решения коллегиальных партийно-советских органов) по фабрикации уголовно-политических дел.
К середине 1930;х гг. в СССР была создана мощная система органов государственной безопасности, в которой на сотни тысяч граждан при малейшем подозрении или наличии доноса формировались оперативные наблюдательные дела, которые скрупулезно велись годами, постепенно, шаг за шагом накапливалась информацию, и эта информация не терялась, несмотря на все кадровые и организационные изменения в органах госбезопасности (так, от первого доноса на академика Вавилова в 1931 г. и открытия на него наблюдательной папки до его ареста в 1940 г. прошло девять лет). В какой-то момент информации становилось достаточно для того, чтобы человека с любое время можно было арестовать за контрреволюционную деятельность, и сфабриковать уголовно-политическое дело, при этом правящая верхушка во главе со Сталиным готова была бросить в жернова репрессий лучшие умы Отечества, и все это ради того, чтобы укрепить свою личную власть и заставить советское общество двигаться по пути, который, как покажет история, во многом окажется для этого общества губительным.
Список литературы
- Указ Президента РФ «О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека» от 23.06.1992 г. № 658 // Российская газета. 1992. 30 июня.
- УК РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80.
- Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления), принятое постановлением ЦИК СССР 25 февраля 1927 г. // СЗ СССР. 1927. № 12.
- Постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. «О дополнении положения о преступлениях государственных об измене Родине» СУ РСФСР // 1934. № 30. Ст. 173.
- Постановление ЦИК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» от 01.12.1934 г. // СЗ СССР. 1934. № 64. Ст. 459.
- Протокол ЦИК СССР «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов» от 01.12.1934 г. // Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М.: Республика, 1993. С. 33.
- Положение о судоустройстве РСФСР от 19 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 85. Ст. 624.
- Закон СССР «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» от 16 августа 1938 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1938 г. № 11.
- УПК РСФСР 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 18 февраля.
- Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 31 октября 1924 г. // СЗ СССР. 1924. № 24. Ст. 206.
- Постановление ЦИК СССР «Об образовании общесоюзного народного комиссариата внутренних дел СССР» от 10.07.1934 г. // Известия. 1934. 11 июля.
- Постановление ЦИК и СНК СССР «Об Особом совещании при НКВД СССР» // СУ СССР. 1935. N11. Ст. 84.
- Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» // РГАСПИ. Ф. 17. Оп.З.Д. 1003. Л. 85−86.
- Постановление Политбюро ЦК ВПК (б) «Об утверждении Постановления СНК СССР и ЦК ВПК (б) „О порядке производства арестов“ от 21 июня 1935 г. // АП РФ. ОП. 58. Д. 5. Л. 144,145.
- Постановление Политбюро ЦК ВПК (б) от 08.04.1937 г. „Об утверждении Положения об особом совещании при НКВД СССР“ // РГАСПИ. Ф. 17. Оп.З.Д. 986.
- Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 20 мая 1936 г. „О троцкистах“ // Лубянка, Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922-декабрь 1936. Документы. М.: Росспэн, 2003. С. 456.
- Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) „Об отношении к контрреволюционным троцкистско-зиновьевским элементам“ от 29 сентября 1936 г. // Лубянка, Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922-декабрь 1936. Документы. М.: Росспэн, 2003. С. 456.
- Постановление Политбюро ЦК ВПК (б) от 11 октября 1936 г. „О смещении Г. Г. Ягоды и назначении Н. И. Ежова наркомом внутренних дел“ // // Лубянка, Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922-декабрь 1936. Документы. М.: Росспэн, 2003. С. 456.
- Приказ Прокурора СССР от 1 апреля 1938 г. // Сайт Красноярского отделения правозащитной организации „Мемориал“. 2007.
- Циркуляр ГУРКМ НКВД от 21 ноября 1934 г. // В кн.: Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВПК (б) (конец 20-х-1941 гг.). М., 2001. С. 167.
- Циркуляр НКВД „О праве выселения из режимных районов“. 24.04.35 г. № 70 // В кн.: Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВПК (б) (конец 20-х 1941гг.). М., 2001. С. 168.
- Приказ НКВД „Об административной ссылке и высылке“ №- 0143 от 1.06.39г. // В кн.: Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВПК (б) (конец 20-х -1941 гг.). С. 266.
- Приказ НКВД „О порядке осуществления постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938 года“, 26 ноября 1938 г. № 762. // Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВПК (б) (конец 20-х -1941 гг.). С. 270.
- Директива НКВД и Прокуратуры СССР № 2709 от 26 нояб. 1938 г. // Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВПК (б) (конец 20-х 1941 гг.). С. 272.
- Оперативный приказ Народного комиссара внутренних дел Союза ССР от 30 июля 1937 г. № 447 // Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВПК (б) (конец 20-х-1941 гг.). М., 2001.С. 274.
- Приказ НКВД „Об операции по репрессированию жен изменников Родины от 15.08.1937 г. № 486 // Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВПК (б) (конец 20-х-1941 гг.). М., 2001. С. 275.
- Приказ НКВД от 27 декабря 1938 г. „О запрещении вербовки некоторых категорий работников партийных, советских, хозяйственных, профессиональных и общественных организаций“ // Сайт Красноярского отделения правозащитной организации „Мемориал“. 2007.
- Справка по вопросу очистки г. Москвы и Ленинграда в 1935 г. от социально-опасного элемента// ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 130.
- Заявление заключенного П. В. Лубянова от 03.08.1937 г., содержащегося в Красноярской тюрьме // Сайт Красноярского отделения правозащитной организации „Мемориал“. 2007.1. КНИГИ, СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ
- XVII съезд Всесоюзной Коммунистической нартии (б). 26 января-10 февраля 1934 г.: Стенографический отчет. М., 1934.
- Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вермонт, 1984.
- Альбац Е. Мина замедленного действия (политический портрет КГБ). М.: Русслит, 1992.
- Артизов А.Н. Судьбы историков школы М.Н.Покровского (середина 1930-х годов) // Вопросы истории. 1994. № 7. с. 34−48.
- Бабий С. Система поощряла низость // Аргументы и факты на Енисее. 2007. 1 августа.
- Бакунин A.B. История советского тоталитаризма. Екатеринбург, 1993.
- Бахтеев Ф. X. Николай Иванович Вавилов. Новосибирск, 1987. Белтов Э., Юрасов Д. 1937: только факты, только имена // Российская газета. 1992. 4 января.
- Бережков В.И. Питерские прокураторы. СПб., 1998. Берия С. Мой отец Лаврентий Берия. М.:Современник, 1994. Берия: конец карьеры / Под общ. ред. В. Ф. Некрасова. М., 1991. Бордюгов Н., Козлов В. Николай Бухарин // Коммунист. 1988. № 1. С. 107−112.
- Борисов Ю. Сталин: человек и символ. Факты истории и история культа // Переписка на исторические темы. М., 1989. С. 486−490. Борщаговский А. Обвиняется кровь. М., 1994. Браво, Лысенко // www.ecoethics.ru. 2007.
- Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов // Вопросы истории. 1990. № 7.
- Буков В.А. От российского суда присяжных к пролетарскому правосудию: у истоков тоталитаризма. М., 1997.
- Буков В.А. Суд и общество в Советской России: у истоков тоталитаризма. М., 1992.
- Вавилов Н. И. Письма разных лет // Наука и жизнь. 1987. № 11. С. 111.121.
- Вавилов Н.И. Новые пути исследовательской работы по растениеводству// Социалистическое земледелие. 1931. 13 сентября.
- Вавилов Н.И. Подвиг (статья в связи со смертью И.В. Мичурина) // Правда. 1935. 8 июня.
- Вавилов Н.И. У11 Международный съезд генетиков в СССР // Известия. 1936. 29 марта.
- Вайсберг A.C. Конфронтация. М., 1989.
- Викторов Б. Реабилитация Вавилова Н.И. // Наука и жизнь. 1988. № 5. С. 78−81.
- Викторов Б.А. Записки военного прокурора // Перестройка: ленинская концепция социализма. Ташкент: Изд-во „Узбекистан“, 1989. С. 146 164.
- Викторов В. „Заговор“ в Красной Армии // Правда. 1988. 29 апреля.
- Военный архив России. Вып. 1. 1993.
- Вокруг убийства Кирова // Правда. 1990. 4 ноября-
- Волкогонов Д.А. Правда очищает // Труд. 1988. 18 июня.
- Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический потрет Сталина. В 2 кн. Кн. 1.4. 2.М., 1989.
- Восленский М. Номенклатура. М. 1991.
- Враги колхозного крестьянства перед советским судом // Советская Сибирь. 1937. 20 сентября.
- Вышинский А. За качество. Декрет 8 декабря и задачи органов юстиции. М., 1934.
- Вышинский А.Я. Судебные речи. М., 1948.
- Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в Советском праве. М., 1950.
- Гайсинович А. Е. Зарождение и развитие генетики. М., 1988.
- Гайсинович А. Е., Россиянов К. О. Н. К. Кольцов и лысенковщина // Природа. 1989. № 5. С. 54−62.
- Гинзбург Г. З. О гибели Серго Орджоникидзе // Вопросы истории КПСС. 1991. № 3.
- Голубев Г. Н. Великий сеятель: Николай Вавилов. Страницы жизни ученого“ М.: Молодая гвардия, 1979.
- Гордон Л.А., Клопов Э. В. Что это было?: Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30−40-е годы. М., 1989.
- Гринберг М.С. Репрессии 20−50-х годов и принципы уголовного права // Правоведение. 1993. № 5. С. 28−33.
- Данилов В.П. Сталинизм и советское общество. // Вопросы истории, 2004. № 2. С. 173−181.
- Дети ГУЛАГа. М.: Росспэн, 2002.
- Докучаев М.С. История помнит. М., 1998.
- Дугин А.Н. Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990. № 7. С. 2326.
- Жуков Ю. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 19 331 937 гг. М.: Вагриус, 2003.
- Жуков Ю.Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 г. // Вопросы истории, 2002. № 1.С. 13−20.
- Жуков Ю.Н. Следствие и судебные процессы по делу об убийстве Кирова//Вопросы истории. 2000. № 2. С.33−51.
- Заболоцкий H.A. История моего заключения // Минувшее. Т. 2. М., 1990.
- Звягинцев А., Орлов Ю. Неизвестная фемида. Документы. События. Люди. М.: Олма-пресс, 2003.
- Земсков В.Н. Принудительные миграции из Прибалтики в 19 401 950-х годах // Отечественные архивы. 1993. № 1.
- Иванов В. А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х 40-х гг. (на материалах Северо-Запада РСФСР). СПб.: Лисс, 1997.
- Интервью Т.Д. Лысенко // Социалистическое земледелие. 1935. 7ноября.
- Историко-революционный календарь. М., 1941. С. 677. История ВКП (б). Краткий курс. М.: ОГИЗ, 1945. История милиции России (1917−1980-е годы): Хрестоматия / Сост. М. Ю. Гребенкин, Б. И. Кофман, С. Н. Миронов. Казань, 2002.
- История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. С. 207.
- История политических репрессий и сопротивления несвободе и СССР. М.: Издательство объединения „Мосгорархив“, 2002.
- Кантор Ю. Уголовного дела по факту убийства Кирова не возбуждалось (интервью с директором музея Сергея Кирова Т. Сухарниковой) // Известия. 2007. 2 августа.
- Кара-Мурза С. Г. История советского государства и права. М, 2001. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. T.l. М., 2001. Кирилина А. Рикошет, или Сколько человек было убито выстрелом в Смольном. СПб., 1993.
- Кириллина А. Выстрелы в Смольном // Родина. 1989. № 1. Книга Памяти. Свой среди чужих, чужой среди своих // Кубанские новости. 1992. 18 марта.
- Конквест Р. Большой террор. Рига, 1991.
- Корнеев В.Е., Копылова О. Н. Архивы на службе тоталитарного государства (1918-начало 1940 гг.) // Отечественные архивы. 1992. № 3. С. 1423.
- Костырченко Г. В. Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР // Вопросы истории. 1994. № 8.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М, 1983. Т.2.
- Кубанская ЧК. Органы Госбезопасности Кубани и документах и воспоминаниях. Краснодар: Советская Кубань, 1997.
- Кукридж Э. Гелен: шпион века / Пер. с англ. Т. С. Бушуевой. Смоленск, 2001. С.93−94.
- Куманев В.А. 1930-е годы в судьбах отечественной интеллигенции.1. М., 1991.
- Курицын В. М. История государства и права России 1929−1940. М., 1998.
- Кутафин O.E. Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в России. История. Документы. В 6 т. Т. 6. М: Мысль, 2003.
- Левина Е.С. Беда или вина академика Вавилова? // Природа. 1992. № 8. С.121−124.
- Левина Е.С. Из первых уст // Знание сила. 1987. № 6. С. 68−73. Литвин А. Л. Без права на мысль. Казань, 1994. Литвин А. Л. Следственные дела как исторический источник // Эхо веков. Казань, 1995. № 1. С. 170−176.
- Лубянка, Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922-декабрь 1936. Документы. М.: Росспэн, 2003.
- Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 декабрь 1936. Документы /Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. М., 2003.
- Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937−1938. М., 2004.
- Лысенко Т.Д. Речь на Втором съезде колхозников-ударников // Правда. 1935. 15 февраля.
- Маслов В., Чистяков Н. Сталинские репрессии и советская юстиция // Коммунист. 1990. № 10. С. 104−110.
- Материалы февральско-мартовского Пленума ЦК ВПК (б) 1937 г. // Вопросы истории. 1992. № 2−3.
- Медведев Р. О Сталине и сталинизме // Знамя. 1989. № 2. С. 210−245. Мельгунов С. П. Красный террор в России. М., 1990.
- Министерство внутренних дел. 1902−2002. Исторический очерк / Под ред. Р. Г. Нургалиева. М., 2004.
- Мозохин О. Особые совещания в России и СССР (1881−1953 гг.) // Пятые ежегодные чтения на Лубянке 17−18 декабря 2001 г. / http://www.nasledie.ru/oboz/N3−4.
- Мозохин О.Б. Карающий меч диктатуры пролетариата. М., 2004. С.379−383
- Морозова Т. Кто готовил убийство Кирова? // Интернетжурнал „ХайВэй“. 2006. 20 жовтня.
- Найт Э. Кто убил Кирова?. Нью-Йорк, 1999. Некрич А. Наказанные народы. Нью-Йорк, 1978. Николай Иванович Вавилов: Из эпистолярного наследия 1929−1940 гг. М., 1987.
- Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материалы. М., 1987.
- Новиков С. Обратное преувеличение // Московские новости. 2007. 18 августа.
- Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. М., 1991. Павленко Ю. В., Ранюка Ю. Н., Храмова Ю. А. Дело УФТИ. 19 351 938. Киев: Феникс, 1998.
- Панков С.А. Сталинский террор в Сибири 1928−1941. Новосибирск: Издательство СО РАН, 1997.
- Парнов Е. Заговор против маршалов. М.: Политиздат, 1991. Пащеня В. Н. К вопросу эволюции органов суда и прокуратуры, их коренизации в Крымской АССР в 1930-х первой половине 1940-х гг. // www.rusnauka.com. 2006 г.
- Поликарпов В. Федор Раскольников // Огонек. 1987. № 26. Полянский Ю. И. Общая биология. М.: Просвещение, 1990. Попов В. П. Государственный террор в советской России. 1923−1953 гг.: Источники и их интерпретации // Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 14−27.
- Процесс антисоветского троцкистского центра (23−30 января 1937 года). Стенографический отчет. М.: НКЮ СССР- Юридическое издательство, 1937.
- Процесс по делу"антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Стенографический отчет. М., 1936.
- Пшеничный А.П. Репрессии архивистов в 1930-х годах // Советские архивы. 1988. № 6. С. 44−48.
- Пыхалов И. Реабилитация для шпионов // Интернетсайт «Кризис Росси». 2206. 2 июля.
- Рапопорт В., Алексеев Ю. Измена Родине. Очерки по истории Красной армии. Лондон, 1988.
- Рассказов Л.П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВКП (б) (конец 20-х. 1941 гг.). М., 2001.
- Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и функционирования административно-командной системы в советском государстве. Уфа, 1994.
- Реабилитация. Политические процессы 30−50-х годов / Под общ. ред. А. Н. Яковлева. М.: Политиздат, 1991.
- Резник С. Дорога на эшафот. Париж: Третья волна, 1983.
- Роговин В. Власть и оппозиции. М., 1993.
- Романовская В.Б. Репрессивные органы в России XX века. Нижний Новгород, 1996.
- Росляков М.В. Как-то было // Звезда. 1989. № 7.
- Росляков М.В. Убийство Кирова. Л., 1991.
- Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. 1968.
- Сборник дискуссионных статей по вопросам генетики и селекции. М.: ВАСХНИЛ, 1936.
- Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917−1952. М., 1953.
- Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М.: Республика, 1993.
- Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. Ч. 2. Курск: «Курск», 1999.
- Сборник циркуляров Верховного Суда СССР. М., 1935.
- Семенов H.H. Наука не терпит субъективизма // Наука и жизнь". 1965. № 4.
- Сергеев Ф. Дело Тухачевского // Неделя. 1989. №. 7. Смыкалин А. Довоенный период развития советской судебной системы // Российская юстиция. 2002. № 6. С. 14−15.
- Совет при народном Комиссариате тяжелой промышленности СССР. 25−29 июня 1936 г. Стенографический отчет. М., 1936. Советские вооруженные силы. 1918−1988. М., 1987. Советский уголовный процесс. Под редакцией А. Я. Вышинского.1. М, 1938.
- Сойма В. Запрещенный Сталин. М.: Олма-пресс, 2005. Сойфер В. Решающая роль академика Вавилова в выдвижении Лысенко // Информационно-гуманитарный ВЭБ-журнал «Мы и заграница». RussianTopics.com. 2007. 18 мая.
- Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ // Новый мир. 1989.№ 8. С. 6369.
- Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М., 1998. Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. Март 1934−1940. М., 1997. Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД / Составители Я. Г. Рокитянский, Ю. Н. Вавилов, В. А. Гончаров. М.: Academia, 1999.
- Судебный отчет по делу антисоветского «право-троцкистского блока», рассмотренный Военной коллегией Верховного суда СССР 2−13 марта 1938 г. М., 1938.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927−1939 гг. Документы и материалы. Т.З. / Сост. Данилов В. П. М.: РОС-СПЭН, 2001.
- Трегшер Л. Большая игра. М., 1990.
- Троцкий Л. Сталинская бюрократия и убийство Кирова // Бюллетень оппозиции. 1935. № 41.
- ФайнбургЗ.И. Не сотвори себе кумира. М., 1991. Фейхтвангер Л. Москва, 1937. Отчет о поездке моих друзей // Два взгляда из-за рубежа. М.: Политиздат, 1990.
- Фицнатрик П.И. Сталинские крестьяне // Социальная история Советской России в 30-е голы: деревня. М: РОССПЭН. 2001. С.92−96.
- Хлевнюк О.В. 1937-и: Сталин. НКВД и советское общество. М., 1992.
- Хлевнюк О. В. Сталин и Орджоникидзе: конфликты в Политбюро в 1930-ые годы. М., 1993.
- Хорхордина Т.И. Архивы и тоталитаризм: Опыт сравнительно-исторического анализа // Отечественная история. 1994. № 6. С. 153−155.
- Хрущев Н.С. Мемуары. //Вопросы истории. 1990. № 3. С. 21−28
- Хрущев Н.С. О культе личности и его последствиях / Доклад Первого секретаря ЦК КПСС XX съезду КПСС // Реабилитация: Политические процессы 30−50-х годов. М.: Политиздат, 1991. С. 40−41.
- XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза: (Стенографический отчет). Т. 2. М., 1962.
- Шатуновская О. Воспоминания ветерана партии // Аргументы и факты. 1990. 2−8 июня.
- Шмелев Г. И. Коллективизация: на крутом переломе истории // Истоки. Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. С. 8894.
- Шубин A.B. Вожди и заговорщики. М&bdquo- 2004.
- Щетинов Ю.А. Режим личной власти Сталина: К истории формирования // Режим личной власти. К истории формирования. М.: МГУ, 1989. С. 67−70.
- Эренбург И. Мой друг Николай Бухарин // Неделя. 1988. № 17.
- Яцкова А. История советского суда // Отечественные записки. 2003. № 2. С. 24−32.
- АВТОРЕФЕРЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ
- Алферова И.В. Государственная политика в отношении депортированных народов (конец 30-х-50-е гг.).: Дисс. канд. ист. паук. М., 1998.
- Баранцева Е. JI. Организационно-правовые основы и механизм политики репрессий в Вятском крае (ноябрь1917-декабрь1934 года). Дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005.
- Губжокова JI.A. Уголовно-политические процессы в период укрепления административно-командной системы советского государства (19 291 934 гг.). Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2007.
- Дьяченко О.В. Органы государственной безопасности в реализации пенитенциарной политики советского государства (1917−1941 гг.) (историко-правовой аспект). Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.
- Дэр H.H. Прокурорский надзор за законностью в системе органов государственного управления СССР (1922−1940 гг.): историко-правовое исследование. Дис .канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005.
- Кулиш М.В. Чрезвычайное законодательство в советском государстве (1917−1941 гг.). Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.
- Малыгин А.Я. Государственно-правовой статус милиции РСФСР в период проведения новой экономической политики (20-ые годы). Диссертадия на соискание ученой степени доктора юридических наук. М.: Академия МВД РФ. 1992.
- Петров А.Г. Реабилитация жертв политических репрессий (истори-ко-правовой анализ). Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006.
- Рассказов Л.П. ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД в механизме формирования и функционирования политической системы советского общества (19 171 941). Дис. д-ра юрид. наук. СПб., 1995.
- Романовская В.Б. Репрессивные органы и общественное правосознание в России XX в. (опыт философско-правового исследования). Дис.. д-ра юрид. наук. СПб., 1997.
- Севастьянов С.С. Развитие форм участия трудящихся в охране общественного порядка в РСФСР в иериод построения социализма (1917−1936 гг.). Автореф. дис. канд. юр. наук. М., 1984.
- Старков Б.А. Утверждение режима личной власти И.В. Сталина и сопротивление в партии и государстве (итоги и уроки политической борьбы в 30-е годы). Дис. докт. ист. наук. СПб., 1992.
- Усенко А. Н. Массовые политические репрессии 1930-х годов на Дону. Дис. канд. ист.наук. Ростов-на-Дону, 2006.
- Хачемизова Е.Х. Общество и власть в 30-е 40-е гг. XX века: политика репрессий (на материалах Краснодарского края). Дис.. канд. ист. наук. Майкоп, 2004.
- Шкрыль Е.О. Становление и организационно-правовое развитие судебного управления и судебного надзора в РСФСР (1917−1940 гг.): историко-иравовое исследование. Дис. канд. юрид. наук. М., 2006.1. АРХИВЫ
- АП РФ. Ф. З. Оп.24. Д. 242.1. АП РФ. Ф. З. Оп.58. Д. 246.
- ГАРФ.Ф. 1005. Оп. 1а. Д. 1195.
- ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1а. Д. 61.
- ГАРФ. Ф. 8131.0ц. 14. Д. 1.
- ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 130.
- ГАРФ.Ф. 9401. Оп. 12. Д. 195.
- ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 246.
- ГАРФ. Ф. 9404. Оп. 12. Д. 3.
- ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 1 Д. 95.
- ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 1.Д. 85.
- ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 1.Д. 97.