Антропология исихазма в контексте византийской культуры
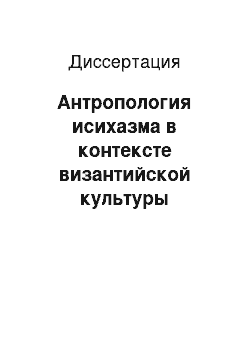
Именно такая картина наблюдалась в поздневизантийском обществе эпохи Палеологов, когда Империю потрясли так называемые «исихастские споры». Нечто подобное испытывает, в некоторых глубоких чертах, разумеется, и наше современное общество. Подобное притягивается подобным, поэтому в кризисные эпохи всегда возникает повышенный интерес к тому, как люди жили и чувствовали в кризисные эпохи прошлого… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОГО ИСИХАЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ
- 1. Изучение исихазма в русской литературе до 1917 г
- 2. Исследование исихазма в трудах русских ученых в период с 1917 г. до 1960-х гг
- 3. Обзор современной литературы по исихазму
- ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
- 1. Общие положения
- 2. Науки, искусства, образование в эпоху Палеологовского расцвета
- 3. Философская, богословская и мистическая традиции в культуре
- Византии
- ГЛАВА 3. УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ ИСИХАСТОВ
- И ИХ ПРОТИВНИКОВ
- 1. История православной антропологии в Византии до XIV в
- 2. Теоретическое осмысление исихастской традиции: философскобогословское учение Григория Паламы
- 3. Антропологические воззрения исихастов
- 4. Символ «сердца» в антропологии исихазма
Антропология исихазма в контексте византийской культуры (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Бытие человека в наше непростое в духовном отношении время характеризуется, что очевидно, известной экзистенциальной напряженностью. Много говорится о кулыуре, о религии. При этом невозможно не видеть, что речь ведется, как правило, в аспекте кризиса личности. С особенной остротой встает проблема сохранения человеком своего «Я». Человек же, в условиях отсутствия каких-либо общезначимых ценностных ориентиров и в силу отсутствия преемственности в традиции, вынужден зачастую принимать всю глубину духовной ответственности за свою жизнь наедине с самим собой. Свобода, конечно, — великое благо, но для того чтобы вынести бремя этой свободы нужна особая душевная крепость, которая приобретается лишь через искус личностно-экзистенциальных переживаний, Человек стоит перед выбором. Ныне, в конце двадцатого столетия, он, имея перед собой все многообразие вековой культуры и религиозных путей, пытается, как и раньше, отгадать, как говорил Несмелое, «загадку о человеке», расшифровать эту «криптограмму бытия». От ответа на вопрос о смысле пребывания человека в этом, по словам Лейбница, «лучшем из миров» зависит не только судьба отдельно взятой человеческой личности, но и достаточно хрупкая конструкция всего современного общественного устройства. Но ведь во многом прав был непонятый в свое время одинокий мыслитель Кьерке-гор, считавший способность и готовность к выбору отличительным свойством личности. Как же совершить этот жизненно важный выбор? Здесь явно недостаточно одних способностей рассудка. Решение должно быть принято на каком-то более глубинном уровне. И многие мыслители указывают на сердце как орган принятия определяющей модели жизни. В процессе своего существования человек вырабатывает миросозерцание, но оно, возможно не всегда осознанно, коренным образом зависит от внутренних расположений и интуиций личности.
Данная работа посвящена выяснению того, как преломляется эта животрепещущая проблема человеческого духа сквозь призму многовековой духовной традиции Православного Востока, получившей наименование безмолвничества1, или исихазма. Традиция эта существовала в христианстве с незапамятных времен, но теоретическое философско-богословское выражение и обоснование получила лишь в XIV веке в полемических произведениях Фессалоникийского архиепископа, одного из образованнейших людей своего времени — св. Григория Паламы. Всякое явление, как известно выносится на яркий свет всеобщего обозрения и осмысления лишь тогда, когда этого требуют неотложные жизненные обстоятельства. Иными словами, переживая внутренний кризис, общество пытается отыскать тот духовный стержень, опираясь на который, оно сможет гармонично развиваться и в дальнейшем.
1 Стоит отметить, что аналогичным феноменом — по названию, но не по сути — выступает течение квиетизма (от лат. quies — покой), возникшее в конце ХУЛ в. на католическом Западе. Некоторые исследователи склонны сополагать эти два религиозных явления, основываясь, по-видимому, на некоем внешнем сходстве (Вениаминов В. [Бибихин В.В.]. Краткие сведения о житии и мысли св. Григория Паламы. // Григорий Палама, св., Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1995, с. 350), но мне кажется более обоснованной та точка зрения, согласно которой «.внешняя похожесть слов совсем не может скрыть глубокого и принципиального различия этих религиозных течений» (Сидоров А.И. архимандрит Киприан Керн и традиция православного изучения поздневизантийского исихазма. /// Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М, 1996, с. ЬХУШ). Причем такое резкое различение находит себе оправдание в серьезном отличии основных устремлений квиетистов и исихастов: «Согласно учению квиетистов, душа, освободившись от всех забот, примирившаяся со всеми страданиями, отрешившаяся от материального мира, перестает себя проявлять, полностью погружаясь в „божественную любовь“, достигая слияния с божеством. В связи с этим квиетизм учил, что душа должна проникнуться полным безразличием к добру и злу, к раю и аду, полным равнодушием к вопросу о собственном спасении» (Рамм Б. Квиетизм. // Философская Энциклопедия, т.2, М., 1962, с.487).
Именно такая картина наблюдалась в поздневизантийском обществе эпохи Палеологов, когда Империю потрясли так называемые «исихастские споры». Нечто подобное испытывает, в некоторых глубоких чертах, разумеется, и наше современное общество. Подобное притягивается подобным, поэтому в кризисные эпохи всегда возникает повышенный интерес к тому, как люди жили и чувствовали в кризисные эпохи прошлого. В этом, как мне кажется, разгадка того оживленного внимания, которое стал проявлять к феномену исихазма XX век, особенно в последних своих десятилетиях. Ведь тогда Византия сделала определенный выбор и решение это было внутренним выбором множества отдельных личностей. И в этой работе мне хотелось поглубже вникнуть во внутренний мир человека византийской эпохи, понять, какие мотивы и устремления являлись реальной движущей силой личности, сделавшей выбор в пользу исихазма. Естественно, особый интерес представляет антропология проповедников безмолвия. Они, в основном, ведут речь о Боге и в гораздо меньшей степени — собственно о человеке. Однако то, что и как человек говорит о Боге, дает очень ясное понимание того, каким образом он представляет человека, ибо всякий разговор о Боге имеет смысл лишь тогда, когда есть говорящий, то есть, когда имеет место встреча двух личностей — Бога и человека, и последний пытается открыть в общезначимых понятиях свой внутренний экзистенциальный опыт.
Еще один важный аспект этого исследования, который, как мне кажется, не получил еще достаточно полного изучения в литературе, -взаимоотношение исихазма и культуры. Все еще распространено мнение, будто бы дух Средневековья враждебен культуре. И это говорят в отношении Западной Европы. Относительно же Византии зачастую господствует совершенно уничижительная оценка: «темные века», «дух мракобесия» и т. п. причем исихазм, в таком освещении, предстает в качестве квинтэссенции всего реакционного, в роли некоего «душителя культуры».
Более подробно речь об этом будет идти во второй главе данной работы. Сейчас хотелось бы высказать лишь некоторые принципиальные положения. Империя ромеев была высококультурным государством, просуществовавшим в качестве христианской империи более тысячи лет. Государство это испытывало всевозможные потрясения, вело бесконечные войны, было часто раздираемо внутренними противоречиями и междоусобицами, но оно, несмотря ни на что, сохраняло свое единство и как национально-государственный организм, и как культурно-религиозное образование. Но это немыслимо без единой идеологии, опирающейся на культурную однородность населения. Византиец, как мы знаем, был непоколебимо убежден в абсолютном превосходстве его страны над всем остальным миром — варварами. Что же давало ему такую уверенность? В культуре Византии всегда была традиционно высока античная составляющая, но еще важнее была компонента религиозная, а именно — православная, подлинным духовным стержнем которой являлся исихазм.
Был ли исихазм уделом лишь немногих избранников, променявших суету мира на сладостное безмолвие келии? Нет, и еще раз нет! В той или иной степени исихазм был одухотворяющей и реальной силой для широких масс. Ведь в те времена мы практически не встречаем религиозного индифферентизма, что явилось идеалом скорее нашей эпохи.
Империю отличал весьма высокий уровень грамотности, которая базировалась на чтении Священного Писания и греческой классики. Народ, таким образом, реально был приобщен к культуре, в которой, несмотря на извечное противостояние эллинского и христианского начал, исихастская идеология занимала довольно почетное место. При этом учение безмолвничества никоим образом не могло быть навязываемо человеку извне, но каждая личность могла принимать или не принимать эту религиозную практику. Историко-литературный материал эпохи убеждает нас в том, что значительная часть населения Империи исповедовало исихазм в качестве своего идеала. Неважно, что степень личной погруженности каждого человека в эту традицию могла быть весьма и весьма различной. Важно другое, а именно — наличие исихастского идеала в ряду важнейших компонентов византийской культуры. Яркий пример тому в истории — небывалый подъем искусства под влиянием иси-хазма в эпоху Палеологовского расцвета.
Итак, исихазм оказывал культурное воздействие на уровне широких народных масс. Его влияние простиралось на повседневную жизнь и быт среднего византийца. Очень многие жили и чувствовали, вдохновляясь этим религиозным идеалом. В такой сообразности личного и государственного идеала осуществлялось культурно-религиозное единство Византийской империи. Наша же задача, в связи со всем вышесказанным, проанализировать, насколько возможно, это культурное значение исихазма на материале его учения о человеке. Поместив антропологию безмолвничества в центр нашего исследования, мы руководствовались тем, что ряд тем, характерных для антропологических воззрений исиха-стов, в значительной степени актуален для современной философской антропологии и философии культуры. В качестве примера можно привести проблему желания, проблему творчества, проблему соотношения разума и сердца в человеческой экзистенции и другие. С. С. Хоружий считает, что: «.древняя традиция способна быть живою и действенной в этом мире, открывая современному мышлению новое понимание человека. Новое для него — однако добытое Православием много веков назад в мистическом опыте священнобезмолвия"2.
Напоследок нельзя не упомянуть такой важный момент, как культурно-практический аспект исихастского влияния в деле воспитания народа, в целом, и самовоспитания отдельной человеческой личности, в частности. Ведь одно дело некий заданный идеал, другое — повседневные бытовые реалии. Зазор между ними зачастую бывает слишком велик, что может приводить к различным катаклизмам на уровне личности и общества. «Тяжело, неимоверно тяжело, в узкую душу человеческую и ещё более узкое человеческое тело вместить, втиснуть бесконечную, вечную жизнь». 3 Исихасты учили о вовлеченности тела в жизнь духа, о вовлеченности бытовой жизни в религиозную, и, тем самым, способствовали уменьшению этого зазора. Каждому мелкому действию человеческого существования мог быть придан практически-ценностный смысл маленькой ступени в лествице восхождения человека к Богообщению. Таким образом, осуществлялась вся реальная душевно-телесная жизнь личности в лучших ее устремлениях и предоставлялись действенные средства к внутренней борьбе человека с тем, что мешало реализации главных его потенций. Все это входило в плоть и кровь множества поколений, созидавших культуру и государство, что дает нам право считать исихазм одним из главных корней всей византийской культуры.
Наша эпоха испытывает небывалый интерес к исихазму. Особое значение приобретает личностно-экзистенциальное измерение доктрины безмолвничества. Современное внимание к духовно-практическому феномену поздневизантийского нсихазма тем более знаменательно, что предшествующие эпохи подходили к нему зачастую поверхностно, не.
2 Хоружий С. С. Исихазм и история.//Он же. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994, с. 446. находя, по-видимому, созвучия исихастских проблем своим собственным.
Всякого, кто обращается к истории изучения исихазма в российской науке времён Империи, поражает немногочисленность исследований и неадекватный глубине изучаемого явления стиль их написания. Лишь в середине прошлого века произошло «открытие» исихазма русскими учеными, после чего примитивно-рационалистическое восприятие исихастского опыта стало понемногу сменяться более глубоким проникновением в сущность данного феномена.
Первой из такого рода работ стала магистерская диссертация игумена Модеста (Стрельбицкого), увидевшая свет в 1860 г. в Киеве. Публикацией рукописных материалов занимаются выдающиеся русские ученые: еп. Порфирий (Успенский), еп. Арсений (Иващенко) и акад. Ф. И. Успенский. Комплексный подход к исихазму мы можем наблюдать в исследованиях еп. Алексия (Дородницына), А. И. Яцимирского, П. А. Сырку и И. И. Соколова, где учение исихастов анализируется с достаточной основательностью.
За небольшим исключением, русская византологическая и патро-логическая наука, равно как и философия и богословие, переместились после 1917 г. за рубеж. И там, в трудах представителей русской диаспоры изучение исихастской традиции получило блестящее классическое выражение. В России вышли работы П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева, A.A. Васильева. Русское зарубежье представлено, прежде всего, именами Г. А. Острогорского, монаха Василия (Кривошеина), архим. Киприана (Керна), В. Н. Лосского, прот. И. Мейендорфа, И. М. Концевича. В их трудах мистическая традиция восточного исихазма получила фундаментальное теоретическое осмысление. Были тщательно изучены общефи.
3 Иустин Попович, св. На богочеловеческом пути. СПб., 1999, с. 252. лософский, аскетико-гносеологический, антропологический и культурно-религиозный аспекты доктрины исихазма. Стоит, наверное, согласиться с мнением одного из современных исследователей, что: «это — классика православного богословия нашего века. И одно из главных открытий, главных заветов этой классики — стержневая роль исихазма для всего мира православной духовности"4.
Советская наука не баловала исихазм своим вниманием. Лишь в 70-х гг. Стали выходить работы И. П. Медведева, посвященные истории исихастских споров. Появляются исследования Г. М. Прохорова, Н. Д. Барабанова и о. И. Экономцева. Большое внимание исихазму уделяет в своих многочисленных трудах по эстетике В. В. Бычков. В 70-е гг. В. В. Бибихиным был выполнен полный русский перевод Триад св. Григория Паламы, изданный лишь в 1995 г. Аналогичная судьба выпала на долю книги С. С. Хоружего «Диптих безмолвия», перу которого принадлежат многие исследования по исихазму. Помимо вышеупомянутых авторов, посвятивших исихазму отдельные исследования, эту тему под различным углом зрения рассматривают в своих трудах такие ученые как: В. М. Лурье, А. Ф. Замалеев, Е. А. Торчинов, Б. В. Марков и многие другие.
Большой интерес представляют работы зарубежных исследователей: Р. Синкевича, А Риго, Г. Манцаридиса, Д. Коффея и других. Подробный обзор исследований, посвященных исихазму содержится в работе Д. Стирнона. В 1984 г. в Фессалонике прошел международный симпозиум в честь св. Григория Паламы, на котором теоретические и практические проблемы поздневизантийского исихазма получили тщательное рассмотрение.
4 Синергия. Проблемы аскетшш и мистики Православия. Научный сборник под общей редакцией С. С. Хоружего. М., 1995, с. 32.
Одним словом, проблемы, связанные с исихазмом весьма обширно разработаны в литературе к настоящему времени, однако, еще очень далеки от степени завершенности, что обусловлено большой глубиной изучаемого духовно-культурного феномена.
Основной целью диссертационного исследования является культурно-философское исследование феномена поздневизантийского иси-хазма в широком культурном контексте того времени соотносительно с актуальными проблемами современной философской антропологии.
Достижение основной цели исследования разворачивается посредством постановки и решения серии следующих задач:
• обзора истории изучения исихазма в литературе, как в дореволюционной, так и современной;
• рассмотрения культуры Византии, в контексте которой имеет место традиция исихазма;
• анализа учения о человеке исихастов и их противников, слагающегося из изучения истории православной антропологии в Византии до XIV в., философско-богословского учения главы исихастов — св. Григория Паламы и, наконец, антропологических воззрений представителей исихазма.
Методологически диссертационное исследование антропологии исихазма в контексте византийской культуры связано с попыткой герменевтической реконструкции и обобщения духовно-теоретического опыта православного исихазма на основании анализа текстов его главных представителей, в первую очередь — св. Григория Паламы, а также всестороннего анализа культурной ситуации исследуемой эпохи и осмысления проблем взаимопроникновения основных идей доктрины исихазма и окружающей его культурно-исторической среды.
Существенную методологическую роль в диссертационном исследовании сыграли следующие концептуальные моменты:
• идея исихастов о человеке, как существе, способном к достижению обожения во всей целостности своего психосоматического единства;
• экзистенциальная напряженность антропологических воззрений исихастов;
• глубокая укорененность исихастской традиции в византийской культуреее воспитательное значение;
• соотносительность личностно-бытийной ситуации эпохи исихастских споров в Византии XIV в. с современностью.
Новизна работы следует из постановки и решения проблем, связанных с экспликацией антропологических воззрений исихазма в контексте его культурной среды в соотношении с актуальной тематикой современной философской антропологии, что открывает новые перспективы в сфере изучения глубинных экзистенциальных переживаний человеческой личности в их абсолютном и культурологическом аспектах. Кроме того:
• проведены анализ и систематизация классической и современной литературы по истории исихазма;
• осуществлено теоретическое осмысление роли духовной традиции исихазма в процессе развития византийской культуры;
• предпринята философская и культурно-антропологическая реконструкция исихастского учения о человеке;
• указана актуальность и намечены перспективные направления включения святоотеческих представлений о человеке в контекст практических и теоретических проблем современной философской антропологии.
Основными положениями диссертационного исследования являются следующие:
1. История изучения исихазма в классической и современной литературе предстает как процесс постижения интеллектуального и мистического опыта представителей этого оригинального богослов-ско-философского направления;
2. Современная реконструкция исихастских взглядов на человека включает в себя:
2.1.Изучение оригинальных творений теоретиков и практиков исихастской традиции на протяжении её тысячелетнего существования;
2.2.Сравнительный анализ философско-богословской дискуссии исихастов и их противников;
2.3.Восстановление экзистенциального и социокультурного контекста этих взглядов;
2.4.Обоснование актуальности исихастских взглядов на человека для современной философской антропологии;
3. Главными моментами антропологии исихазма представляется:
3.1 .Концепция о единстве микрои макрокосмоса, включающая человека в общую картину бытия;
3.2.Учение о психофизическом единстве, предполагающее взаимосвязь и взаимодополнительность тела и души в форме представления о сердце как верховном органе личности;
3.3.Воззрение на человека как образ и подобие Божие, в рамках которого ставится и решается вопрос о назначении человека и смысла его жизни;
3.4 .Практика аскезы для достижения теозиса (обожения) как конечного предназначения человеческой личности.
Теоретическая значимость диссертационного исследования связана с его отношением к разряду фундаментальных вопросов философской антропологии и философии культуры. Раскрытие антропологической модели поздневизантийского исихазма во всем ее культурологическом значении способствует более глубокому осмыслению поставленных проблем в системе современного философского знания о человеческой личности. Материалы диссертации могут быть использованы в исследованиях средневековой, а также современной философской антропологии и философии культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Завершая это небольшое исследование, хотелось бы кратко и отчетливо обозначить основные выводы, которые из него последовали, насколько это удалось показать на страницах работы.
Выясняя, как раскрывалась проблема человека в учении исихастов, мы обратились к анализу основных особенностей византийской культуры в целом и к рассмотрению философской, богословской и мистической традиций в этой культуре в частности. Культура Византии, по свидетельству многих ученых, являет собой один из наиболее значительных типов средневековой культуры, что связано с укорененностью ее в античной традиции, в органическом усвоении христианской, господствовавшей в Империи, Церковью главных и наиболее ценных достижений греческого гения, в использовании, наконец, богатейшего языка своих великих предков. Достаточно высокий уровень образования и культуры соединялся у ромеев с православным миросозерцанием, выработанным Церковью на протяжении ряда столетий путем соединения духовного опыта христианства с интеллектуальными категориями греческой философии, что порождало, в совокупности, особый строй византийской жизни.
Была, далее, сделана попытка на материале истории святоотеческой антропологии Византийского периода выявить главные черты осмысления проблемы человека, смысла его жизни и конечного его предназначения в контексте византийской культуры.
Поскольку особое внимание данной работы сосредоточено на уяснении антропологических воззрений исихазма, основным источником стали труды главного его систематизатора и теоретика — св. Григория Панамы и творения святых отцов Православного Востока. В связи с этим необходимо в конце настоящего исследования более подробно сказать о значении учителя безмолвия в истории православной мысли, попытаться определить ту связь, которая, на наш взгляд, существует между его фи-лософско-богословским учением и мистико-аскетической традицией, известной в литературе под именем православного исихазма.
Для правильного разрешения этого вопроса важно выяснить, в какой мере Палама может быть рассматриваем как традиционный церковный писатель, к каким течениям аскетической и богословско-философской мысли Православия он принадлежит и что нового внесено им в сокровищницу православной мысли? Одни исследователи, из его прежних православных апологетов, настаивают на всецелой традиционности его учения, особенно подчеркивая его антипапизм и борьбу с латинством (хотя это было сравнительно второстепенной стороной его жизни и учения). Другое, из числа католических авторов, изображают Паламу чистейшим «новатором». И только лишь с середины, приблизительно, нашего столетия учение св. Григория Паламы начинает с достаточной научной убедительностью и глубиной раскрываться в трудах таких авторов, как В. Н. Лосский, архиеп. Василий (Кривошеин), архим. Киприан (Керн), прот. И. Мейендорф и некоторых других.
Заслуживает внимания тот факт, что Палама и его последователи охотно прибегали в своей полемике к свидетельствам древней патристи-ческой и аскетической письменности, где они с легкостью находили многочисленные подтверждения своего учения, в то время как их противники вынуждены были пользоваться по преимуществу аргументами отвлеченного характера. Уже одно это свидетельствует, что Палама несомненно находился в русле древней церковной традиция. Его аскетическое учение в сущности своей есть не что иное как древнее, восходящее к Евагрию Понтийскому и преп. Макарию Египетскому, учение о путях созерцательной уединенной жизни, известное в истории православного монашества под именем безмолвничества или исихазма. В частности, учение Паламы об умной молитве, ее приемах и о высших духовных состояниях очень близко с учением преп. Иоанна Лествичника, Исихия Иерусалимского и Филофея Синайского, Симеона Нового Богослова и Григория Синаита. Начатки учения о несозданном Божественном Свете встречаются уже у Макария Египетского, бл. Феодорита и, особенно, у Симеона Нового Богослова. О Фаворском Свете как о явления Божества, учил еще св. Григорий Богослов, а в творениях свв. Андрея Критского и Иоанна Дамаскина содержится, в главных чертах, все учение Паламы о несозданном Свете Преображения. В учения о благодати наиболее близок Паламе Макарий Египетский. Наконец, учение о «сущности и энергии Божества» восходит в своих основных положениях и даже терминологии к свв. Василию Великому, Григорию Нисскому и Иоанну Дама-скину. Еще большее внутреннее сходство о этим учением, при некотором различии в способе выражения, находим в творениях псевдо-Дионисия Ареопагита.
И все же, несмотря на несомненную традиционность всех основных аскетических, богословских и философских взглядов Григория Паламы, его нельзя рассматривать как простого компилятора, — ибо исходным моментом мышления Паламы был его личный духовный опыт, а не чисто книжное знакомство со святоотеческой традицией.
Учение Паламы образует некое строгое целое, проникнутое единой основной мыслью. Все традиционные аскетико-философские проблемы вновь им пережиты и заново поставлены. Многое получило систематическую обработку и философско-богословское обоснование впервые в истории патристики в учении Паламы.
Итак, кратко резюмируя значение учения св. Григория Паламы в развитии православной мысля, мы можем сказать, что традиционное аскетико-мистическое учение Православного Востока, известное под именем исихазма не только находит в его творениях свое окончательное и систематическое выражение, но и свое философско-богословское оправдание. Своим учением о несозданном Свете и Божественных энергиях Палама подвел непоколебимый философский базис под традиционное мистическое учение восточной патристики, ибо только на основе этого учения возможно последовательно утверждать действительность общения человека с Богом и реальность обожения, не впадая при этом в пантеистическое слияние твари с Божеством, неизбежно возникающее при отождествлении в Боге сущности и энергии.
Теперь обратимся к антропологическим аспектам миросозерцания Паламы, насколько они выражены на страницах его творений. Он признает природную раздвоенность человека, состоящего из души и тела, но, в отличие от платонизирующих и спиритуалистических учений, не считает эту душевно-телесную связь противоестественной. Более того, в обладании телом открывается высочайшая в мироздании роль человека-творца, созданного по образу и подобию Божию.
Человек — таинственное существо, «тварь, получившая повеление стать богом». Глава исихастов ставит человека превыше бесплотных ангелов, что в контексте христианского миросозерцания является чрезвычайно знаменательным. Человеческая личность призвана к обожению, но для этого ей надо откликнуться на зов другой Личности. В огне Божественной любви человек сжигает страсти, которые мешают полной реализации его личности, являясь следствием греха. Для победы в этой внутренней напряженнейшей борьбе человеку предстоит серьезное усилие и твердость в своем жизненном выборе. Но человек не один и поэтому в его жизни не должно быть места отчаянию. Весь круг человеческого бытия освящается всепроникающими Божественными энергиями. Нужно лишь открыть свою душу навстречу Фаворскому свету, и человек уже здесь сможет ощутить несказанную радость Богообщения.
Таково, вкратце, учение о человеке, выраженное в тысячелетней духовной традиции, известной под именем православного исихазма. И, подводя итог этой работе, хотелось бы надеяться, что на ее страницах мне удалось, хотя бы до некоторой степени, раскрыть основные глубинные черты данного духовно-интеллектуального феномена. Ибо: «.Раскрытие древней исихастской традиции, искони утверждавшей свободу и ответственность человека, личностную картину мира, — прямое участие Православия во всечеловеческой работе постижения и созидания новой антропологической реальности». 544 Впрочем судить об этом не мне, но тем, кто примет на себя труд ознакомиться с этим небольшим исследованием. Заранее выражаю им благодарность за проявленное внимание и прошу проявить известное снисхождение к существующим недостаткам данной работы.
544 Хоружий С. С. Проблема личности в православии, мистика исихазма и метафизика всеединства. // Он же. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994, с. 275.
Список литературы
- Августин Аврелий, бл. Исповедь. М., 1991
- Алексий (Дородницын), еп. Византийские церковные мистики XIV века. Казань, 1906.
- Алексий (Дородницын), еп. Христианская мистика в ее главных представителях IV XIV вв. Саратов, 1913.
- Алмазов А.И. Тайная исповедь в православной восточной церкви. Тт. МП, Одесса, 1894.
- Амвросий Оптинский, св. Сборник писем и статей к мирским особам. 4.1. М., 1894- 4.2. М., 1897.
- Амвросий Оптинский, св. Собрание писем к монашествующим. Вып. 1 2. Сергиев Посад, 1908 — 1909.
- Андрей Рублев и его эпоха. Сборник статей. М., 1971.
- Андроник (Трубачев), иером. Теодицея антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998.
- П.Аникиев П. Мистика преп. Симеона Нового Богослова. СПб., 1906.
- Анна Комнина. Алексиада. /Вступ. ст., пер. и комм. Я. Н. Любарского. СПб., 1996.
- Античность и Византия. М., 1975.
- Антоний (Булатович), иеросх. Моя мысль во Христе. О деятельности (энергии) Божества. Птр., 1914.
- Апология мистики по творениям преп. Симеона Нового Богослова. Пг., 1915.
- Арсений (Иващенко), еп. Святого Григория Паламы, митрополита Со-лунского, три творения, доселе не бывшие изданными. Новгород, 1895.
- Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. / под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995.
- Афанасий Великий, св. Творения в 4-х т.т. Репринт, изд.: М., 1994.
- Барабанов Н.Д. Борьба внутри византийской церкви на рубеже XIII -XIV вв. // Античный и средневековый город. Свердловск, 1981, сс. 141 -156.
- Барабанов Н.Д. Византия и Русь в начале XIV в. (Некоторые аспекты отношений патриархата и митрополии). // Византийские очерки. М., 1991, сс. 198−215.
- Барабанов Н.Д. Из истории связей Константинополя и Афона в начале ХГЛв. // Византия и ее провинции. Свердловск, 1982, сс. 115 126.
- Барабанов Н.Д. «Слово» Феоктиста Студита и распространение иси-хазма в Константинополе в 30-е гг. XIV в. // Византийский Временник, 1989, т. 50 (75), сс. 139 146.
- Барвинок В.И. Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911.
- Безобразов П.В. Варлаамиты, их борьба с паламитами. // Византийский Временник, т. З, сс. 135 140.
- Белоброва О.А. Посольство Константинопольского патриарха Фило-фея к Сергию Радонежскому. // Сообщения Загорского Государственного Музея-Заповедника. Вып.2, 1958, сс. 12 -18.
- Бибиков М.В. К социально-психологическому анализу писем Григория Кипрского: бедность, бедствие, болезнь. // Византийский Вестник, 1995, т. 56 (81), сс. 57 62.
- Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
- Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.
- Болотов В.В. К вопросу о Filioque. СПб., 1914.
- Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т.1 4. М., 1994.
- Большаков C.B. На высотах духа. М., 1993.
- Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены. СПб., 1898- М., 1998.
- Булгаков C.B. Настольная книга для священно-церковно-служителей. (Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства). М., 1913, тт. I II. (Репринт: М., 1993).
- Булгаков С.Н. Главы о троичности. // Православная Мысль. Вып.1. Париж, 1928, с. ЗО 42.
- Булгаков С.Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1917- М., 1994,
- Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.
- Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
- Бычков В.В. Православная эстетика в период позднего византийского исихазма. // Вестник русского христианского движения, № 164, сс. 33 -62.
- Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI XVII века. М., 1992.
- Бычков В.В. Эстетика отцов Церкви. М., 1995.
- Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики. Тт. 1−4. Нижний Новгород, 1995 1998.
- Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников. Репринт, изд.: М., 1993.
- Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды 1952 1983 гг. Статьи. Доклады. Переводы. Нижний Новгород, 1996.
- Василий (Кривошеин), еп. Дата традиционного текста «Иисусовой молитвы». // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, 1952, № 10, сс. 35 38.
- Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов (949−1022).Paris, 1980- Нижний Новгород, 1996.
- Василий (Кривошеин), архиеп. Святой Григорий Палама личность и учение (по недавно опубликованным материалам). // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, 1960, №№ 33 — 34, сс. 101 — 114.
- Васильев A.A. История Византийской империи: Время до Крестовых походов (до 1081 г.). / Вступ. ст., прим., науч. ред., пер. с англ. яз. и именной указ. А. Г. Грушевого. СПб., 1998.
- Васильев A.A. История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения Константинополя. / Вступ. ст., прим., науч. ред., пер. с англ. яз. и именной указ. А. Г. Грушевого. СПб., 1998.
- Введенский А.И. Религиозное сознание язычества. СПб., 1897.
- ВениаминовВ. Бибихин ВВ. Краткие сведения о жизни и мысли св. Григория Паломы. // Григорий Палама, св. Триады в защиту священно-безмолвсвующих. М., 1995, сс 344−381.
- Вышеславцев Б.П. Образ Божий в существе человека. // Путь, № 49, сс. 48−71.
- Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индийской мистике. Париж, 1929. Перепечатано: Вопросы философии. М., 1990, № 4, сс.62−87.
- Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. бО Гаврюшин Н. К. Б. П. Вышеславцев и его «философия сердца». // Вопросы философии. М., 1990, № 4, сс. 55−62.
- Герцен А.И. Былое и думы. М., 1982.
- Гоготишвили JI.A. Лосев, исихазм и платонизм. // Лосев А. Ф. Имя. СПб., 1997, сс. 551 -579.
- Голейзовский Н.К. Исихазм и русская живопись XIV XV вв. // Византийский Временник, 1968, т. 29.
- Горянов Б.Т. Исихасты. // Философская энциклопедия, т. 2, М., 1962, с. 326.
- Горянов Б.Т. Первая гомилия Григория Паламы как источник к истории восстания зилотов. // Византийский Вестник, 1947, т. 1, сс. 261 266.
- Григорий Нисский, св. Об устроении человека. / Пер., прим. и по-слесл. В. М. Лурье. СПб., 1995.
- Григорий Палама, св. Беседы (Омилии). / Пер. арх. Амвросия (Погодина). Часть 1. Монреаль, 1965- Часть 2. Монреаль, 1974- Часть 3. Монреаль, 1984. (Репринт: Чч. 1 3. М., 1993- Чч. 1 — 3. М., 1994)
- Григорий Палама, св. Главы естественные, богословские, этические и практические (46). // Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в
- Афонские монастыри и скиты в 1845 г. 4.1. Отд.1. Киев, 1877, сс 350 -412.
- Григорий Палама, св. Десятословие по христианскому законоположению. / Пер. еп. Феофана (Говорова). // Добротолюбие в русском переводе, дополн. Т.5. Изд.2-е, М., 1900 (Репринт: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992), сс. 281 289.
- Григорий Палама, св. Десять бесед. М., 1785.
- Григорий Палама, св. Истолкование десяти заповедей. // Духовная беседа, 1860, т. 1, сс. 273 -285.
- Григорий Палама, св. Исповедание православной веры. // Воскресное чтение, Киев, 1814, № 3, сс. 15−21.
- Григорий Палама, св. Ответ Павлу Асеню. / Пер. Н. Л. Холмогорова. // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России, 1996, №№ 2/3 (9/10), сс. 101−103.
- Григорий Палама, св. Письмо Аникдину. / Пер. прот. И. Мейендорфа. //Православная мысль, 1955, № 10, сс. 113 -126.
- Григорий Палама, св. Письмо своей Церкви. // Богословские труды. Юбилейный сборник: МДА 300 лет. М., 1985, сс. 305 — 315.
- Григорий Палама, св. Святогорский Томос. / Пер. Т. А. Миллер. // Альфа и Омега. Учебные записки Общества для распространения Священного Писания в России, 1995, № 3 (6), сс. 69−76.8 ¡-.Григорий Палама, св. Слова. София, 1987.
- Григорий Палама, св. Слово к философам Иоанну и Феодору. / Пер. еп. Арсения (Иващенко). Новгород, 1895.
- Григорий Палама, св. Триады в защиту священно-безмолствующих. / Пер., послесл., прим. В. Вениаминова. М., 1995.
- Громов М.Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X XVII веков. М., 1990.
- Диль Ш. Основные проблемы Византийской истории. М., 1947.
- Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. / Вступ. ст. и пер. Г. М. Прохорова. СПб., 1995.
- Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. / Вступ. ст. Г. В. Флоров-ского- пер. М. Г. Ермаковой. СПб., 1997.
- Добротолюбие в русском переводе еп. Феофана (Говорова). В 5-ти тт. Репринт, изд.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992.
- Дорофей, авва. Поучения, послания, вопросы, ответы. Репринт, изд.: М., 1991.
- Древний Патерик. М., 1874.
- Евагрий Схоластик. Церковная истории. СПб., 1999.
- Евагрий, авва. Творения. Аскетические и богословские трактаты. / Пер., вступ. ст. и комм. А. И. Сидорова. М., 1994.
- Евдокимов М., свящ. Сердце в восточной традиции и в «Мыслях» Паскаля. // Страницы. № 1″ 1996, сс.28−37.
- Епифанович С.П. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 1996.
- ЮЗ.Иларион Святогорец, иером. Исповедание православной веры святого Григория Паламы. М., 1995.
- Иоанн Кассиан Римлянин, св., Писания. Репринт, изд.: М., 1993.
- Ю9.Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961.
- НО.Иоанн Синайский, св. Лествица. Репринт, изд.: М., 1991. Ш. Иоанн (Экономцев), игум. Православие, Византия, Россия. Сборник статей. М., 1992.
- Ш. Ириней Лионский, св. Творения. Репринт, изд.: М., 1996.
- Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993.
- Иустин Философ. Творения. Репринт, изд.: М., 1995.
- Ш. Каждан А. П. Византийская культура: X XII вв. М., 1968. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1997.
- Ш. Каждан А. П., Литаврин Г. Г. Очерки истории Византии и южных славян. Изд. 2-е, испр. СПб., 1998. 117. Карабинов И. А. Постная Триодь. СПб., 1910. Ш. Карсавин Л. П. Культура Средних веков. Киев, 1995.
- Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т.1. М., 1992.
- Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие православия в их творениях). М., 1994.
- Ш. Карташев A.B. Вселенские соборы. М., 1994.
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. (Вступ. ст. А. И. Сидорова. М., 1996 (Репринт, изд.: Париж, 1950).
- Киприан (Керн), архим. Духовные предки Святого Григория Паламы (Опыт мистической родословной). // Православная Мысль. 1942, № 4, сс.102−131.
- Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. М., 1995.
- Киприан (Керн), архим. «Олицетворение» Михаила Акомината. (К истории учения о человеке в Византии) // Православная Мысль, 1949, Вып. VIII, с.85 104.126,Клеман.О. Зундель, Бердяев и духовность восточного христианства. // Страницы. № 1, 1996, сс. 38−52.
- Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. / Пер. с фр. Г. В. Вдовиной. М., 1994.
- Ш. Климков О. С. Исихазм и цивилизация. // Философия и цивилизация. Материалы Всероссийской конференции 30−31 октября 1997 г. СПб., 1997, сс.130−133.
- Ш. Климков О. С. Православный исихазм и учение св. Григория Панамы. СПб., 1998.
- Климков О.С. Проблема телесности в антропологии исихазма. // Новые идеи в философии. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 7. Пермь, 1998, сс.176−178.
- Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991.
- Концевич И.М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. М., 1993.
- Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997. Ш. Кривушин И. В. Ранневизантийская церковная историография. СПб., 1998.
- Кулаковский Ю.А. История Византии: В 3-х тт. СПб., 1996.
- Культура Византии: IV первая половина VII в. М., 1984. Ш. Культура Византии: вторая половина VII—XII вв. М., 1989.
- Культура Византии: XIII первая половина XV в. М., 1991.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.
- Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века. СПб., 1997.
- Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви от конца XI до середины XV века. СПб., 1998.
- Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках. СПб., 1998.
- Лев Диакон. История. М., 1988.146Лепахин В., Умное делание.(о содержании и границах понятия «исихазм»), // Вестник русского христианского движения, № 164, сс.5 -32.
- Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872 1891). М., 1996.
- Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992.
- Леонтьев К.Н. О национализме политическом и культурном (письмо к Вл. С. Соловьёву). // К. Леонтьев, наш современник. СПб, 1993, с. 40 -119.
- Липшиц Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры: VIII первая половина IX века. М.: Л., 1961. Ш. ЛитавринГ.Г. Как жили византийцы. СПб., 1997.
- Литургия, архитектура и искусство византийского мира: Труды XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8−15 августа 1991) и другие материалы, посвященные памяти о. Иоанна Мейендорфа. (Византинороссика, т.1). СПб., 1995.
- Лойола И. Духовные упражнения. // Символ, № 26, 1991, сс. 15−121.
- Лосев А.Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. / Сост. и общая ред. A.A. Тахо-Годи. СПб., 1997.155.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930- М., 1993.
- Лосский ВН. Богословие света в учении св. Григория Паламы. // Журнал Московской Патриархии, 1968, № 3, сс. 76 77.
- Лосский В Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
- Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995.
- Лосский В.Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996.
- Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Дух, душа и тело. М., 1997.
- Лурье В.М. Публикации монастыря Бозе по истории исихастской традиции у греков и славян. // Византийский Временник, 1996, т.57 (82).
- Лурье В.М. Работы Антонио Риго по истории византийского исихаз-ма. // Византийский Временник, 1994, 55(80), сс. 232 236.
- Лурье В.М. Труды Роберта Синкевича по истории византийского исихазма. //Византинороссика, 1996, т. 2.
- Любарский Я.Н. Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978.
- Макарий Египетский. Духовные беседы. Репринт, изд.: М., 1994.
- Максим Исповедник, св. Творения. В 2-х кн. / Пер., вступ. ст. и комм. А. И. Сидорова. М., 1993.
- Марков Б.В. Разум и сердце. История и теория менталитета. СПб., 1993.
- Марков Б.В. Философская антропология. СПб., 1997.
- Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. СПб., 1999.
- Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV XV веков. Л., 1976- 2-е изд. СПб., 1997.
- Медведев И.П. Мистра. Очерк истории и культуры поздневизантий-ского города. Л., 1973.
- Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Изд. 2-е, испр. Вильнюс. М., 1992.
- Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris, 1990.
- Мейендорф И., прот. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. Изд. 2-е, испр. и доп. для рус. пер. / Пер. Г. Н. Начинкина под ред. И. П. Медведева и В. М. Лурье. СПб., 1997.
- Мейендорф И., прот. Православие и современный мир. Минск, 1995.
- Мейендорф И., прот. Предисловие к книге В. Лосского «Боговидение». //Богословскиетруды, сб.8, 1972, сс. 231 233.
- Меркурий, мон. В горах Кавказа. Записки современного пустынножителя. М., 1996.
- Мефодий Патарский. Полное собрание творений. Репринт, изд.: М., 1996.
- Минин П. Главные направления древне-христианской мистики. Сергиев Посад, 1916.
- Ш. Минин П. Мистицизм и его природа. Сергиев Посад, 1913. 183 Мистическое богословие. Киев, 1991.
- Модест (Стрельбицкий), игум. Святый Григорий Палама, митрополит Солунский, поборник православного учения о Фаворском свете и о действиях Божиих. Киев, 1860.
- Недетовский Г. Варлаамитская ересь // Труды Киевской Духовной Академии, 1872, февраль, сс. 316 357.
- Немесий Эмесский. О природе человека. М., 1996. Ш. Несмелов В. И. Наука о человеке. Тт.1 2. Казань, 1906. Ш. Николай Кавасила, св. Семь слов о жизни во Христе. М., 1874. (Репринт.: М., 1995).
- Новозаветное понятие праведности и святости по сравнению с классическим, раввинским, филоновским и ветхозаветным. // Богословский Вестник, 1912, октябрь, сс. 421 445. 190.Ориген. Против Цельса. М., 1996.
- Острогорский Г. А. Афонские исихасты и их противники. (К истории поздне-византийской культуры). // Записки Русского научного института в Белграде. 1931, Вып.5, сс.349−370.
- Остроумов М.А. История философии в отношении к Откровению. Харьков, 1886.
- Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Изд. Оп-тиной Пустыни, 1991.
- Отцы и учители Церкви III века. Антология. В 2-х тт. М., 1996.
- Памяти академика Федора Ивановича Успенского 1845 1928. П., 1929.
- Пантелеимон, иером. Антропология по творениям св. Иоанна Дама-скина. // Богословский Вестник, 1914, март, сс.475 498.
- Паскаль Б., Мысли. СПб., 1999.
- Петр (Пиголь), игум. Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999.
- Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2-х тт. СПб., 1912.
- Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов. Три очерка (Дмитрий Кидонис, Николай Кавасила, Алексиос Макремболи-тес). Екатеринбург, 1992- СПб, 1998.
- Попов И.В. Идея обожения в древней восточной Церкви. // Вопросы философии и психологии. 1909. Кн.97, сс. 165 213. 204. Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. Ш. Отделение первое, Киев, 1877- Отделение второе, СПб, 1892.
- Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1845 г. 4.1. Отд.1. Киев, 1877.
- Практическая Симфония для проповедников Слова Божия. / Сост. Г. Дьяченко. М, 1903 (Репринт: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992). 207. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб, 1998.
- Псе л л М. Богословские сочинения. / Предисл. архим. Амвросия. СПб., 1998.
- Пуссе Э. Введение к Духовным упражнениям. // Символ, № 26, 1991, сс.9−14.
- Рамм Б. Квиетизм. // Философская Энциклопедия, т.2, М., 1962, с. 487.21 б. Россия глазами русского. Чаадаев, Леонтьев, Соловьев. / Отв. ред. А. Ф. Замалеев. СПб., 1991.
- Рудаков А.П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917- 2-е изд.: СПб., 1997.
- Руло Ф. Святой Игнатий Лойола и восточная духовность. // Символ. 1991, № 26, сс. 195 -205.
- Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. СПб., 1996.
- Семеновкер Б.А. Библиографические памятники Византии. М., 1995.
- Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. Казань, 1898. (Репринт, изд.: М., 1991).
- Сидоров А.И. Архимандрит Киприан Керн и традиция православного изучения поздневизантийского исихазма. // Киприан (Керн), архим., Антропология св. Григория Паламы. М., 1996, сс. УШ-ЬХХУШ.
- Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М., 1998.
- Сидоров А.И. Курс патрологии: Возникновение церковной письменности. М., 1996.
- Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением догматов). Тт. 1−5, Киев, 18 781 891.
- Симеон Новый Богослов, св. Божественные гимны. Сергиев Посад, 1917. (Фототип. изд.: Нижний Новгород, 1989).
- Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Научный сборник под общей редакцией С. С. Хоружего. М., 1995.
- Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 1884.
- Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви. Киев, 1868.
- Смирнов С. Древне-русский духовник. Исследование по истории церковного быта. М., 1913.
- Смолич И. Жизнь и учение старцев. // Богословские труды. Сб.31. М., 1992, сс. 97 174.
- Соколов И. И. Варлаам и варлаамиты. // Православная Богословская Энциклопедия, т. П, СПб., 1902, сс. 149 157.
- Соколов И.И. Григорий Аникдин. // // Православная Богословская Энциклопедия, т. Ш, СПб., 1904, сс. 680 682.
- Соколов И.И. Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита. М&bdquo- 1904.
- Соколов И.И. О народных школах в Византии с половины IX до половины XV века. // Церковные ведомости, 1897, № 8.
- Соколов И.И. Рецензия на книгу проф. Григ. Папа-Михаила: «О ауюС, Грцуорю^ ПаХаца». // Журнал Министерства Народного Просвещения, 1913, апрель июнь.
- Соколов И.И. Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Его труды и учение об исихии. СПб., 1913.
- Соколов П.П. Рецензия на магистерскую диссертацию Ф. Владимирского «Антропология и космология Немезия, епископа Емесского» (Житомир, 1912). // Богословский Вестник. 1912. Журналы Совета Академии, сс.498−507.
- Соловьев B.C. Об упадке средневекового миросозерцания. // Он же. Сочинения, изд.2-е, т.2, М., 1990, сс.339−390.
- Сонни А. Михаил Акоминат автор «Олицетворение», приписываемого Григорию Паламе. // Византийский Временник, I. 1915, сс. 104 -116.
- Софроний (Сахаров), иеросх. Старец Силуан. М., 1991.
- Спасский А. История догматических движений в эпоху вселенских соборов (в связи философскими учениями того времени). Изд-е 2-е, Сергиев Посад, 1914. (Репринт: М. б.г.).
- Спивак Д.Л. Исихазм в потоке истории. // Язык и текст. СПб., 1992, сс. 22−26.
- Сырку П.А. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. Т.1. Вып. 1. СП6., 1890.
- Сюзюмов М.Я. Рецензия. // Византийский временник, 1963, т.23, сс.262−268.
- Творения древних отцов-подвижников: Св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блаж. Иперехий. / Пер., вступ. ст. и комм. А. И. Сидорова. М., 1997.
- Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. СПб., 1998.
- Трубецкой E.H. Смысл жизни. М., 1994.
- Уваров М.С. Архитектоника исповедального слова. СПб., 1998.
- Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.
- Умное делание. О молитве Иисусовой. Сборник поучений Святых отцов и опытных ее делателей. / Иг. Харитон. Сердоболь, 1936. (Репринт.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992).
- Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989.
- Успенский Л.А. Исихазм и гуманизм. Палеологовский расцвет. // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. № 58, 1967, сс.32−51.
- Успенский Ф.И. История византийской империи. В 3-х тт. Т.1. М., 1996- т.2. М., 1997- т.З. М&bdquo- 1997.
- Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1892.
- Успенский Ф.И. Синодик в неделю Православия: Сводный текст с приложениями. Одесса., 1893.
- Учение двенадцати апостолов. М., 1996.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990.
- Феодор, архим. (A.M. Бухарев). О духовных потребностях жизни. М., 1991.
- Феодорит Кирский. История боголюбцев. / Вступ. ст. и новый пер. А. И. Сидорова. М., 1996.
- Феофан (Говоров), еп. Ответы на вопросы инока относительно различных деланий монашеской жизни. Тамбов, 1894. Переиздание: // Символ, 1985, № 13, сс. 117 -203.
- Феофан (Говоров), en. Путь ко спасению. (Краткий очерк аскетики). Изд. 8-е, М., 1899 (Репринт изд. Московской Патриархии).
- Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. Репринт, изд.: М., 1996.
- Философская Энциклопедия. Тт. 1−5, М., 1960−1970.2бб Филофей, парт. Константинопольский. Житие и подвиги иже во святых отца нашего святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалони-кийского. / Изд. иером. Антония. Одесса, 1889.
- Флоренский П.А. Рассуждения на случай кончины отца Алексея Ме-чева // «Пастырь добрый». Жизнь и труды московского старца протоиерея Алексея Мечева. М., 1997, сс.583−602.
- Флоренский П. А., Сочинения. Т.1(Кн. 1−2): Столп и утверждение истины- Т. II: У водоразделов мысли. М., 1990.
- Флоринский Т. Византия и Южные славяне во второй половине XIV в. Вып. 1-Й, СПб., 1882.
- Флоровский Г. В. Византийские Отцы V—VIII вв.еков. Репринт, изд.: М., 1992.
- Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV-ro века. Репринт, изд.: М., 1992.
- Флоровский Г. В. Отцы первых веков. Кировоград, 1993.
- Флоровский Г., прот. Святой Григорий Палама и традиция Отцов // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. 1996. № 2/3 (9/10), с. 107 -116.
- Флоровский Г. В. Тайна Фаворского Света. // Сергиевские листки, № 3 (89), Париж, 1935.
- Хомяков A.C. Сочинения в 2-х тт. М., 1994.
- Хоружий С.С. Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция Православия. //Богословские труды, сб. 33, М, 1997, сс. 233 245.
- Хоружий С. С, Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении. М, 1991.
- Хоружий С.С. Исихазм в Византии и России: исторические связи и антропологические проблемы. И Страницы. № 2:1, 1997, сс.48−61
- Хоружий С.С. После перерыва. Пути российской философии. СПб, 1994.
- Хоружий С.С. Учение о человеке в православной аскетике. // Язык и текст: Онтология и рефлексия. СПб, 1992, сс 12 22.
- Христианство. Энциклопедический словарь: В 3-х тт. М, 1993. 283. Чалоян В. Византийская философия. // Философская энциклопедия, т.1.М, 1960, сс.256−257.
- Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М, 1991.
- Чистович. Древне-греческий мир и христианство в отношении к вопросу о безсмертии и будущей жизни человека. Историческое исследование. СПб, 1871.
- Шестов Л.И. Сочинения в 2-х тт. М, 1993.
- Штёкль А. История средневековой философии. СПб, 1996. 288. Экономцев И. Исихазм и восточно-европейское Возрождение. // Богословские труды, сб.29, М, 1989, сс. 59−73.
- Юнг К. Г. Бог и бессознательное. М, 1998.
- Юнг К. Г. Человеки его символы. М, 1998.
- Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека. // Юркевич П. Д. Философские произведения. М, 1990, сс. 69- 103.
- Яннарас X. Вера Церкви. Введение в православное богословие. М, 1992.200
- Яцимирский А.И. Византийский религиозный мистицизм XIV века перед переходом его к славянам // Странник, 1908, ноябрь, сс. 507 513- декабрь, сс.611 — 672.
- Christou P C. Double Knowledge according to Gregory Palamas. // Studia Patristica, v. IX, pt.3, 1966, p.20 29.
- Coffey D. The Palamite Doctrine of God: A New Perspective. // St. Vladimir s Theological Quarterly, 1988, v.32, № 4, p.329 358.
- Mantzaridia G.I. The Deification of Man. St. Gregory Palamas and the Orthodox Tradition. N.Y., 1984.
- Meyendorff J. Introduction a l’etude de Gregory Palamas. Paris, Sd. du Seuil. 1959.
- Ostrogorsky G. History of the Byzantine State. New-Jersy, 1969.