Правительственная политика и «крестьянский вопрос» до и после отмены крепостного права (1830-е — начало 1890-х гг.)
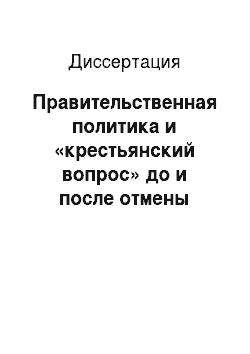
Структура диссертации строится по проблемно-хронологическому принципу. В первой главе характеризуется историография затрагиваемых проблем, подводятся итоги их изучения в отечественной и зарубежной литературе, дается детальная характеристика источниковой базы исследования. Вторая глава посвящена тому, как складывалась в первой половине XIX века система контроля над крестьянами со стороны… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Проблемы историографии и источниковедения правительственной политики в деревне
- 1. Историография
- 1. 1. Проблемы экономического развития российской деревни
- 1. 2. Община, менталитет крестьянства и их восприятие элитой
- 1. 3. Крестьянство, общественная мысль и правительственная политика в деревне до и после отмены крепостного права
- 1. 4. Компаративный контекст
- 2. Источники
- 1. Историография
- Глава 2. У истоков реформы
- Институты, практики, идеология
- 1. Действующие лица и институты: крепостная деревня
- 1. 1. Крестьянская община, уравнительность и тяглый характер крестьянского землепользования
- 1. 2. Топография, система вотчинного управления и идеология помещичьей власти
- 1. 3. Помещичьи крестьяне, государственная власть и налогообложение
- 1. 4. Межевание и фиксация границ поземельной собственности
- 2. Унификация и контроль: реформы в государственной деревне как проект и как реальность
- 2. 1. «Либеральная дисциплина», индивидуализм и задачи государства: идеология реформы
- 2. 2. Кадастр и налогообложение
- 3. Новый этос, новые идеи
- 3. 1. Символ знания и контроля: статистика
- 3. 2. Открывая давно знакомое: крестьянская община
- 1. Действующие лица и институты: крепостная деревня
- 1. Противоречия и парадоксы эпохи «оттепели»
- 2. Интересы, страхи и расчеты: «семантика» и «прагматика» реформы
- 3. Министерство государственных имуществ как модель и антимодель реформы
- 4. Контроль или автономия? Вопрос об административном устройстве в деревне накануне 1861 г
- 5. Финансовые, фискальные и правовые аспекты отмены крепостного права в Редакционных комиссиях
- 1. Первые итоги
- 2. Состав и эволюция органов «наблюдения» за крестьянством
- 3. «Крестьянин-собственник» и административно-правовые реалии
- 3. 1. Реформы в удельной и государственной деревне
- 3. 2. Межевание и права собственности
- 3. 3. Община, выкупные платежи и кадастр
- 4. Политическая борьба, общественные инициативы и проблема информации
- 4. 1. «Аристократическая партия» и ее противники
- 4. 2. Первая попытка комплексного анализа
- 1. Продолжение или «исправление» реформ?
- 1. 1. Идеологический поворот в общественном мнении второй половины 1870-х гг
- 1. 2. Административная реформа и нужды крестьян
- 2. «Новый курс» правительства Александра III в «крестьянском вопросе» и попытки его воплощения
Правительственная политика и «крестьянский вопрос» до и после отмены крепостного права (1830-е — начало 1890-х гг.) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность исследования. Отмена крепостного права в 1861 г., по общему признанию, была ключевым событием в истории Российской империи. Огромное значение крестьянской реформы обуславливалось прежде всего тем, что она стала поворотным пунктом на пути превращения традиционной сословной монархии с типичными для нее внеэкономическими формами принуждения и контроля и невысокими темпами экономического роста в бурно, хотя и очень противоречиво развивающуюся по пути модернизации страну. В этом смысле отмена крепостного права являлась условием и этапом на пути коренной перестройки административных, правовых и социально-экономических институтов, становления новых форм общественного сознания и культуры. Эта фундаментальная особенность крестьянской реформы — ее, выражаясь современным языком, системный, структурообразующий характер — до сих пор изучена далеко не в полной мере.
На протяжении очень долгого времени любые реформы, как правило, интерпретировались в исторической науке (не только марксистской) как вынужденная реакция власти на внешнее давление (будь то экономический кризис, обострение политической обстановки или борьба масс). Такая интерпретация во многом справедлива и недаром до сих пор сохраняет свое влияние: реформы, и отнюдь не только в России, почти всегда воспринимаются как скорее запаздывающие, чем опережающие меры, как ответ на разного рода кризисы. Однако подобное восприятие, сколь бы влиятельным оно ни было в общественном сознании, с научной точки зрения имеет очень важный изъян: оно затушевывает долговременные трансформационные процессы разного уровня и характера, динамика которых имеет собственную логику, далеко не всегда совпадающую с ситуативными «требованиями момента».
Иначе говоря, непосредственная разработка и принятие реформ зачастую отодвигают в тень длительный процесс их «вызревания». Это соображение относится и к отмене крепостного права. Конечно, в историографии существует немало качественных исследований предыстории крестьянских реформ, авторы которых, как правило, анализируют разнообразные бюрократические и общественные проекты отмены крепостного права. Однако не столь заметным институциональным трансформациям, правовой, административной и экономической инфраструктуре, которые задавали пределы возможного в реализации любых самых амбициозных проектов, уделяется гораздо меньше внимания.
Крестьянская реформа 1861 г. была не просто отменой крепостного права, то есть не просто личным освобождением крестьян, и даже не просто «освобождением крестьян с землей». И освобождение, и обеспечение крестьян наделами автоматически ставили множество стратегических и тактических вопросов. Кем должен стать свободный крестьянин — рационализированным фермером, ориентированным на рынок, или патриархальным членом общины и носителем «исторических традиций»? Должно ли это его становление проходить под бдительным контролем власти или само собой, «естественно»? Соответственно, кто должен распоряжаться землей: отдельные домохозяева, сельские общества (общины), или ни те, ни другие, а само правительство? Является ли наделение землей единовременным актом или государство и в дальнейшем будет так или иначе обеспечивать ею крестьян по мере роста их численности и препятствовать потере ими наделов?
Ответ на все эти вопросы, а значит, и судьба реформы, прямо зависели не только от идеологических приоритетов власти (и общества), но и от того, что на современном языке обозначается понятием «инфрастуктура». Могли ли, несмотря на все желание реформаторов, появиться миллионы собственников-крестьян в стране, где даже для дворянства не было надежной системы регистрации собственнических прав (по нынешней терминологии — земельного кадастра1)? В стране, где государство в деревне еще и в начале XX в. имело дело не с отдельным налогоплательщиком, а с объединением их в принудительные коллективы, которые сами распределяли налоговую нагрузку по непрозрачному и не подлежащему контролю обычному праву? Где профессионального землемера боялись как опасного «барского» агента? Где не существовало сколько-нибудь надежной сельскохозяйственной статистики? Где имущественные споры решал суд, состоявший из неграмотных крестьян? Где до ближайшего представителя власти нужно было добираться порой не один день? Список этих риторических вопросов можно без труда продолжить. Все они имеют отношение именно к инфраструктуре (точнее, ее отсутствию) в русской деревне.
Термин «инфраструктура» нуждается в некоторых пояснениях. Он стал широко применяться в экономической науке в 1940;50-х гг., в пору становления теории модернизации2. В рамках этой теории он обозначал систему условий, институтов и физических объектов (например, железных дорог), обеспечивающую осуществление экономических трансакций, т. е., в сущности, функционирование всей рыночной структуры (системы). В социалистической экономике, где рынка не было, в интерпретации инфраструктуры упор делался не на трансакциях, а на «производстве», и выделялись два вида инфраструктуры: производственная (физические обекты) и социальная (образование, здравоохранение и т. п.). В современной западной экономической науке принято выделять (по аналогии с компьютерной отраслью) «hard infrastructure» (физические объекты) и «soft infrastructure».
1 В XIX в. под кадастром имелась в виду, несколько иная процедура: установление доходности и/или ценности земли в фискальных целях. Регистрация же титула собственности производилась в Европе с помощью «земельных» или «ипотечных книг» (упорядочение такой регистрации, тесно связанной с возможностью частноправового залога, порой именовалось «введением ипотечной системы» — в России в значении «земельный» часто употреблялся термин «вотчинный»). Подробнее все эти сюжеты будут рассмотрены в основной части диссертации.
2 См., например: Jochimsen R. Theorie der Infrastruktur. Tubingen, 1966. soft" буквально означает в данном контексте «программное обеспечение»). Под последней понимаются главным образом институты, обеспечивающие функционирование правовой, административной, финансовой, образовательной, медицинской систем, а также системы общественной безопасности. Признается, что ключевую роль в создании и поддержании такой институциональной инфраструктуры должно играть государство. Однако в этом деле участвует и гражданское общество. В зависимости от национальной традиции роль государства может признаваться доминирующей (как во Франции) или скорее периферийной (как в США), соответственно варьируются и представления о том, что именно важно для институциональной инфраструктуры3.
Новые смыслы понятию «инфраструктура» придал известный британский социолог Майкл Манн, который в своих работах ввел понятие «инфраструктурная власть», противопоставляя ее «деспотической власти». По Манну, инфраструктурная власть отражает способность государства проникать в повседневную жизнь граждан и с помощью взаимодействия с отдельными гражданами обеспечивать релизацию общегосударственных задач на всей территории страны. Согласно этой логике, государство усиливает свою инфраструктурную власть, делая полезными и необходимыми для граждан регулярные контакты с ним. Если деспотическая власть предполагает внешние по отношению к обществу доминирование и контроль государства, то «инфраструктурная» — управление и контроль через общество, посредством проникновения в саму ткань общественных отношений4. По.
3 Так, Уильям Нисканен выделяет в качестве трех элементов «soft infrastructure» для рыночной экономики систему права, публичную финансовую отчетность и культурные установки. В США первые два института лишь с известными ограничениями могут быть отнесены к компетенции государства (последнее же не имеет к ней вообще никакого отношения). См. Niskanen W.A. The soft infrastructure of a market economy // Cato Journal. Vol. 11. № 2 (Fail 1991). P. 233−238.
4 Mann M. The autonomous power of the state: its origins, mechanisms, and results // Archives europeenes de sociologie. Vol. 25. 1984. P. 185−213.
Манну, два типа власти не существуют нигде в чистом виде, но в разных своих сочетаниях. Понятно, что в принципе модернизация означает рост инфраструктурной власти за счет деспотической.
В Российской империи роль государственной власти в создании (или отказе от создания) институциональной инфраструктуры была огромной. Применительно к тематике и целям данной работы, то есть к взаимодействию правительства с российским крестьянством, представляется целесообразным выделить, прежде всего, несколько сфер, где создание и поддержание институциональной инфраструктуры целиком зависело от государства и могло быть осуществлено только его усилиями и с его санкции. Прежде всего, это сфера местной администрации и правовой системы — то, что на языке современной политологии и экономической науки называется «law enforcement» (обеспечение правопорядка). Здесь имеется в виду не столько полицейский правопорядок, сколько гарантии гражданских правоотношений и в первую очередь прав собственности. Именно они, согласно современным представлениям, играют ключевую роль в обеспечении экономического роста, и именно благодаря им Европа Нового времени получила ощутимое преимущество не только в темпах, но и в качестве такого роста5.
Обеспечение таких прав в деревне в условиях господства обычного права требовало колоссальных усилий не только правового, но и административно-технического характера. Иначе говоря, недостаточно было объявить крестьян «собственниками» своих наделов, как это произошло в 1861-м и последующих годах (по мере перехода их на выкуп). Требовались масштабное проникновение государства в жизнь деревни, проведение межевания, земельного кадастра, обеспечение действия общегражданских законов, налоговая реформа с отменой круговой поруки и индивидуализацией обложения, и многое другое. Вплоть до начала XX в. ничего этого не делалось, а.
5 См. об этом: North D., Thomas R.P. The rise of the western world. A new economic history. Cambridge, 1973; North D. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge, 1990. по многим компонентам не было сделано вплоть до 1917 г. (и, само собой, потом). Вместе с тем данная работа отнюдь не имеет характера очередного «обвинительного акта» против самодержавного правительства. Скорее она нацелена на выявление объективных и субъективных причин и обстоятельств, по которым важнейшие административно-правовые преобразования в деревне не состоялись ни в начале 1860-х гг., с отменой крепостного права, ни много позже.
В целом за пределами работы останутся такие также очень важные компоненты институциональной инфраструктуры в деревне, как системы образования, здравоохранения, агротехнической помощи. Во многом это объясняется тем, что эти вопросы очень масштабны и заслуживают отдельного анализа, а отчасти и тем, что по крайней мере с введением земских учреждений в 1864 г. компетенция по ним была во многом передана правительством в руки земствпо агротехническим же вопросам она и до этого во многом находилась в руках общественных структур (обществ сельского хозяйства и др.).
В пояснениях нуждается также вынесенное в название данной работы и широко употребляемое в ней понятие «крестьянский вопрос», а также терминологически и концептуально связанное с ним понятие «крестьянская реформа». Прежде всего, следует подчеркнуть, что оба понятия широко употреблялись в XIX в. именно для обозначения комплекса проблем, связанных сначала с «урегулированием» и/или отменой крепостного права, а после его отмены — с попытками государства и общества сформулировать и реализовать программу социально-экономической политики в деревне. Именно в таком значении эти понятия употребляются и в данной диссертации. Само по себе освобождение крестьян («эмансипация», по тогдашней терминологии), как уже отмечалось, было лишь одним из элементов этого комплекса и оно не только не разрешило, но во многих отношениях еще более усложнило и запутало социальную ситуацию в деревне, а также отношения между крестьянами, с одной стороны, помещиками и государствомс другой.
В европейской и мировой политической практике и науке и в XIX, и в XX—XXI вв. более распространенными были и остаются термины «аграрный вопрос» и «аграрная (или, как вариант, — «земельная») реформа"6. На мой взгляд, эти последние понятия шире и имеют более современные коннотации, ассоциируясь, прежде всего, с радикальными аграрными реформами XX в. В контексте российской истории XIX в. эпитет «крестьянский» представляется более органичным и точнее отражающим историческую специфику постановки аграрного вопроса, связываемого в то время, прежде всего, с судьбой крестьянства.
Практически все проблемы деревни, которые десятилетиями пытались решить власть и общественность, можно описать в терминах рационализации и контроля7. Попытки перестроить, упорядочить жизнь крестьян или хотя бы сферу их взаимодействия с государством вновь и вновь выдвигали на первый план одни и те же вопросы. Главными из них и в начале, и в конце XIX в. были землеустройство и налогообложение — наиболее технологически сложные аспекты аграрного вопроса в любом обществе. Самодержцы и министры сменяли друг друга, прогрессисты одерживали триумф над реакционерами (и наоборот), но архаичные системы землепользования, регистрации поземельных прав и распределения налогового бремени с успехом сопротивлялись любым попыткам их изменить. Может быть, поэтому историки обращали на сами эти попытки так мало внимания? Но ведь.
6 См.: Lipton М. Land reform in developing countries. Property rights and property wrongs. Cambridge, 2009; Долбилов М. Д. Аграрный вопрос // Общественная мысль России XVIII — начала XX в. Энциклопедия. М., 2005. С. 11−15.
7 Концепция рационализации как основы социальной и политической трансформации европейских государств в Новое время была сформулирована еще Максом Вебером. В дальнейшем она была развита многими историками и социологами в рамках анализа генезиса современного «социального государства» (нем. Sozialstaat, англ. Regulatory state). См. об этом, например: McCormick J.P. Weber, Habermas, and transformations of the European state: constitutional, social, and supranational democracy. Cambridge, 2007. P. 3−15. простая логика требует скорее обратного: видимо, именно здесь следует искать камень преткновения в осуществлении разнообразных крестьянских реформ. Понять эти реформы без изучения технологий межевания, кадастра, податного дела и проч., на мой взгляд, просто невозможно.
Однако изолированный анализ инфраструктурных проблем вряд ли способен объяснить зигзаги правительственного курса. Он помогает понять, почему не воплощались самые благие (или наоборот — самые реакционные) замыслы, но не как появлялись сами эти замыслы. Для этого нужен развернутый анализ идеологического пространства, в котором в разное время разворачивалось «проектирование» крестьянской реформы.
Со времени первого масштабного приступа правительства к решению крестьянского вопроса в 1830-х гг. и до окончания «контрреформ» в середине 1890-х гг. в России, как и по всей Европе, одни политические и социально-экономические доктрины входили в моду, другие объявлялись устаревшими и негодными. Классический и «социальный» либерализм, «старая» и «новая» исторические школы, социализм разных видов, позитивизмсписок «измов» можно продолжить. Кроме того, в него необходимо включить такие специфически российские течения, как славянофильство и народничество. Каждая доктрина предполагала определенное отношение к «крестьянским» проблемамвсе они оказывали большое и неоднозначное влияние на правительственную политику. Между тем в историографии до сих пор практически нет работ, в которых систематически анализировалось бы влияние идеологии на реформы в аграрной сфере, начиная с программы М. М. Сперанского и П. Д. Киселева и заканчивая столыпинскими преобразованиями. Можно ли выстраивать все эти начинания в единую «модерни-заторскую» линию аграрной политики или они скорее противоречили друг другу? Аргументированный и развернутый ответ на этот вопрос сложно найти даже в общих работах по истории имперской России.
На мой взгляд, предпосылки, смысл и результаты правительственной политики в отношении крестьянства нельзя оценивать, анализируя по отдельности замыслы реформаторов и объективные социально-экономические предпосылки и итоги реформ. Субъективный уровень «планирования» и уровень «объективной реальности» в историографии, как правило, существуют изолированно друг от друга. Проектами традиционно занимается по-^| литическая история и история идей, экономические предпосылки и резуль- / таты подсчитывают социально-экономические историки. «Мостиком» меж- ^ ду двумя историографическими направлениями и может стать анализ, с одной стороны, институционального, а с другой — идеологического контекста реформ, проводимых властью в отношении крестьянства. ^.
Предлагаемый в настоящей работе подход обуславливает также хронологические рамки исследования;
Прежде всего, крестьянская реформа предстает, как уже отмечалось, не одномоментным эпохальным актом (и даже не серией законов, принятых в 1861, 1863 и 1866 гг.), а длительным процессом, суть которого определялась сложным переплетением политических, экономических, институциональных и идеологических факторов. Говоря в этом контексте о «подготовке реформы», следует учитывать не только непосредственную разработку «Положений 19 февраля 1861 года», и не многолетнее обсуждение разнообразных проектов по крестьянскому вопросу в царствование Александра I и в Секретных комитетах Николая I, а формирование институциональной среды, инфраструктуры, являвшейся необходимым условием для ее осуществления. Никакой самый масштабный и амбициозный проект (а таковых в первой половине XIX в. были составлены десятки) не заменял такой среды и не имел шансов на реализацию без ее появления. С другой стороны, пра-вовавая и административная инфраструктура просто не могла появиться за несколько лет, предшествовавших отмене крепостного права и следовавших за ней. Это означает, что при анализе подготовки реформы 1861 г. назрела необходимость, во-первых, выйти за пределы 1856−1861 гг. и, во-вторых, не ограничиваться «эмансипационными» проектами в узком смысле этого понятия и попытаться поставить крестьянскую реформу в более широкий контекст.
В работе обосновывается та точка зрения, что фактически институциональная подготовка реформы стартовала в 1830-е гг. и была связана с созданием и деятельностью Министерства государственных имуществ, а также началом в империи так называемого специального межевания, целью которого была рационализация и индивидуализация институтов землевладения и землепользования. Обе эти инициативы находились в самой непосредственной связи друг с другом и являлись звеньями единого плана правовой реформы в сфере недвижимой собственности, разработанного М. М. Сперанским. Другими составляющими этого плана были идеи налоговой реформы в государственной деревне (переложения податей и оброков с души на землю), а также разрушения общины и развития хуторских хозяйств. Анализ этих проектов, не рассматривавшихся до сих пор в контексте отмены крепостного права, позволяет совершенно по-новому взглянуть не только на правительственную политику второй четверти XIX в., но и на основные параметры реформы 1861 г. Именно поэтому нижней хронологической границей выступают в настоящей работе 1830-е гг., хотя при изложении некоторых важных тенденций и событий приходится порой обращаться и к более раннему времени.
Верхняя же временная граница (начало 1890-х гг.) обусловлена тем, что именно в это время были приняты ключевые законодательные акты в аграрной сфере (прежде всего, закон о неотчуждаемости надельных земель 1893 г.), которые как бы подводили итог антилиберальной политике 1880-х гг. и одновременно знаменовали собой начало почти десятилетнего периода бездействия правительства в аграрной сфере. Подобно тому, как анализ подготовки реформы 1861 г. потребовал выхода за пределы непосредственной разработки «Положений 19 февраля» и обращения к гораздо более ранним событиям, так и при анализе хода и итогов отмены крепостного права необходимо было обратиться не только к событиям 1860−1870-х гг., когда реформа формально находилась в стадии реализации, но и к последующему периоду конца 1870-х — начала 1890-х гг., известному как период «контрреформ».
Не выйдя за пределы эпохи Великих реформ (1860-е — середина 1870-х гг.), невозможно понять причины «пробуксовки» реформы, объективные и субъективные сложности в осуществлении замыслов ее авторов. Дело в том, что в первые 10−15 лет после принятия реформы споры о ее дальнейшей судьбе звучали не очень громко и правительство, не желая затрагивать болезненные и неясные проблемы, по мере возможности избегало возбуждения дискуссий. Неудивительно, что ни в мемуарах, ни в исследованиях внутренней политики того времени эти сюжеты почти не отразились. Конечно, это не значит, что они не имели значения. Напротив, не всегда приметные внешним наблюдателям действия (и бездействие) центральных и местных органов власти форматировали реформу, направляли ее в определенное русло. Ситуативные решения, рутинные заботы, повседневная бюрократическая практика были порой не менее «судьбоносны», чем громкие декларативные заявления. Однако в полной мере важнейшие тенденции 1860−70-х гг. развернулись уже в более позднее время, что и обусловило необходимость включения его в сферу анализа.
Территориальные рамки исследования. Основное внимание уделяется в работе великорусским губерниям, на территории которых существовала передельная крестьянская община, традиционно являвшаяся важнейшим объектом внимания правительственных и общественных кругов. Вместе с тем, в исследовании затрагивается и политика в отношении западного региона империи (нынешняя территория Украины, Белоруссии и Литвы), где исторически сложились иные, подворные формы землепользования. За пределами анализа остались те части империи (Кавказ и Закавказье, Царство Польское, Финляндия, Средняя Азия, Бессарабия, Остзейские губернии), где на всем протяжении рассматриваемого периода социально-экономические и административно-правовые структуры в деревне обладали ярко выраженной региональной и национальной спецификой, требующей отдельного анализа.
Объектом данного диссертационного исследования является государственная политика Российской империи в отношении российского крестьянства в 1830—1890-е гг. Правительственная политика рассматривается с точки зрения как артикулировавшихся ее творцами задач и идеологических приоритетов, так и повседневной, рутинной деятельности правительства.
Предметом исследования является генезис и эволюция стратегии и тактики крестьянской реформы (т.е. комплекса проблем, связанных сначала с «урегулированием» и/или отменой крепостного права, а после его отмены — с попытками государства и общества сформулировать и реализовать программу социально-экономической политики в деревне).
Цели диссертационного исследования заключаются в выявлении всей совокупности социальных, политических и идеологических факторов, влиявших на государственную политику в деревне на протяжении нескольких десятилетий, предшествовавших отмене крепостного права и следовавших за ней, в реконструкции содержания и эволюции этой политики в ее неразрывной связи с развитием общественного мнения по данному вопросу.
И в 1830—1850-х гг., т. е. в период подготовки реформы, и особенно после ее принятия в 1861 г. представления о целях политики в деревне и задачах реформы были очень разнообразны и изменчивы. Историки и аналитики привыкли рационализировать процесс принятия и реализации политических решений. Очень часто принимается как нечто само собой разумеющееся, что эти решения основывались на объективных данных и «осознанной необходимости» перемен. Но это далеко не единственно возможный сценарий.
Анализ правительственной политики свидетельствует, что совсем не всегда в ее основе лежали отчетливо осознававшиеся «верхами» цели, а механизм выработки и принятия решений был прозрачен и рационален. На самом деле представление «образованного общества» о крестьянстве не было ни ясным, ни рациональным, а язык административной и хозяйственной целесообразности, употреблявшийся в бюрократической среде, часто лишь прикрывал незнание, предрассудок или идеологическую догму. И если на отрезках времени в несколько лет во внутренней политике и могло выстраиваться некое подобие стратегии решения крестьянского вопроса (так было, в частности, во второй половине 1830-х гг., в 1859−61, 1879−81 гг.), то в более продолжительной перспективе следует говорить не о какой-то одной или даже нескольких стратегиях, а скорее о череде отдельных приступов к решению сложных проблем крестьянства, неизменно сопровождавшихся колебаниями и половинчатыми решениями. Тем не менее эта половинчатость и непоследовательность курса власти заслуживает самого тщательного анализа, поскольку в ней, как в зеркале, отражались и инфраструктурные проблемы российских экономики, права и администрации, и постоянные метания власти и общественного мнения между патернализмом и ставкой на инициативу и самоорганизацию масс.
Причины и смысл этих колебаний до сих остаются для историков достаточно неясными. Почему через три десятилетия после принятия реформы, которая провозглашала превращение крестьян в собственников наделов, правительство окончательно пересмотрело эту цель и провозгласило, что наделы ни в коем случае не должны рассматриваться как собственность крестьян? Не ответив на этот вопрос, невозможно понять и того, почему еще через полтора десятилетия уже забытая было цель вновь оказалась приоритетом во время столыпинской реформы.
С другой стороны, следует иметь в виду, что реальная степень контроля власти за происходящим в деревне отнюдь не была производной от установок и приоритетов бюрократии и общественного мнения. Реализация этих установок и приоритетов, будь они патерналистскими или либеральными, действительно требовала активного вмешательства бюрократии в жизнь крестьян. Однако на этом пути и власть, и общественники сталкивались с труднопреодолимыми препятствиями инфраструктурного характера. Оказывалось, что у власти просто нет рычагов реального воздействия на крестьянство. Попытки создать их предпринимались и в либеральную эпоху Великих реформ, и в консервативную эпоху «контрреформ», но оставались достаточно безуспешными, поскольку вплоть до столыпинской реформы не выходили за пределы традиционных подходов и финансирования по «остаточному» принципу.
В этом контексте можно сказать, что в центре данного исследованиядва переплетающихся сюжета: с одной стороны — представления правительственных и общественных кругов об «идеальном крестьянине» и о том, как его создать, а с другой — правовые и административные реалии в русской деревне, которые с успехом «сопротивлялись» любым переменам.
Конкретные исследовательские задачи, решаемые в диссертации, можно сформулировать следующим образом:
— проанализировать институциональную среду, сформировавшуюся в русской деревне (как в помещичьей, так и в государственной) и вокруг нее к середине XIX векаопределить направление эволюции правовых, административных, социальных институтов в десятилетия, предшествовавшие отмене крепостного прававыявить роль государства в данной эволюциивыяснить, в какой мере эти институты делали возможным осуществление проектов реформ, которые разрабатывались в правительственной среде;
— показать роль межевых, землеустроительных, статистических и фискальных практик и технологий в подготовке почвы для крестьянской реформы;
— проанализировать идеологический контекст политики власти в деревне в первой половине XIX в., выявив в нем либерально-экономические и патерналистские элементы, европейские влияния и специфически российские идейные компоненты;
— всесторонне осветить эволюцию представлений элиты о крестьянской общине от восприятия ее как тормоза на пути развития сельского хозяйства до идеализации ее как основы уникального российского пути развития;
— проанализировать подготовку и содержание «Положений 19 февраля 1861 года» сквозь призму их правового и инфраструктурного содержанияпоказать, какую роль играли идеологические факторы и технологические проблемы в том, что крестьянская реформа оказалась половинчатой и непоследовательной;
— детально описать и охарактеризовать состав и эволюцию органов власти, существовавших в русской деревне в 1860—1880-х гг., а также соприкасавшихся с крестьянством и его проблемами;
— проанализировать ход реализации реформы в 1860−70-е гг., трудности правового и административного характера, возникавшие при этомпроследить взгляды ключевых правительственных деятелей на ход «крестьянского дела" — определить позицию основных ведомств, занимавшихся крестьянскими проблемами и роль межведомственной конкуренции в эволюции правительственного курса в деревне;
— локализовать хронологически, выявить причины и обстоятельства перелома в настроениях бюрократической и общественной элиты по поводу судьбы реформы (перехода от либерально-фритредерской к патерналистской модели);
— проанализировать идеологический смысл, содержание и значение «контрреформ» Александра III в аграрной сфере.
Следует уточнить, что в задачи настоящей работы не входят ни анализ социально-экономической эволюции крестьянского хозяйства в дои пореформенное время, ни всесторонняя характеристика общественного мнения по «крестьянскому вопросу». Это отдельные и очень масштабные темы. Состояние их современной историографии подробно охарактеризовано в первой главе диссертации с тем, чтобы рассматриваемые в дальнейшем вопросы правительственной политики в деревне получили адекватное место в более широком историческом и историографическом контексте. Поскольку правительственная политика находилась в постоянном взаимодействии с общественным мнением, состояние последнего также является предметом анализа в диссертации, но именно с точки зрения его воздействия на курс власти, а не как самостоятельный сюжет.
Методология. Настоящее диссертационное исследование основано прежде всего на общих принципах историзма, научной объективности и системности. Первый из них предполагает рассмотрение институтов, явлений и процессов в их социальном и историческом контексте. Применительно к рассматриваемой тематике это означает анализ правительственной политике по «крестьянскому вопросу» исходя не из абстрактных представлений о ее справедливости, обоснованности и эффективности, а из конкретных и меняющихся условий той или иной эпохи. Именно требованиями историзма обусловлены цели данной работы: проанализировать реформу как длительный процесс формирования ее программы, идеологии и институциональной среды, а также реализации этой программы в динамично менявшихся условиях пореформенной эпохи. Тесно взаимосвязанные принципы объективности и системности предполагают оценку исторических явлений в их взаимной связи и взаимообусловленности, отказ от любых форм монокаузальности и редукционизма. Они близки к разработанному французской школой.
Анналов" понятию «тотальная история». Правительственная политика в деревне и ее продукт — крестьянская реформа, с этих позиций, не были детерминированы какой-либо одной группой факторов (классовыми интересами, государственными потребностями, политической ситуацией, идеологическими установками «верхов», институциональной средой), а являлись результатом сложного взаимодействия их всех. Разумеется, в рамках того или иного исследования в аналитических целях возможны акцентирование и преимущественный анализ тех или иных факторов, но это не означает, что значение прочих было несущественным.
Данная работа написана также с учетом целого ряда методологических подходов и достижений современных социальных наук. В частности, мой анализ основывается на признании решающего значения институтов в социально-экономическом развитии, которое сложилось в современной экономической науке благодаря неоинституциональной теории. Признание огромной роли идеологического фактора в формировании государственной политики Нового времени базируется на современных подходах к государ-ствоведению (М. Фуко и его последователи, Дж. Скотт и др.). Представление о России как части единой, хотя и многообразной европейской культуры и цивилизации и, соответственно, анализ российских социально-политических процессах в общеевропейском контексте является итогом компаративистской революции, произошедшей в последние несколько десятилетий в гуманитарных и социальных науках, результатом которой стало понимание ограниченности национальной перспективы в изучении исторических явлений и необходимости рассматривать их в более общей континентальной и глобальной перспективах.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем:
1. Впервые в историографии проведен комплексный анализ генезиса и эволюции правительственной программы крестьянского вопроса на протяжении нескольких десятилетий, предшествовавших и следовавших за отменой крепостного права. Тем самым показано, что значение и особенности крестьянской реформы могут быть поняты, только если она рассматривается как длительный и противоречивый процесс модернизации административных и правовых институтов, существовавших в российской деревне.
2. Выявлена роль государственной власти в создании и поддержании институциональной среды, определявшей как успехи, так и неудачи на пути реформирования сельского хозяйства и социальных отношений в деревнедоказано ключевое значение в этих процессах таких прежде недооценивавшихся в исторической литературе направлений государственной политики, как межевание, землеустройство, земельный кадастр, преобразование налоговой системы, правовое оформление титула собственности.
3. Обосновано принципиально новое понимание проблемы правопорядка в деревне, недостаток которого был главным препятствием на пути реформы. Показана решающая роль институциональных (а не политических, как считалось прежде) факторов в формировании этого правопорядка.
4. Впервые в историографии выявлена роль идеологического фактора в правительственной политике по «крестьянскому вопросу» на всем протяжении рассматриваемого периода. Продемонстрировано, как на курс власти влияли идеологически обусловленные и менявшиеся представления правительственных и общественных кругов о «нормальном» крестьянине, о роли государства в регулировании экономики и о задачах социальных реформ.
5. Обоснован вывод о глубокой взаимозависимости правительственной политики и состояния общественного мнения. В результате показаны схематизм и идеологическая обусловленность традиционного представления о непреодолимой пропасти, разделявшей «власть» и «общественность» в России XIX в. Выявлена ключевая роль института «экспертов» как канала коммуникации между бюрократическими и общественными кругами в процессе формирования правительственного курса в крестьянском вопросе.
6. Впервые в историографии дан детальный анализ системы административно-судебных органов, оперировавших в российской деревне на протяжении 1830−1890-х гг.- показаны ход и трудности их реформирования.
7. Воссозданы исторические предпосылки и контекст столыпинской аграрной реформыобоснован тезис о том, что основные ее положения были сформулированы задолго до начала XX в., а многие — еще до отмены крепостного права. Выявлены причины, по которым эти положения не были реализованы.
8. Введено в научный оборот большое количество архивных материалов из фондов государственных и общественных учреждений, правительственных и общественных деятелей.
Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке учебных пособий, лекционных курсов и обобщающих трудов по российской истории и социально-политической истории Европы Нового времени. Комплексный подход к реформам с использованием институционального, идеологического и политического анализа может быть применен при рассмотрении реформ в иных переходных периодах российской историион также призван способствовать осмыслению общих закономерностей и типологии реформаторских и модернизационных процессов на стыке истории, политологии, экономики и социологии.
Основные положения, выносимые на защиту: 1. Систематическая подготовка аграрной реформы началась в России в 1830-х гг. и была связана с именами крупнейших государственных деятелей того времени — М. М. Сперанского и П. Д. Киселева. По своему содержанию программа Сперанского была существенно шире решения проблемы крепостного права. Она базировалась на идее рационализации и правовой регламентации недвижимой собственности с помощью общего межевания помещичьих, казенных и крестьянских земель, кадастра и перехода к поземельному обложению, а также индивидуализации землепользования. Такой подход предполагал широкое развитие новых административных и юридических институтов и технологий.
2. Несмотря на то, что план Сперанского в ходе его реализации Министерством государственных имуществ П. Д. Киселева и межевыми органами империи подвергся существенной ревизии и был раздроблен на отдельные мало связанные друг с другом меры (специальное межевание, киселевский «кадастр», попытки насаждения хуторов в среде казенных крестьян и т. д.), он в значительной степени продолжал определять курс правительства в деревне в 1840-х и в начале 1850-х гг. Новое поколение столичных чиновников из министерств государственных имуществ и внутренних дел добавило к рационализму и индивидуализму Сперанского позитивистскую идею «научной» верификации бюрократических процедур, положив начало развитию современной аграрной статистики. Вместе с тем некоторые из этих новшеств (статистика, насаждение хуторов) не выходили в царствование Николая I за пределы экспериментов, а реализация других (кадастра, налоговой реформы, межевания), хотя и проводилась в масштабах империи, но к 1850-м гг. явно зашла в тупик из-за своей непоследовательности и половинчатости.
3. Политика правительства по отношению к крестьянству стала еще менее последовательной после «открытия» элитой крестьянской передельной общины благодаря трудам А. фон Гакстгаузена, славянофилов и отчасти А. И. Герцена. Прежняя рационалистическая парадигма решения крестьянского вопроса стала уступать место новой, историцистки-романтической. Начало этой идеологической трансформации пришлось на конец 1840-х гг., а завершение состоялось уже в начале 1880-х гг. Таким образом, непосредственная подготовка и реализация реформы 1861 г. совпали со временем постепенного, но неуклонного падения популярности классической экономической доктрины с ее индивидуализмом, универсализмом и ставкой на саморегулирующийся рынок. Это обстоятельство наложило неизгладимый отпечаток и на реформу 1861 г., обусловив ее концептуальную противоречивость и компромиссность.
4. Особенно отчетливо эта противоречивость проявилась в том, как «Положения 19 февраля» решали правовые и административно-фискальные проблемы, связанные с выкупом и организацией обложения крестьянства. Наделявшиеся в момент перехода на выкуп громким титулом «собственников», на деле крестьяне не получали ни одного из прав, связанных с общегражданскими представлениями о собственности. В среде реформаторов (как и в русском обществе в целом) было в конце 1850-х гг. уже немало тех, кто готов был усомниться, что мелкий собственник — это венец творения, и даже в том, что он является надежным гарантом социальной стабильности. С другой стороны, в деревне практически полностью отсутствовала инфраструктура, необходимая для появления миллионов новых собственников, и авторы «Положений» никак не способствовали ее созданию, делегировав большинство правовых и административных полномочий крестьянской общине и отказавшись от решения множества землеустроительных и фискальных проблем.
5. Созданная «Положениями 19 февраля» и другими законами и подзаконными актами система административно-правового контроля за освобожденным крестьянством оказалась громоздкой, характеризовалась многочисленными нестыковками и явно переходным характером. Важной ее чертой была очень слабая унификация административно-правового пространства на уровнях ниже уездного. Даже те минимальные ресурсы, которыми располагало здесь государство, были крайне раздроблены, а органы власти фактически выполняли плохо совмещавшиеся друг с другом функции. В центре за разные аспекты «крестьянского дела» также отвечало множество конкурирующих ведомств, ни одно из которых не имело на протяжении 1860−70-х гг. отчетливой программы действий в данной сфере. В результате политика правительства в деревне отличалась в это время крайней непоследовательностью и еще более усугубила неопределенность стратегии реформы 1861 г.
6. В 1860-х и первой половине 1870-х гг. в аристократических кругах сложилась достаточно последовательная программа пересмотра «Положений 19 февраля», в основе которой лежала идея разрушения общины. Однако она требовала кардинального подрыва идеологии патернализма, превратившейся в своего рода «несущую конструкцию» самодержавной системы. Британская модель реформы, которую предлагала «аристократическая партия», не могла показаться привлекательной ни монарху, ни «передовому обществу», ни сторонникам «особого пути» России. В качестве реакции на слишком радикальные западничество и элитаризм этой «партии» крепнет противоположная тенденция — акцентировать те стороны «Положений», которые создавали почву для «охранительного» решения крестьянского вопроса.
7. «Охранительная», патерналистская программа курса в деревне сложилась еще до воцарения Александра III и была в конце 1870-х гг. поддержана как либеральными, так и консервативными общественными кругами. Характерной ее чертой стали мифологизация крестьянства, которое якобы совокупно страдало от рыночной стихии и противостояло ей, а также догмат о том, что крестьянам совершенно чужды общегражданские представления о собственности. Сторонники новой политики в деревне выступали не просто за охранение общины, но и за полный запрет на отчуждение крестьянских надельных земель, усиление опеки над общиной и вмешательство в традиционные внутриобщинные процессы и механизмы социального контроля (переделы земли, семейные разделы и др.).
8. Эта программа легла в основу курса правительства Александра III в аграрной сфере. Однако практические результаты принятых в это время мер оказались более чем скромными. Инфраструктура, которой располагала в деревне государственная власть, по сути, не претерпела серьезных изменений с 1861 г. и вплоть до столыпинских реформ. Поскольку же правительство не имело адекватной (полной и идеологически нейтральной) информации о положении дел в деревне, возможности власти что-то в нем менять оказались очень ограниченными. Особенно ярко это обстоятельство проявилось в ничтожных (количественно и качественно) результатах мер по консервации общинного строя. Скромный смысл не помешал этим мерам наряду с законом о земских начальниках оставаться вплоть до революции 1905 г. своеобразными «священными коровами» внутренней политики, символизирующими охранительный курс правительства.
Структура диссертации строится по проблемно-хронологическому принципу. В первой главе характеризуется историография затрагиваемых проблем, подводятся итоги их изучения в отечественной и зарубежной литературе, дается детальная характеристика источниковой базы исследования. Вторая глава посвящена тому, как складывалась в первой половине XIX века система контроля над крестьянами со стороны государства и помещиков, какие перед ней ставились задачи и насколько она могла эти задачи выполнить. В этой главе также прослеживается формирование и содержание программ двух поколений «просвещенной» бюрократии в крестьянском вопросе (поколения М. М. Сперанского и П. Д. Киселева и поколения H.A. Милютина), а также идеологическое содержание этих программ, общее и особенное в них. Третья глава является попыткой проанализировать и объяснить внутреннюю противоречивость «Положений 19 февраля». Идеология, политика, финансы и сугубо практические, технические трудности в 1859—1860-м гг., в решающий период подготовки реформы и определили основные ее параметры. Центральной в работе является четвертая глава. В ней показано, как выстроилась в 1860−70-х гг. сложная система управления «крестьянскими делами" — как правительство и общественные круги понимали реформу и с какими трудностями им пришлось иметь дело при ее реализации. Анализируются причины того, почему к середине 1870-х гг. политика власти в деревне лишилась всякой отчетливости, что и способствовало в итоге перелому в общественных настроениях. Этому перелому и его последствиям посвящена пятая глава диссертации, где рассматриваются идеологические истоки и содержание программы «контрреформ» в аграрной сфере, взятой на вооружение правительством Александра III.
Заключение
.
Историки, представители других социальных и гуманитарных наук, общество в целом воспринимают историю реформ в Российской империи как стержень истории нашей страны в Новое время. Успехи и неудачи на пути преобразования ее экономики, государственных институтов, социальных структур обоснованно считаются показателем эффективности и легитимности самодержавной системы, а также зрелости общества. При этом в современной историографии по поводу результатов реформ и, соответственно, состояния власти и общества существуют диаметрально противоположные точки зрения. Возникает вопрос, можно ли выделить какие-то объективные критерии, которые бы позволили определить, успешными ли были преобразования и соответствовали ли их результаты первоначальным планам? Не менее важно выявить движущие силы реформ и понять, были ли последние ответом на внешние для правительства «вызовы» (военные поражения, давление общества, массовое движение) или скорее результатом инициативы «сверху» (на языке современной теории систем — была ли мотивация власти «реактивной» или «проактивной», опережающей)?
История разработки и реализации крестьянской реформы дает очень богатый материал для размышлений и выводов на этот счет. Что касается причин реформы, то в их числе можно выделить долговременные и ситуативные факторы. Данная диссертация в целом подтверждает точку зрения, что само многолетнее обсуждение в первой половине XIX в. в правительственной и общественной среде возможности и необходимости отмены крепостного права существенно облегчило окончательный приступ к реформе в конце 1850-х гг. Да, в среде бюрократии и поместного дворянства всегда было немало противников любых принципиальных перемен в этой сфере. Однако их голос постепенно уравновешивался, а в конце концов и перекрылся голосом тех, кто считал, что такие перемены неизбежны. Длившиеся десятилетиями дискуссии привели к тому, что к середине XIX в. центр проблемы в общественном мнении сместился: речь шла уже не о принципиальной необходимости преобразования, а о том, каким именно оно должно быть. Этим ситуация второй половины 1850-х гг. принципиально отличалась от других приходившихся в России на начало царствований «предреформенных ситуаций» 1800-х и второй половины 1820-х гг.
Очень важную роль в этом сдвиге сыграл опыт реформ в государственной деревне, обычно связываемых с именем П. Д. Киселева и созданного им Министерства государственных имуществ. Данная работа позволяет сделать вывод, что программа преобразования в казенной деревне была в общих чертах разработана в 1830-х гг. М. М. Сперанским и лишь затем, с существенными коррективами, изменившими саму ее суть, принята на вооружение Киселевым. Сперанский предлагал сделать центром реформы развитие того, что на современном языке называется правовой инфраструктурой (кадастр, межевание, регламентацию землепользования и реформу налогообложения). Киселев же выдвинул на первый план патерналистскую идею попечительства государства над крестьянами. Но независимо от этих различий, сам опыт реального, а не гипотетически-проектного проникновения государства в жизнь деревни создал «стартовую площадку» для последующей отмены крепостного права. Без реформы Киселева она была бы совсем другой.
Могла ли реформа не состояться в середине XIX в. вообще? Думается, нет необходимости доказывать, что отмена крепостного права в принципе была неизбежна. Состояние источников и аналитических инструментов пока не позволяют экономическим историкам однозначно сказать, находилось ли помещичье хозяйство к этому времени в состоянии глубокого хозяйственного кризиса или могло еще какое-то время «проживать» существовавшие ресурсы. Но независимо от этого, нет никаких сомнений, что крепостное право было системным институтом, препятствовавшим развитию в Российской империи экономики, делавшим почти нереальными любые преобразования в административной и правовой сфере и развращавшим и чиновников, и помещиков, и самих крестьян. Как показывают и прежние, и новейшие исследования крепостной деревни, в ее недрах довольно динамично развивались новые, квазирыночные отношения. Но развивались они, разумеется, не благодаря, а вопреки крепостнической системе, которая в итоге мутировала и все более очевидно требовала активной перестройки.
Вместе с тем, системная неизбежность реформы не означала ее ситуативной, политической неизбежности, а также не предопределяла и ее основных параметров. И то, и другое детерминировалось скорее политико-идеологическими, чем экономическими факторами. Наиболее активная, динамичная и заметная часть российской элиты, особенно среднее ее поколение, выросла под глубоким влиянием представлений о том, что Россия является частью европейского «культурного ареала», причем особой, возможно, отставшей в своем развитии или, наоборот, лучше других стран сохранившей уникальные «национально-исторические» институты (прежде всего крестьянскую общину), но неотъемлемой ее частью. В идеологическом пространстве того времени не было тех, кто бы это последовательно отрицал и предлагал бы России избрать своим ориентиром, скажем, Китай или Османскую империю. Но этот, по популярному современному выражению, «цивилизационный выбор», принимаемый тогда как нечто само собой разумеющееся, означал и молчаливое признание того, что крепостное право является не нормой, а аномалией и, независимо от своей исторической обусловленности, не может долго сохраняться в современном мире.
В этих условиях поражение в Крымской войне стало лишь «спусковым крючком» реформ, а наступившая со сменой царствований «оттепель» создала условия для относительно свободного обсуждения главной из них — крестьянской. Таким образом, тот факт, что отмена крепостного права состоялась именно в это время, выглядит абсолютно не случайным, хотя при ином развитии политической конъюнктуры реформа могла состояться несколько позже или приобрести иные характерные черты.
Какую роль в разработке и реализации крестьянской реформы и вообще в политике правительства по «крестьянскому вопросу» играла позиция самих крестьян и, в частности, их массовое протестное движение? Многочисленные правительственные материалы, проанализированные в данной диссертации, позволяют сделать вывод, что их влияние в рассматриваемый период невозможно интерпретировать в категориях «давления», «вырывания уступок» и т. д. Наиболее крупные правительственные меры в отношении крестьянства не были непосредственным ответом на крестьянское движение и тем более — следствием «революционных ситуаций». И в конце 1850-х, и в конце 1870-х гг. правительство не видело в крестьянских протестах серьезной угрозы политической стабильности. По представлениям того времени, такую угрозу могли бы представить не стихийные действия крестьян, а организованное революционное движение. Связь же между тем и другим в правящих кругах, как правило, отрицалась.
Вместе с тем, косвенное влияние крестьянского движения на правительственную политику было довольно значительным. Во-первых, правительство достаточно последовательно пыталось отслеживать мнение крестьян по тому или иному поводу, и их протесты фактически были одним из постоянных «каналов коммуникации» между «верхами» и «низами». Во-вторых, гипотетическое или реальное недовольство крестьян широко использовалось в качестве риторического аргумента в спорах о реформе и о том, как та или иная мера «отзовется» в их среде. Таким образом, накануне 1861 г., не переоценивая силы крестьянских выступлений в настоящем, и «либеральные бюрократы» и помещики активно апеллировали к опасности «пугачевщины» после реформы (причем одни прогнозировали крестьянские бунты в случае безземельного освобождения крестьян, а другие, наоборот, — в случае «экспроприации» дворянской собственности). Позднее такая же ситуация сложилась в ходе споров о необходимости или, напротив, опасности укрепления общины. Понятно, вместе с тем, что к реальным настроениям крестьян подобные идеологические спекуляции имели довольно косвенное отношение.
В целом же в условиях отсутствия на всем протяжении пореформенного периода четкой стратегии решения «крестьянского вопроса» периодические всплески протестных выступлений самих крестьян не столько пробуждали активность власти, сколько парализовывали ее, заставляя вновь и вновь прибегать к паллиативным мерам и сохранению никого не устраивавшего статус-кво. Вплоть до революции 1905 г. правительство так и не решилось ни развязывать, ни рубить завязанный им же в 1861 г. узел.
В этом контексте уместно остановиться и на роли самодержцев в судьбе реформы. Нет никаких сомнений, что Николай I не был сторонником сохранения крепостного права и совершенно искренне считал необходимым серьезные перемены в отношениях крестьян, помещиков и государства. Однако еще в меньшей степени он был приверженцем либерально-экономической концепции laissez faire, laissez passer. Ему были совершенно чужды не только либеральные представления об ограниченных, преимущественно регулятивных функциях государства и первичности по отношению к нему личных прав, но и гораздо более умеренные, консервативные в своей основе идеи общественной самодеятельности и восстановления прежних, «небюрократических» вольн&тайикс^юбощиях любые реформы в деревне при Николае I не могли не идти в русле усиления государственно-бюрократического контроля над крестьянством, который в условиях тогдашней российской административной системы автоматически превращался в мелочную регламентацию, существовавшую к тому же скорее на бумаге, чем на деле. Любому исследователю, работавшему с фондами киселевского Министерства государственных имуществ, знакомы огромные дела из сотен исписанных неизменно аккуратными почерками листов, которые, как поначалу кажется, должны содержать массу интереснейших сведений о казенной деревне и захватывающих планов ее преобразования. Однако быстро выясняется, что речь в них идет не столько о социальной реальности, сколько о многолетней циркуляции бумаг внутри государственного аппарата. Из этих дел можно узнать очень многое об особенностях николаевского делопроизводства, и почти ничего — о жизни крестьян. Бюрократизация, конечно, не исчезла и позже, но, переходя к делам 1860−1870-х гг., разницу чувствуешь мгновенно. Было бы очень наивно возлагать ответственность за создание и существование этой системы на одного человека (хотя сам он, возможно, не без гордости осознавал себя ее творцом). Но и совсем отказывать Николаю I в такой ответственности было бы несправедливо. Историю реформы государственной деревни можно считать ярким символом видимой мощи и внутреннего бессилия николаевской системы. Все киселевские начинания постепенно увязли и увяли, причем не столько в сопротивлении «крепостников» (которые, в сущности, ничего не могли иметь, скажем, против кадастра и межевания), сколько в тоннах входящей и исходящей документации. Другой причиной фиаско всех попыток как-то сдвинуть с места дело крестьянской реформы был, конечно, страх Николая I перед возможностью поступиться легитимистскими принципами (одним из которых была нерушимость системы установленных сословных привилегий). И здесь его, думается, обессиливало не сопротивление помещиков (мнимое или реальное), а именно «верность принципам» .
Александр II во многом был продуктом системы отца. Ни по воспитанию, ни по убеждениям он не был реформатором, тем более либеральным. Преобразовательная энергия, как блестяще показано в работах.
Л.Г. Захаровой1, иссякала в нем довольно быстро, а интерес к новому проявлялся лишь спорадически и не мог конкурировать с привычкой к размеренной и предсказуемой рутине. И все же он был человеком нового поколения, для которого Легитимистские ценности, столь сущностно важные для его отца, имели гораздо меньшее значение, зато гораздо более важным было общественное мнение — и общеевропейское, и внутри-российское. Как и для его предшественников, бесспорным приоритетом для Александра II была «государственная необходимость». Однако понимал он ее уже по другому, с учетом если не «прогресса», то, по крайней мере, «духа времени». Уже поэтому при всем своем унаследованном от отца и деда упрямстве (в том числе и политическом), в отличие от них, он был человеком, неизмеримо больше склонным к компромиссам.
Эти личные качества самодержца не могли не сказаться и на судьбе крестьянской реформы. Прекрасно зная о многолетнем ее обсуждении в царствование отца (а отчасти и попытках воплощения Киселевым), Александр II, судя по всему, не сомневался в принципиальной необходимости отмены крепостного права, но имел очень общее и расплывчатое представление о том, по какому пути она должна пойти. Но когда в многочисленных предлагавшихся ему сценариях царь, как ему показалось, разглядел подходящее «смысловое ядро», он стал тверд и непреклонен в намерении довести «святое дело» до конца.
Таким ядром, как показано в диссертации, была идея постепенной «развязки» отношений помещиков и крепостных с сохранением у последних «прочной оседлости». Значение для царя имели не технические параметры и юридические тонкости преобразования, в которых он не разбирался и в которые его и не посвящали, а прежде всего символическая сторона преобразования. Она выглядела примерно так: каждое из сословий понесет определенные, но умеренные, справедливые и неизбежные «жертвы» (помещики утратят даровой труд и часть земли, но по.
1 Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права. М., 2010. лучат компенсациюкрестьяне обязаны будут платить, зато избавятся от власти помещиков). Арбитром выступит государство, а итогом реформы станут стабильность и социальный мир.
Нетрудно заметить, что этот сценарий был в высшей степени консервативен. Не в том смысле, что крестьянам не передавалась «вся земля» и бесплатно (такой вариант был бы просто нереален), а в том, что он по сути воспроизводил (якобы на новых, непринудительных началах) прежнюю нежизнеспособную систему симбиоза двух социальных сил: помещиков и крестьян. Особенно заметной такая «привязка» к прошлому была в отношении сословно неполноправных крестьян. В конце концов, любой помещик мог, пусть и с потерями, конвертировать свои активы в деньги и поместить их в ценные бумаги (чем многие из них после 1861 г. и занялись). Для подавляющего же большинства бывших крепостных «прочная оседлость» означала тяжелое бремя повинностей и «гарантированную бедность», для немногих — возможность обогащаться за счет односельчан, и лишь перед единицами (с крайних полюсов деревенской социальной иерархии) реформа открывала путь во «внешний мир». Стоит еще раз повторить: проблема заключалась не в том, что крестьяне получили мало земли. Во многих местах помещики, наоборот, поначалу не прочь были дать им ее побольше, причем по сходной цене. Проблема заключалась в том, что созданный реформой механизм не только оставлял крестьянам очень небольшое пространство выбора в краткосрочной перспективе, но и не содержал в себе четкой среднеи долгосрочной перспективы развития деревни. Туманные символы вроде «прочной оседлости» и «недопущения пролетариата» такую перспективу никак заменить не могли. В отсутствие же ее стабильность неизбежно должна была превратиться в застой.
Свою, хотя далеко не единственную лепту внес в то, что реформа пошла именно таким путем, и Александр II. Вместе с тем, переоценивать его личную роль в решении «крестьянского вопроса» было бы, на мой взгляд, еще более неверным, чем в случае с его отцом. Александр II ни реально, ни символически не был монополистом в принятии административных решений и просто не мог вникать в многочисленные, хотя и принципиально важные «детали» принимаемых реформ. Характерна в этом смысле история о том, как, пожелав отправить в 1867 г. в отставку сенатора М. Н. Любощинского за его участие (как позже выяснилось, мнимое) в оппозиционном выступлении столичного земства, самодержец с удивлением и негодованием узнал, что, согласно утвержденным им самим Судебным уставам, сенаторы кассационных департаментов, как и прочие судьи, пользуются правом несменяемости2. Можно с уверенностью утверждать, что большинство важнейших правительственных решений по «крестьянскому вопросу», касавшихся его правовых, административных и фискальных аспектов, не были удостоены вниманием царя. Даже в «горячий» период непосредственной подготовки «Положений» 19 февраля 1861 г. его интересовали не столько детали готовившейся реформы, сколько ее символическое обрамление и восприятие в стране. С середины же 1860-х гг. император по ряду главным образом личных причин, проанализированным в свое время Л. Г. Захаровой, фактически перестал вникать в ход «крестьянского дела», превратившегося в арену противоборства различных группировок в правительстве.
Примерно такой же была картина и с личным участием в решении «крестьянского вопроса» Александра III. Таким образом, с одной стороны, от позиции и инициативы самодержцев прямо зависел тот или иной приступ к решению «крестьянского вопроса». Однако колоссальная сложность самого этого вопроса, большинство правовых и технических аспектов которого было очень далеко от повседневных забот и интересов самодержцев, как правило, не позволяла им в полной мере контролировать подготовку и тем более реализацию ключевых законов в этой сфере.
2 См. яркий пересказ этого эпизода тогдашним шефом жандармов гр. П. А. Шуваловым: Дневник Е. А. Перетца, государственного секретаря. 1880−1883. М., 1927. С. 20. как и во многих других). При всех различиях во взглядах Николая I, Александра II и Александра III, все они в значительной степени оставались заложниками инертности государственной машины. С другой стороны, сама эта инертность была не столько проявлением архаики, сколько отражением новых, необычайно усложнившихся задач, стоявших перед государством. Системный же характер крестьянской реформы делал еще менее реальной для любого из монархов возможность вникнуть в ее детали и подробности.
Нет необходимости доказывать, что отмена крепостного права стала краеугольным камнем в здании Великих реформ. Она находилась в теснейшей взаимосвязи со всеми прочими преобразованиями: земской и судебной реформами, введением всеобщей воинской повинности, преобразованиями в сфере народного просвещения, приходской жизни, и т. д. Более того, данная диссертация позволяет сделать принципиально важный вывод, что активно обсуждавшиеся в «верхах», но так и не состоявшиеся административная и налоговая реформы, а также введение политического представительства своим фиаско были обязаны во многом именно крестьянской реформе, а точнее, тем лакунам в этой реформе, которые так и не были заполнены вплоть до XX века, а отчасти и позже.
Вместе с тем, системность крестьянской реформы объясняет и тот факт, что ее разработка и реализация не могли быть делом исключительно бюрократическим. Занимаясь «крестьянским вопросом», правительство как, пожалуй, ни в каком другом деле вынуждено было постоянно прибегать к содействию общества. В результате в том, что касалось инициативы преобразования, осознания его целей и средств совсем непросто, по крайней мере, для XIX века провести грань между правительством и обществом, определить, кто из них был «ведущим», а кто «ведо-ч мым». Слишком тесным было взаимодействие формально «общественных» институтов (средств массовой информации, науки, общественных организаций) и правительства, слишком часто общественные деятели превращались в чиновников и наоборот. Кроме того, в процессе разработки реформы, осознания всей ее масштабности и сложности сама государственная власть вынуждена была меняться, реструктурировать самое себя, по-новому формулировать свою миссию (примерно то же можно сказать и об обществе).
На протяжении рассмотренного в данной работе периода 18 301 890-х гг. можно выделить по крайней мере три серьезных перелома в отношении власти и общества к «крестьянскому вопросу»: в середине 1840-х гг., в конце 1850-х и на рубеже 1870−1880-х. Первый был связан с началом реализации реформы в государственной деревне и выходом на политическую сцену нового поколения чиновников и общественных деятелей (поколения H.A. Милютина и Ю.Ф. Самарина). Второй пришелся на рубежный для страны в целом период «оттепели» и нового осмысления задач государственной власти в канун Великих реформ. Третий также совпал со сменой поколений, но не сводился к ней: в проповеди новых, государственнических и патерналистских идей активно участвовали и многие «шестидесятники», сменившие прежнюю умеренно-либеральную ориентацию на сугубо охранительную (типичные примеры — М. Н. Катков, Д. Ф. Самарин, И. С. Аксаков, К.П. Победоносцев).
Однако «система» Александра III вовсе не была возвратом к николаевской: слишком долгий путь был пройден страной от крепостного права, слишком изменились и экономика, и жизнь людей, и публичное пространство. К тому же патерналистская модель решения «крестьянского» вопроса была лишь одним из аспектов радикального поворота от классического либерализма к протекционизму, этатизму и национализму, который произошел во многих европейских странах и был следствием принципиально новых социальных реалий, просто не знакомых людям 1830−1840-х годов (вторая волна индустриализации, первый мировой экономический кризис 1873 г., а затем и резкое падение цен на хлеб в ходе глобального «аграрного кризиса», начало эры массовой политики и культуры).
Все это позволяет сделать вывод, что обе классические историографические дихотомии, используемые при описании российских преобразований XIX в. — «власть» / «общество» и «реформы» / «контрреформы» — не отражают всей сложности реальных исторических процессов и скорее дезориентируют исследователей. В реальности динамика реформаторских процессов очень сильно (хотя и не всегда прямо) зависела от общественных настроений и, в свою очередь, оказывала на них обратное влияние. С другой стороны, институциональная инфраструктура, от состояния которой зависела судьба многих правительственных и общественных начинаний, была гораздо менее изменчивой и фактически оставалась на протяжении всего рассматриваемого периода константой, с которой приходилось считаться и реформаторам, и их противникам. Таким образом, в данной работе выявлены два взаимосвязанных, но в значительной степени автономных процесса: первый касается становления и эволюции идеологии крестьянской реформы, второй — ее практики. Известная их автономность друг от друга определялась тем, что информация о происходящем доходила до центров принятия решений и лидеров общественного мнения с большим запозданием и в крайне искаженном виде. Изъяны «обратной связи» между реформируемыми и реформаторами облегчали распространение и укоренение в общественном сознании разнообразных идеологически обусловленных мифов и догм, что, в свою очередь, мешало правильно оценить реальные проблемы деревни.
Каковы же были основные особенности взаимодействия правительственных и общественных сил при разработке и осуществлении крестьянской реформы? К концу 1850-х гг. — времени, когда стартовала подготовка крестьянской реформы — прогрессистски настроенные правительственные и общественные круги пришли со сложившимся комплексом представлений о том, что происходит в деревне (помещичьей и государственной) и что может и должно предпринимать правительство в связи с неизбежной отменой крепостного права. Эти представления определялись переплетением множества факторов.
С одной стороны, важное значение имела все еще господствовавшая в Европе идеология классического либерализма с ее принципами экономической свободы, минимального участия государства в жизни людей и децентрализации управления. Николаевская эпоха сформировала у образованной элиты настоящую идиосинкразию к бюрократическому «дирижизму» во всех его проявлениях, так что любые централизатор-ские и «дирижистские» идеи моментально оказывались в то время под подозрением.
С другой стороны, не менее значимой, а, возможно, и более глубокой была приверженность «либеральной бюрократии» к государственни-ческим ценностям. Представление о правительстве как о единственной силе, способной к осмысленному и конструктивному творчеству, подкреплялось очевидным отсутствием в стране каких-либо иных организованных сил. При этом речь шла не о монополии бюрократии на решение «крестьянского вопроса», а скорее о максимально эффективном использовании колоссальных ресурсов государства для решения важнейших социальных задач. Таким образом, ставка на государство лишь отчасти противоречила устойчивой антипатии к «бюрократии».
Этот сложный идеологический расклад оказал определяющее влияние на содержание и форму «Положений» 19 февраля 1861 г. и на правительственный курс в деревне в первые 10−15 лет после отмены крепостного права. В основу символического содержания Великой реформы легло противоречивое представление о крестьянине, в котором традиционалистские и славянофильские мотивы переплелись с рационалистической бюрократической утопией. Либеральные европейские экономисты манчестерской школы рассматривали крестьянина как типичного универсального homo oeconomicus. Само понятие «крестьянин» было для них чем-то вроде фикции, ярлыка, который маскирует «нормального» субъекта нормальных (т.е. капиталистических) экономических отношений. Неудивительно, что накануне 1861 года такой либеральный подход активно эксплуатировался многими помещиками, настаивавшими на «свободе рук» в отношении бывших крепостных. Крестьяне представлялись им крайне подвижными, беспокойными носителями анархии и хаоса, которых следовало умиротворять и дисциплинировать привитием собственнических инстинктов.
Это восприятие противостояло «романтическому» пониманию крестьянина как носителя собственных культуры, мировоззрения и правосознания. Он оказывался в этом случае самодостаточным и нуждающимся отнюдь не в благодетельном руководстве, а главным образом в том, чтобы его предоставили самому себе (или даже более — он оказывался потенциальным «учителем» «космополитических» образованных слоев). Этот взгляд определял признание, что крестьяне существуют как бы в своем собственном культурном, экономическом, правовом пространстве, что их не следует опекать и тем более — делать объектом масштабных социальных экспериментов.
В результате крестьянская реформа 1861 года вроде бы следовала логике опеки с целью создания слоя рационализированных мелких земельных собственников и в этом отношении, несомненно, продолжала реформу П. Д. Киселева и предвосхищала будущую столыпинскую реформу. Но при этом она же признавала в отношении крестьян принцип невмешательства, что, в частности, отразилось в создании сложной и, по сути, почти полностью автономной системы крестьянского самосуда и самоуправления, не зависевших не только от бывших помещиков, но и от коронной администрации. Таким образом, реформа стала плодом компромисса не только различных политических сил и групп, но и различных подходов, более или менее противоречиво уживавшихся в сознании многих активных участников ее обсуждения.
Будучи внутренне противоречивой, она предполагала различные, вплоть до диаметральной противоположности, толкования. При этом ни стратегия «опеки», ни стратегия «невмешательства», получившие после 1861 г. свое развитие, никак не укладываются в рамки классической оппозиции «консерватизм/либерализм». Более того, то или иное толкование часто использовалось ситуативно, в зависимости от конкретных политических и риторических целей интерпретатора.
Вторым фактором, определявшим меру и характер «присутствия» государства в деревне до и после 1861 г., была сложившаяся здесь инфраструктура. Она отличалась прежде всего очень слабой унификацией административно-правового пространства на уровнях ниже уездного. Даже те минимальные ресурсы, которыми располагало здесь государство, были крайне раздроблены, а органы власти фактически выполняли плохо совмещавшиеся друг с другом функции. Эта раздробленность на локальном уровне дублировалась полным отсутствием единства в центре, где «крестьянскими делами» ведало множество конкурирующих ведомств: Главный комитет, МВД, Министерство финансов, Министерство юстиции и Сенат, наконец, Министерство государственных имуществ.
Самое же важное — административно-правовой дуализм, изолированность крестьянства от прочих сословий не просто препятствовали унификации, но еще и делали реформы в деревне трудноосуществимыми технически. Любые преобразования предполагали унификацию, регламентацию и рационализацию той сферы, которой они касались (будь то налоги, землепользование, право или администрация). Но в деревне с ее обычным правом и традиционной автономией общин все это было возможно лишь при условии активного разрушения государством существовавших здесь социальных и правовых институтов. Получалось, что попытки как-то изменить жизнь крестьян либо оставались сугубо кабинетным упражнением, либо требовали разрушения всего того традиционного уклада, который долгие десятилетия признавался и утверждался самим правительством.
Все остальные особенности инфраструктуры в деревне во многом подпитывались изолированностью крестьян. Во-первых, в стране практически полностью отсутствовала рациональная система оформления земельной собственности и землеустройства. Профессиональный землемер вплоть до начала столыпинской реформы был редкой и экзотической фигурой. Межевые планы частных земель отличались крайней ненадежностью (не все они были неверны, но никто не мог поручиться за верность каждого из них в отдельности, что и создавало колоссальную неопределенность в системе фиксации земельных прав). Разговоры же об общем межевании крестьянских наделов не шли далее благих пожеланий.
Во-вторых, фискальная система пребывала в состоянии, мягко говоря, не соответствовавшем потребностям времени. Даже по меркам камералистики XVIII века она казалась устаревшей, к середине же Х1Х-го существование подушной подати, принудительной круговой поруки и прочих типичных для России фискальных форм автоматически квалифицировало страну как архаичное полусредневековое государство. Контраст между реалиями в деревне и общим признанием, что Россия — великая европейская держава, был так разителен, что необходимость налоговой реформы практически ни у кого в стране не вызывала сомнений. Но на ее пути вставало все то же: община как собственник и распорядитель земли, паспортная система, обычное право, отсутствие статистики, кадастра и межевания.
В общем и целом, эта инфраструктура абсолютно не соответствовала масштабности и сложности задач, вставших перед государством после отмены крепостного права. В результате фактическое «отсутствие» государства в деревне в 1860−70-е гг. не выглядит удивительным. Слабость правительства зримо проявлялась в скудости и ненадежности информации, поступавшей с мест в центр. Фактически, вся система управления крестьянством покоилась на фундаменте волостных и сельских органов власти, которые совершенно не соответствовали ключевой потребности модернизирующегося государства — потребности в информации. Конечно, важной причиной «недоуправляемости» российской деревни было плачевное состояние имперских финансов. Однако деньги, как известно, сами по себе никогда не создают программы преобразований, зато часто появляются в результате ее реализации.
Наконец, третьим общим фактором, определившим отсутствие последовательного правительственного курса в деревне, была борьба в «верхах» между сторонниками различных политических программ. Вкупе с межведомственной конкуренцией она парализовывала власть и в 1860—1870-е гг., и позже. Сколь бы ни были последовательны любые декларации, «на выходе» всегда оказывались, как максимум, скромные паллиативные меры, а как минимум — проекты, годами бесплодно циркулировавшие между ведомствами. Этот механизм примерно в равной степени блокировал или выхолащивал как «прогрессивные», так и «реакционные» меры.
В таких условиях любая программа действий в деревне не могла не подразумевать резкого роста интервенции сюда государства (по сравнению с практически нулевым уровнем присутствия правительственной власти любая перемена в этом направлении показалась бы резкой). Про-грессистские программы в этом смысле мало чем отличались от консервативных. Отличия заключались в предполагаемых целях такой интервенции (созидать новое или охранять старое). Однако поскольку «центр» не имел адекватной (полной и идеологически нейтральной) информации о положении дел в деревне, сами представления о «старом» и «новом» относились скорее к области мифов и идеологических конструктов, чем реальности.
Именно поэтому есть все основания говорить о фактическом провале «программы контрреформ» в 1880−90-е гг. Особенно ярко это проявилось в ничтожных (количественно и качественно) результатах мер по консервации общинного строя. Принятые в 1880-е и в начале 1890-х гг. законы были не какой-то «коррекцией» прежнего курса, как хочется верить сторонникам версии о прагматизме политики Толстого-Пазухина. Их создатели априорно, то есть не имея каких-либо серьезных данных, поставили перед собой радикально-утопическую программу поворота вспять естественных тенденций, которые, по их мнению, «разлагали» патриархальное русское крестьянство. Но те болевые точки, которые они якобы нащупали, свидетельствовали о крайне поверхностном, мифологизированном восприятии реальности, а потому и предложенные меры практически никак на эту реальность не повлияли. Как и ранее, реальное вмешательство государства в жизнь крестьянства продолжало оставаться минимальным.
Возникает резонный вопрос: если информационно-административная инфраструктура не позволяла разобраться в том, что происходило в деревне и в «либеральную эпоху» 1860−70-х гг., и в «консервативную» 1880−90-х, существовали ли между ними реальные различия? Проведенный анализ дает основания утверждать, что существовали, причем достаточно глубокие. В близких условиях дефицита информации и непростой политической ситуации и непосредственные создатели «Положений» 19 февраля, и большинство тех, кто определял правительственную политику на рубеже 1870−1880-х гг., и многие из их «консервативных» оппонентов искренне пытались разобраться в ситуации и готовы были корректировать свои взгляды под влиянием опыта. Идеологические «фильтры» существовали и у них, причем у одних (например, такого заметного государственного деятеля как П.А. Валуев) они были очень устойчивы и мало менялись с течением времени, другие же (скажем, H.A. Милютин или М.Н. Катков) зарекомендовали себя гораздо более гибкими. Однако в общем и целом поколение эпохи Великих реформ было гораздо более прагматичным и имело гораздо меньше склонности к априорным догмам, чем последующее.
Поколение Пазухина и Сазонова было иным. Романтических прагматиков сменили революционные консерваторы, погруженные, несмотря на свое всячески акцентировавшееся «близкое знакомство с положением дел на местах», в мир иллюзий и утопических идей. Приход во власть следующего поколения прагматиков — генерации В. И. Гурко и П. А. Столыпина — пришелся уже на начало XX в. и проходил в совершенно иных социально-экономических условиях. Итогом эпохи Александра III стала почти полная утрата правительством чувства реальности и стратегических ориентиров в том, что касалось политики в деревне. В результате в начале XX в. «верхам» пришлось заново открывать идеи полувековой давности. Столыпинская реформа в первоначальном своем виде была поэтому не столько эпохальным прорывом в будущее, сколько лишь попыткой вернуться к основательно уже позабытым ориентирам.
Вместе с тем, правительственная политика в деревне и в середине XIX, и в начале XX века (как и после революции 1917 г.) не столько произвольно «лепила» из крестьян то, что казалось нужным ее творцам, сколько вступала с установками и предпочтениями сельских жителей в конфликт. Решающими в этом конфликте были не декларативные цели государственных деятелей и даже не страхи и ожидания подвергаемых очередному эксперименту крестьян, а способность и готовность власти к достаточно глубокому проникновению в социальную ткань и к созданию целой сети правовых и административных институтов, технологий и инфраструктуры, необходимых для преобразований. Как на протяжении всего XIX в., так и в начале ХХ-го одним из самых существенных препятствий к более массированному и настойчивому «вторжению» государства в жизнь крестьянских общин продолжала оставаться институциональная слабость власти на местах и отсутствие в ее распоряжении более современных технологий (землеустроительных, статистических, судебно-административных).
В целом, изучение масштаба и характера «присутствия» государства в деревне позволяет совершенно по-новому взглянуть на эволюцию внутриполитического курса и на пределы возможного в реализации многих широковещательных политических деклараций. Выясняется, что те, кто эти декларации создавал и воспринимал, обращали на удивление мало внимания на то, реализуются ли они в действительности или остаются словами. Крестьяне не просто были отгорожены разными правовыми, культурными и административными барьерами от тех, кто решал их судьбу. Парадокс заключался в том, что чем больше и активнее элита обсуждала их проблемы, тем выше поднимались эти барьеры, тем меньшую роль играла реальность в спорах и дискуссиях.
Соответственно, проблема государственной политики в аграрной сфере отнюдь не сводилась к отсутствию у правительства политической воли. Отсутствовало прежде всего другое — готовность к спокойной, многолетней работе по постепенному выстраиванию необходимой для развития деревни системы правовых, административных, агрономических, образовательных и прочих институтов. «Крестьянский вопрос» слишком часто оказывался всего лишь средством решения иных, внеположных ему политических проблем. И в 1830—1840-х, и в 1860—1870-х гг., и позже, в период «контрреформ», и во времена Столыпина правительство было озабочено прежде всего тем, чтобы превратить крестьян в надежную опору режима и при этом исправных налогоплательщиков и эффективных производителей. Менялись, причем кардинально, лишь представления о том, какими их нужно сделать для выполнения этой «миссии». Между тем, в калейдоскопе сменяющихся приоритетов власти терялись сами крестьяне с их настоящими, а не выдуманными заботами и предпочтениями. В итоге складывалась парадоксальная и драматичная ситуация, которую можно охарактеризовать как фактическое отсутствие крестьян в правительственной политике по «крестьянскому вопросу». В конце концов реальные крестьяне все же смогли напомнить о себе власти, лишив ее всякой поддержки, что и стало одной из основных причин краха Российской империи.
Список литературы
- РГИА Российский Государственный Исторический Архив, Санкт-Петербург
- Ф. 398 Департамента земледелия Министерства государственных имуществ
- Ф. 515 Департамента уделов Министерства императорского двора Ф. 565 — Департамента государственного казначейства Министерства финансов
- Ф. 573 Департамента окладных сборов Министерства финансов
- Ф. 577 Главного выкупного учреждения Министерства финансов1. Ф. 651 Васильчиковых1. Ф. 851 A.B. Головнина1. Ф. 869 Милютиных1. Ф. 908 П.А. Валуева1. Ф. 911 В.И. Вешнякова
- Ф. 919 И.И. Воронцова-Дашкова
- Ф. 1149 Департамента законов Государственного совета
- Ф. 1162 Государственной канцелярии
- Ф. 1180 Главного комитета по крестьянскому делу
- ОР РНБ Отдел рукописей Российской Национальной Библиотеки, Санкт-Петербург Ф. 379 — Ф. П. Корнилова Ф. 600 — A.A. Половцова Ф. 806 — Н. Ф. Фан дер Флита Ф. 1000 — Собрание отдельных поступлений
- ГА РФ Государственный Архив Российской Федерации, Москва
- Ф. 109 III Отделения с.е.и.в. Канцелярии Ф. 811 — М.Н.Муравьева
- РГАДА Российский Государственный Архив Древних Актов, Москва
- Ф. 1273 Орловых-Давыдовых Ф. 1288 — Шуваловых Ф. 1412 — Бобринских
- ОРРГБ Отдел рукописей Российской Государственной Библиотеки, Москва
- Ф. 58 И.И. Воронцова-Дашкова Ф. 120 — М. Н. Каткова Ф. 126 — А. А. Киреева Ф. 219 — Орловых-Давыдовых Ф. 265 — Самариных Ф. 327 — В.А.Черкасского
- Официально-делопроизводственные материалы, материалы общественных и сословных учреждений
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. В 45 т. Спб., 1830. Собр. 2-е. В 55 т. Спб., 1830−1884. Собр. 3-е. В 33 т. Спб., 18 851 916.
- Труды Губернских комитетов по улучшению быта крестьян. Б.м., б.г. Т. 1−15.
- Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу. Т. 1−2. Пг., 1915.