Сменовеховство и «русский фашизм» как идейно-политические феномены: По материалам русской эмиграции в Харбине в 20-30 гг. XX в
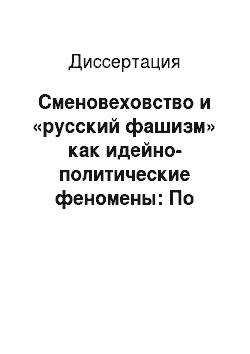
В ходе написания данной работы автор опирался в первую очередь на эмигрантскую литературу, которая издавалась русскими в Харбине, а также в других центрах русской эмиграции. Использованная в качестве источника печатная продукция являет собой периодические издания данной эпохи, сборники статей, нередко пропагандистского характера, программы политических партий и движений, которые имеют важное… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Н.В.Устрялов как социальный мыслитель. Сущность сменовеховства Н.В.Устрялова
- 1. 1. Историософия Н. В. Устрялова: большевизм и русская революция
- 1. 2. Цивилизационные особенности России и тип общественного устройства
- 1. 3. Философский анализ Н. В. Устряловым перспектив большевизма и фашизма
- Глава 2. Мировоззренческая и идейно-политическая парадигма русского фашистского движения в Харбине
- 2. 1. Краткая история и организационные структуры
- 2. 2. Теоретические и мировоззренческие основания «русского фашизма»
- 2. 3. Тип общественного устройства в трактовке «русских фашистов»
- 2. 4. Сущность «русского фашизма»
Сменовеховство и «русский фашизм» как идейно-политические феномены: По материалам русской эмиграции в Харбине в 20-30 гг. XX в (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
диссертационного исследования. Интерес к философскому осмыслению истории резко возрастает в кризисные периоды развития общества, когда происходят существенные общественные перемены, чреватые изменениями в судьбе целого народа. В такие периоды рушится привычный мир и строй жизни, фундаментальные устои подвергаются сомнению и критике. Происходит переоценка всех ценностей. Подобное переживалось в начале века с его катастрофическими событиями и сейчас в конце века, когда в нашей стране происходят существенные сдвиги не только на ментальном уровне, но и в сфере экономики, государственности, политической жизни и мировоззрения. Естественно, аналогия не доказательство и проведение исторических параллелей, выявление общих свойств разных эпох само по себе не является самоцелью. К тому же у каждой эпохи своя специфика духовной жизни, свой уникальный социально-мировоззренческий климат, который во многом предопределяет особенности построения той или иной философии истории. Вместе с тем актуализация в нынешний период отечественной мысли вопросов, в определенной мере созвучных тем, которыми задавались наши предшественники в не самые легкие дни истории страны и народа, может служить дополнительным аргументом в пользу необходимости обращения к опыту относительно недавнего прошлого. Ведь если какое-то явление возникло на конкретной почве как реакция на существовавшие проблемы, то в них не могло не проявиться некое общецивилизационное начало. Для нас же существенным является не только уяснение факта истинности или неистинности, справедливости или несправедливости их взглядов, и даже не морально-этическое измерение их идей, сколько целостное видение проблемы в своеобразных социально-политических условиях, включение этого идейно — мировоззренческого наследия как факта собственно истории и истории мысли в контекст современных идейно-философских дискуссий об исторической судьбе России.
Немаловажным является и то обстоятельство, на которое справедливо указывает современный исследователь Б. Г. Могильницкий. Суть в том, что каждому времени присуще собственное видение прошлого, и систематически совершающийся пересмотр прошлого имеет своим глубинным источником не только обнаружение новых исторических фактов, но и переосмысление известных моделей истории вследствие совершающихся глобальных перемен, которые кардинально меняют ментальность данного общества.1.
За последнее десятилетие с началом демократических преобразований в стране стало возможно всестороннее изучение и осмысление истории, культурного и научного наследия той части русского общества, которая после революционных потрясений 1917 года оказалась в добровольном или вынужденном изгнании. Речь идет о русской эмиграции первой волны или, другими словами, о русском Зарубежье. Русское Зарубежье представляло собой сложное явление. По мнению большинства исследователей, это было крупнейшее перемещение беженцев по размеру, составу и последствиям.
Тема русской эмиграции становится одним из доминантных сюжетов в отечественной историографии. Благодаря публикациям, особенно в начале 90-х годов, историкам, философам, литературоведам и широкому кругу читателей открывается множество имен русских эмигрантов-мыслителей, ученых разных направлений, людей искусства, писателей. Эмиграция как.
1 Могильницкий Б. Г. Историческая наука и проблемы гносеологии.// Россия в XX веке: историки мира спорят. М, 1994. С 714. социальное и политическое явление приобретает самостоятельный социокультурный статус. Национальная, политическая, культурная и конфессиональная разнородность эмиграции исследуется в специальных работах современных отечественных и зарубежных авторов. Большая часть этих исследований касается представителей русской эмиграции, общины которых были локализованы в таких европейских центрах, как Прага, Берлин, Париж, София.
Вместе с тем существовало и другое направление русской эмиграции — Восточное, связанное с Харбином, в меньшей степени с Токио, китайскими портовыми городами Шанхай, Тьянцзин. Восточная ветвь русской эмиграции, а также проблемы, связанные с эмиграцией в Харбине, которая играла, несомненно, огромную роль в интеллектуальной и политической жизни русского послеоктябрьского зарубежья, как по своим масштабам, так и по числу находившихся там культурных и политических центров, исследованы сравнительно мало, хотя в последнее время наблюдается повышенный интерес именно к этому культурному и политическому феномену. Исследование этого пласта проблемы только начинается. За пределами научных работ еще немало проблем и вопросов, требующих тщательного анализа. Исходя из этого, в данной работе предпринимается попытка концептуального изучения недостаточно проработанных в научной литературе аспектов интеллектуальной и политической деятельности русской диаспоры в Харбине.
Если учитывать тот факт, что при всем различии политических ориентаций русской эмиграции вопрос о причинах, смысле и последствиях большевистской революции в России, отношения к социально-политическим процессам в советской России, размышления о будущем России были центральным в идейной жизни, то важно проследить, каким образом решались эти проблемы русскими в Харбине. Эти темы представляли первостепенную значимость не только в духовной жизни, но и реальной политической деятельности. Широкий спектр идейно-политических течений, мировоззренческих точек зрения в среде русских эмигрантов обуславливался именно отношением к этим сюжетам. Вопрос заключался в том, как рассматривать революцию, как объяснить победу большевизма, применим ли принцип единства всемирно-исторического процесса при изучении этих событий. Не меньшую значимость и важность представлял вопрос об исторических перспективах России, который не только носил историософский характер, но и имел непосредственное отношение к будущему каждого русского эмигранта, к острой проблеме возможного политического и гражданского участия большинства эмигрантов в судьбе Отечества. Для них ностальгия по Родине не была пассивным психологическим состоянием, и они пытались найти свое место и миссию в будущей России. При этом видение путей и методов достижения обновления России было разным. Отсюда разнообразие русских эмигрантских организаций в Харбине, вся деятельность которых была направлена на то, чтобы каким-то образом повлиять на выбор пути развития России. Последовавший за революцией радикальный пересмотр идеалов и ценностей заставил многих представителей общественно-политической и философской мысли искать новые формы объяснения произошедшего и происходящего в России. Произошел определенный перелом в сознании, который отразился и в восприятии прошлого опыта и прежней идеологии. Наметился поиск третьего пути развития России, который представлялся совершенно иным, чем-то, что было раньше до революции, и то, что имело место в Советской России в то время. Безусловно, этот процесс носил неоднородный и противоречивый характер, и приводил порой к самым неожиданным результатам.
Слова известного русского философа И. Ильина, которые были сказаны им гораздо позже, хорошо иллюстрируют атмосферу идейных поисков: «Перед лицом этой непредвиденной и небывалой трагедии (большевистской революции — О. Н) — бессмысленно бормотать старые слова и носиться со старыми призывами и программами. Бессмысленны ныне программы „кадетов“, „социал-демократов“, „октябристов“ и „черносотенников“. Все это архив, история. И притом, — история болезни, мы не правые и не левые. Эти слова для нас бессмысленны и мертвы. Теперь необходимо перестать пользоваться этими понятиями и злоупотреблять ими. Чего же мы хотим? Чего ищем? Кто же мы такие? Мы — русские патриоты. Мы хотим предметно и честно изучать трагедию русской революции и найти из нее государственно-мудрый, спасительный исход».2 На этом фоне весьма симптоматичным является появление среди эмигрантов в начале 20-х гг. таких идейно-философских течений, как «евразийство», «сменовеховство», которые предложили другой вариант отношений с большевистской Россией, отличный от всех остальных эмигрантских течений, направленных на отрицание и критику. Однако наблюдалась не только философская рефлексия на наличные объективные обстоятельства в большевистской России, но и выстраивались политико-идеологические конструкции на основе противопоставления действительности, предлагающие альтернативные, более совершенные и приемлемые, по мнению их авторов, модели общественного развития.
В подобных идейно-политических конструкциях прослеживалась связь с общей мировоззренческими тенденциями, которые проявились в ту эпоху. В этой связи показательно возникновение в Харбине «русского фашизма», который — в противоположность сменовеховству и другим пореволюционным эмигрантским интеллектуальным течениям — призывал.
2 Ильин И. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. М, 1992. С 204. к активной борьбе с большевизмом путем использования фашистской идеологии и практики, и в идеологической и программно-тактической направленности не имел прецедента в прошлой истории русской политической мысли.
Эти два течения выделяются тем, что при всей пестроте разных военно-политических организаций в Харбине общей чертой было то, что почти все они стремились к восстановлению монархии после свержения большевизма.
Сменовеховство Н. В. Устрялова и «русский фашизм» были далеки от монархически-реставраторских течений. Многие тогда понимали, что вернуться к прошлой России уже невозможно. Исходя их этого факта, эти два течения предлагали нечто новое, которое не вписывалось в общую канву. Сменовеховцы предложили признать и принять большевистскую власть в России с надеждой на осуществление мессианских идей и на внутреннюю эволюцию большевизма. Вторые предложили фашистскую модель государственности после свержения большевиков.
Парадокс заключается в том, что и сменовеховство, связанный с именем Устрялова Н. В, и так называемый русский «фашизм» с центром в Харбине имели некоторые точки соприкосновения концептуального и типологического характера, говоря языком современных политологов, относились к такому направлению политико-философской мысли, акцент в которых делался на идеях сильного государства и этатизма. Более того, современные исследователи усматривают в сменовеховстве и европейском фашизме, чья идеологическая основа была воспринята некоторыми русскими эмигрантами в Харбине, идеологии третьего пути или теории Консервативной революции.3 Вместе с тем сменовеховство и «русский.
3 Дугин А. Консервативная революция. Краткая история идеологий третьего пути// Элементы. Евразийское обозрение. 1992, № 1. С. 15−16, 49−56. фашизм" были совершенно разноуровневые явления. Причины столь радикальных изменений социальных идеалов и стиля мышления представителей русской эмиграции и их ценностный выбор в пользу определенных социальных и политических учений, по нашему мнению, представляют серьезную исследовательскую проблему.
Вопрос о том, насколько характерны были подобные тенденции при решении обозначенных проблем для русских в остальных европейских центрах эмиграции, вызывает также общетеоретический интерес.
Другим интересующим нас моментом является то, как влияли особенности самой социальной структуры русской эмиграции в Харбине на выбор того или иного теоретического обоснования политических пристрастий русских эмигрантов и как они определяли направления деятельности как субъектов политической активности.
Представляет не только теоретический интерес ответ на вопрос о том, какие принципиально новые идеи выдвигались русскими эмигрантами в Харбине, каков был в целом духовный и политический опыт русских эмигрантов в Харбинеявляется ли этот опыт лишь фрагментом, эпизодом и продуктом конкретной и локальной исторической действительности, который, не выходя за рамки исторически определенного временного отрезка существования, остался в прошлом. Или же этот опыт, будучи фактом прошлого, все же отражает некие общие закономерности, и тенденции развития политической мысли и практики в моменты кризиса, характерные для России.
Думается, что выше обозначенное представляет собой актуальную научную проблему не только в историческом плане, но и в контексте современности, поскольку сейчас, как и в первые десятилетия нашего века, Россия переживает критические моменты и от политического решения, идейно-философски обоснованного выбора зависит возможный вариант исторического развития. «Размышления о революции — это размышления о нашем сегодня» 4, — отметил современный политолог Л.Радзиховский. Подобные размышления о тех событиях и людях также важно с точки зрения отношения к истории, так как мы либо приукрашиваем прошлое, либо проклинаем его. Здесь уместно привести слова Н. Мелентьевой о том, что «история должна быть понята холодно, вне сентиментальных предпочтений и моральных табу, поскольку только так мы можем понять и объяснить сущность происшедших в ней событий"5. Для нас же важно знание всего прошлого, включая и сменовеховство (которое часто отождествляют с понятием «национал-большевизм»), и такое неоднозначно трактуемое явление, как русский «фашизм».
В этой связи представляется важным изучение идейных феноменов сменовеховства Н. В. Устрялова и «русского фашизма», аутентичности терминов, концептуальных установок, которые используются при обозначении данных явлений. Исследование этих сюжетов приобретает особую актуальность в современный период, когда, с одной стороны, повышается интерес к идеологиям «евразийства» и «сменовеховства», с другой стороны, также сегодняшняя реальность такова, что многие понимают, что фашизм исторически не изжит, и — совсем не прошлое. Это подводит к необходимости анализа данных феноменов в контексте истории общественно-политической и философской мысли русской эмиграции.
Поскольку упомянутые вопросы могут быть рассмотрены на примере изучения русской эмиграционной диаспоры в Харбине, этот факт определил выбор направления данного диссертационного исследования.
Объект и предмет исследования.
4 Радзиховский Л. Великая иллюзия. // Вестник высшей школы, 1990,№ 12.
5 Меленгьева Н. Фашизм как «стиль». Фашизм и нефашизм. // Элементы. Евразийское обозрение. 1993, № 4. С. 61.
Объектом данного диссертационного исследования является идейные искания русской эмиграции на Дальнем Востоке.
Предметом анализа является процесс выработки и формирования теоретических концепций такими идейными направлениями общественно-политической и философской мысли, как сменовеховство Н. В. Устрялова и «русский фашизм» в Харбине, связи этих представлений с философскими, политическими и общенаучными взглядами, имевшими место в исследуемый период, их специфика, борьба различных идеолого-политических течений в их среде.
Цель и задачи исследования
.
Цель диссертационного исследования сводится к тому, чтобы объяснить концептуальный сдвиг, произошедший в сознании многих русских эмигрантов в связи с событиями в России, и исследовать суть альтернативных вариантов развития России, разрабатываемых сменовеховцем Н. В. Устряловым и представителями «русского фашизма», ими. Достижение этой цели требует постановки и решения следующего ряда исследовательских задач:
— выявить и изучить малоизвестные и неизвестные источники, касающиеся политико-практической деятельности и общественно-философских воззрений «русского фашизма» и сменовеховства Устрялова Н. В. в Харбине;
— определить на этой источниковой базе систему социально-философских и общественно-политических воззрений Н. В. Устрялова, проанализировать основные понятия историософии Н. В. Устрялова, его социально-философские взгляды, показать их место в структуре сменовеховства и их отражение в его представлениях об общественном устройстве и судьбе России;
— исследовать мировоззренческие истоки и идейную сущность «русского фашизма», показать особенности того типа общественного устройства России, который, по их мнению, был наиболее приемлемым после падения большевистской власти.
Состояние научной разработанности темы Как уже было сказано, в отечественной науке восточная ветвь русской эмиграции с политическим и культурным центром в Харбине остается недостаточно изученной и на сегодняшний день. Определенную роль сыграли факторы, связанные с общественно-политической обстановкой в стране. В годы советской власти у отечественных исследователей не было благоприятных возможностей изучения многих аспектов эмигрантской жизни не только в Харбине, но и европейских диаспор. Особенно сложно было изучение социально-философских и общественно-политических воззрений ведущих представителей русской эмиграции, чьи работы находились в спецхране. Систематическому анализу феномена русской эмиграции мешала доминировавшая идеологическая установка.
Вместе с тем, начиная еще с 20- х гг., в Советской России стали собирать в библиотеках и архивах издания русской эмигрантской печати, включая периодику, художественную и научную литературу, которые выходили в Харбине. Отношение и доступ к этим изданиям как к источнику изучения русской эмиграции и реакция на их содержание была неодинаковой в разные периоды отечественной истории. При этом каждому этапу развития исторической науки соответствуют свои варианты интерпретации, ведущей методологии, политического руководства и использования эмпирической базы, соотношения исторической памяти и профессионального исторического знания, и тип историка.6 Исследователи выделяют ряд этапов изучения российской эмиграции в отечественной историографии, о которых, на наш взгляд, необходимо упомянуть и в связи с изучением такого локального центра, как Харбин.
1. Первый этап-20−30 гг. Начиная с 20-х гг. советская власть осуществляли сбор, хранение и надзор за проникновением печатной продукции из-за границы в Советскую Россию. В 1921 г. на основании доклада Л. Каменева на Политбюро было принято решение поручить тов. Ольминскому предоставить в Политбюро список тех белых изданий, получение которых в более или менее значительных количествах желательно. В июле 1922 г была создана комиссия по вопросам снабжения эмигрантской литературой. В задачу комиссии входило написание рецензий на статьи в эмигрантской прессе, которые составляли основу еженедельного отчета. С начала 20-х гг. увеличивается поток поступлений в советскую Россию эмигрантской литературы и материалов, связанных с деятельностью русской эмиграции. Это потребовало принятия ряда мер по упорядочению ее хранения и использования. Так, еще в 1920 году было принято постановление СНК РСФСР, согласно которому специальные учреждения должны были направлять всю имеющуюся у них белоэмигрантскую литературу, после использования для специальных целей, в государственный книжный фонд НК Просвещения для хранения и общественного пользования в государственных библиотеках.
Работы о русской эмиграции носили пропагандистский, публицистический характер.8 Здесь надо учитывать и тот факт, что в 20.
6 Бордюгов, Г. А, Ушаков А. И, Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, основы режима власти. МД998.
7 Ковалевич М. К. Русская политическая эмиграция и советская власть: поиск возможного идейно-политического компромисса. Кандиг. диссер. М, 1997.
8 Ивкина А. П. Библиография русского Зарубежья. Кандиг. диссер., МГЛУ, 1996. ые годы эмиграция не была полностью изолирована от России, связи не прерывались, границы, которые отделяли эмигрантов от других соотечественников, были достаточно прозрачными, существовала почтовая связь, велась переписка. Тем самым, культурная жизнь внутри страны и за ее пределами не была столь разъединенной.
2. Второй этап. С середины 30 — х до середины 50-х гг. эмигрантская литература была изъята из научного оборота и полностью сосредоточена в спецхранах.9 В таких условиях, естественно, сложно говорить о непредвзятом отношении к идейно-теоретическим и философским поискам в эмиграции.
3. Следующий период в отечественной историографии охватывает конец 50-х гг. и до середины 80-х гг. Советские историки получили возможность вновь обратиться к теме русского Зарубежья.10 Вместе с тем сохранялся идеологический контроль за интерпретацией того, что происходило в русском Зарубежье.
4. Современный этап отечественной мысли характеризуется началом более полного и комплексного изучения русской эмиграции в контексте как отечественной, так и мировой истории. Главной и определяющей тенденцией становится восстановление единой историографии вопроса не только о белом движении, но и обо всей эмиграции, которая долгое время была искусственно разъединена на изолированные исследовательские потоки: собственно советское, эмигрантское русское и западное. 11 Действительно, каждое из них зависело от внешних обстоятельств и среды, в котором оно развивалось, от социального заказа, времени и режима власти, оказывавших существенное влияние на позицию исследователей. Сейчас же создаются благоприятные условия.
9 там же.
10 там же.
11 Бордюгов Г. А., Ушаков А. И, Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, основы режима власти. Стр. 266 для соединения этих трех потоков, что позволяет поднять исследование на принципиально новый теоретический уровень. Это непосредственно касается также русской эмиграции в Харбине. Этому способствует также изменившаяся архивная политика, формирующееся единое информационное пространство. Для исследователей стали доступны ранее закрытые фонды библиотек и архивов, мемуарное наследие видных русских деятелей, которые оказались в эмиграции.
Введение
в научный оборот ранее неизвестных или недоступных источников позволяет дать более глубокий анализ взглядов и стремлений этих людей. Все это приводит к переосмыслению и восстановлению целостной картины культурной, идейно-политической и духовной жизни эмиграции.
В то же время исследователи сталкиваются с серьезными проблемами методологического характера. Условия и структура изучения проблемы не до конца определены. Еще не сформировались адекватные методологические подходы, не выработан соответствующий категориальный аппарат.
Обращаясь непосредственно к предмету диссертационной работы, отметим, что до сих пор нет систематических исследований, посвященных целостному концептуальному изучению отечественной мысли в Харбине. Несмотря на появившиеся в последние годы статьи, которые публикуются в научных изданиях и в виде сборников по материалам конференций12, освещаемая проблематика, имеющая.
12 См.: Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. МД991- Мельников Ю. Русские фашисты Маньчжурии. // Проблемы Дальнего Востока. 1991,№ 2 — Романовский В. К. Сменовеховство на Дальнем Востоке. // Международная научная конференция «Гражданская война на ДВ России: итоги и уроки. Тезисы докладов. Владивосток, 1992; Таскина Е. Неизвестный Харбин. МД994- Сонин В. В. Крах белой эмиграции в Китае. Владивосток, 1987; Печерица В. Ф. Восточная ветвь русской.эмиграции. Владивосток 1994; Дубинина. Об особенностях дальневосточной ветви российской эмиграции, // Отечественная история. 1996, № 1 и. т. д отношение к русской эмиграции в Харбине, носит преимущественно исторический характер.13.
Принимая во внимание степень научной разработанности темы в отечественной и зарубежной историографии, а также совокупность подходов, использованных для ее раскрытия, можно сказать, что исследования русской эмиграции в Харбине в целом, а также отдельных аспектов общественно-политической мысли харбинской эмиграции, в частности, «русского фашизма» и сменовеховства Н. В. Устрялова, не привели к созданию целостной картины их возникновения и развития. Несмотря на достаточную литературу по идеологии сменовеховства, социально-философские взгляды Устрялова мало исследованы. «Русский фашизм» изучено только как историческое явление. Практически не разработанными остались целые пласты, касающиеся идейных истоков и общефилософского содержания этих течений, конкретнополитического контекста, в котором оказалось возможным и в некоторой степени востребованным подобный поворот в сторону тоталитарных идей.
На Западе изучение российской эмиграции, особенно европейской ветви, началось с момента ее возникновения. На то были свои причины. Во-первых, проблемы русской эмиграции изучались в той или иной конкретной стране, в которой появилось немалое количество выходцев из России. Последнее приводило к тому, что вставал вопрос об интеграции этих людей в то общество, в которое они попали, в соответствии со сложившимися там социально-экономическими, политическими и социокультурными условиями. Во-вторых, изучение велось таким образом, чтобы выяснить структуру, настроения русских эмигрантов, выявить их политические ориентации, лидеров и наиболее авторитетные.
10 Батожок И. А. Русская реэмиграция из Китая в Калифорнию. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. СПБ, 1996; Аурилене Е. Е. Российская эмиграция в Маньчжурии в 30−40 гг. к.д. Владивосток, 1996. организации для возможного использования их в борьбе с политическим режимом, который утвердился в Советской России. В-третьих, на Западе проблемами русской эмиграции занимались преимущественно выходцы из эмигрантской среды, кто знал жизнь эмиграции изнутри. Тем самым, западные авторы были в более выгодном положении в плане как сбора фактологического материала, так и их обобщений, чем их советские коллеги.
Что касается изучения политических и социокультурных процессов, происходивших в Харбине, особо следует сказать о работе американского автора П. Балакшина «Финал в Китае. Возникновение, развитие и исчезновение белой эмиграции на Дальнем Востоке», опубликованной в Сан-Франциско в 1959 году. В этой работе представлен обширный исторический материал политического и общекультурного характера. Нельзя обойти вниманием также историческое исследование другого американского автора Дж. Стефана «Русские фашисты. Трагедия и фарс в изгнании» (Russian fascists. Tragedy and farce in exile. 1925;1945. New-York), посвященное изучению политической деятельности русских «фашистов» в Харбине и в Соединенных Штатах, остальных партий и движений русских эмигрантов в Маньчжурии.
Вместе с тем общетеоретических работ, посвященных русской эмиграции в Харбине в зарубежной историографии мало. Восточная эмиграция представлена чаще всего не как самостоятельная тема изучения, а скорее как фрагмент общего пласта культуры русского Зарубежья, без систематического анализа ее специфики. К таким работам относятся исследования американского автора Марка Раева «Россия за рубежом. История культуры русской 3MHrpanmi» (Russia abroad. Cultural history of the russian emigration. 1919;1939. New-YorkOxford, 1990.) — Микаэла Гленни и Нормана Стоуна «Другая Россия. Опыт изгнания» (ТЬе other Russia. The experience of exile. New-York, 1991) — А. Балавайдера «Константинополь и Харбин, Маньчжурия вступает на порог Канады» (Соп81апйпор1е and Harbin. Manchuria enters Canada. // Canadian Slavonic papers, 1972, vol 14).
Другой блок работ посвящен отдельным аспектам русской мысли, где также фрагментарно рассматриваются персоналии, в частности, Н. В. Устрялов, в контексте общих проблем русской мысли. Из этих работ можно назвать исследования Утехина С. «Русская политическая мысль» (Russian political thought. New-York, 1964.) — «Русская политическая мысль. Краткая HCTop^» (Russian political thought. A concise history. London, 1963.) — Розенберга В. Г «Либералы в русской революции. Конституционно-демократическая партия» (Liberals in the russian revolution. The constitution-democratic party. New-Jersy, 1974.) — Пайперса P., «Струве, Правый либерал. 1905;1949» (Struve. Liberal on the right. 1905—1949. Cambridge, London, 1980). Более подробно об Н. В. Устрялове говорится в работе Хилде Хардемана «Путь к соглашению с советским режимом. Движение „сменовеховства“ в среде русской эмиграции в начале 20х гг.» (Coming to terms with the soviet regime. The changing signpost movement among russian emigres in the early 1920 s. Illinois, 1994.). Исследование М. Агурского «Идеология национал-большевизма» считается наиболее полной работой по русскому «национал-большевизму». Автор не только объясняет политический феномен национал-большевизма, но и делает важные экскурсы в религиозномистические аспекты этой идеологии. Особенно подробно описана личность «сменовеховца» Н. В. Устрялова. (Париж, 1980).14.
14 Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980.
Балакшин П. Финал в Китае. Возникновение, развитие и исчезновение белой эмиграции на Дальнем.
Востоке. Сан-Франциско, 1959.
Balavyder, А. Constantinople and Harbin. Manchuria enters Canada.// Canadian Slavonic papers, 1972, vol 14.
За рубежом существуют центры и архивы, имеющее непосредственное отношение к истории русской эмиграции в Харбине, в создании которых участвовали сами бывшие харбинцы или их потомки, покинувшие Харбин после японской оккупации Маньчжурии и позже.
Достаточно большая коллекция собрана в Центре изучения России и Восточной Европы в Торонтском университете, где издается литературно-исторический ежегодник «Россияне в Азии» .15 Подобная коллекция хранится в Гамильтонской библиотеке Гавайского университета в Гонолулу, в Гуверовском институте войны, мира и революции при Стэнфордском университете, где, в частности находится личный архив Н. В Устрялова. Данный архив был вывезен из Харбина учениками Н. В. Устрялова в Калифорнию, и активно использовался С. Утехиным в написании части работы «Русская политическая мысль», рассматривающей взгляды Н. В. Устрялова.16.
Обширные архивные материалы о жизни и деятельности многих бывших харбинцев находится в музее русской культуры в Сан-Франциско, архивной библиотеке при Калифорнийском университете в Беркли.17.
В целом объем архивных материалов, связанных с Харбинской диаспорой, относительно большой. Несмотря на это, в исследованиях, посвященных русской эмиграции, редко встречается философское.
Hilde Hardeman. Coming to terms with the soviet regime. The changing signpost movement among russian emigres in the early 1920 s. Illinois, 1994.
Michael Glenny and Norman Stone. The other Russia. The experience of exile. New-York, 1991. Pipers R. Strove. Liberal on the right. Cambridge, London, 1980.
Raeff M. Russia abroad. A cultural history of the russian emigration, 1919;1939. New-YorkOxford, 1990. Rosenberg W. Liberals in the russian revolution. The constitutiondemocratic party. Princeton, New-Jersy, 1974.
Utechin S. Russian political thought. A concise history. London, 1963. Russian political thought. New-York, 1964.
Stephan J. Russian fascists. Tragedy and farce in exile. 1925;1945. New-York.
15 Россияне в Азии, литературно-исторический ежегодник.№ 1, 1995; № 2, 1996.
16 см.: Utechin S. Russian political thought. A concise history. London, 1963.
17 Батожок И. Русская эмиграция из Китая в Калифорнию, к. д, Спб, 1996 осмысление опыта русской эмиграции в Харбине и выход на общетеоретический уровень.
Структура диссертации.
Структура диссертации детерминирована основным замыслом, логикой и задачами исследования. Материал располагается в проблемно-хронологическом порядке, что дает возможность целостного видения объекта исследования. Работа содержит кроме введения и заключения две главы и приложение.
В первой главе «Н. В. Устрялов как социальный мыслитель. Сущность сменовеховства Н.В.Устрялова» анализируются социально-философские воззрения одного из основоположников общеэмигрантского идейно-политического движения «сменовеховцев» Н. В. Устрялова, работавшего в данный период в Харбине.
Н.В. Устрялов, был одним из авторов сборника «Смена вех», вышедшего в Праге в июле 1921 года, который призывал в свете новых политических реалий пересмотреть позицию интеллигенции по отношению к постреволюционной России. Суть пересмотра общемировеззренческих ориентиров и личных убеждений состояла в отказе от вооруженной борьбы с новой властью, признании необходимости сотрудничать с ней из национально-патриотических побуждений. Для Устрялова было важно усмотреть национальный характер большевизма и возможность осуществления русской идеи, русского пути развития в рамках большевистской государственности. Однако подобные призывы не всеми русскими эмигрантскими интеллектуалами и политиками были восприняты.
Во второй главе «Мировоззренческая и идейно-политическая парадигма русского фашистского движения в Харбине» рассматривается наиболее оформленное в организационном плане идейно-политическое течение «русских фашистов» в Харбине, которое, как и остальные политические партии и движения в русской эмиграции, находилось в поиске моделей обновления России.
На фоне фашизации социальной, культурной, политической действительности в Европе моделью спасения и переустройства России, альтернативной большевизму, стал для них пример социально-политических преобразований в фашистской Италии.
Многие внешние аспекты фашистской идеологии и атрибутики были восприняты русскими «фашистами» в Харбине. Однако, исследуя феномен русского «фашизма» нужно иметь в виду то обстоятельство, что в то время понятие «фашизм» еще не было осмыслено до конца. То социально-политическое явление, имевшее место в 20−30-ые гг. в Италии, и определялось термином «фашизм», существенно отличается от смыслового содержания, которое приобретает данный термин в политической литературе после опыта второй мировой войны. В этой связи уясняется, какие из существующих и общепринятых критериев, по которым определяется фашизм, можно проецировать на такое историческое явление, как «русский фашизм» в Харбине. Критерии определения фашизма выясняют сущность «русского фашизма» и дают ответ на вопрос, насколько его суть совпадала с таковой классических вариантов этого феномена, и в какой степени правомерно применение термина фашизм по отношению к рассматриваемому эмигрантскому течению в Харбине.
В заключении работы автор формулирует основные положения и выводы, сделанные в результате анализа обозначенных сюжетов.
В конце работы прилагается список использованных источников и литературы и приложение, в котором дается общие факты из истории русской эмиграции в Харбине, объективных и субъективных факторов, определяющих социокультурную среду, социально-экономические и политические обстоятельства в стране эмиграции.
Источники диссертации.
В ходе написания данной работы автор опирался в первую очередь на эмигрантскую литературу, которая издавалась русскими в Харбине, а также в других центрах русской эмиграции. Использованная в качестве источника печатная продукция являет собой периодические издания данной эпохи, сборники статей, нередко пропагандистского характера, программы политических партий и движений, которые имеют важное значение для системного рассмотрения темы. Говоря об эмигрантской литературе как об историческом источнике, необходимо иметь в виду один существенный момент. Дело в том, что эмигрантская литература является наиболее впечатляющей по объему, документальной оснащенности, широте и кругу поднятых вопросов, в том числе морально-религиозного, философского характера.18 Однако надо учитывать, что основная часть эмигрантской литературы была создана в своеобразных и противоречивых условиях жизни в Зарубежье. Как справедливо отметили Г. А. Бордюгов, А. И. Ушаков и Ю. В. Чураков, эмигранты были непосредственными деятелями и участниками событий, лидерами политических партий, членами Царского и Временного правительства, -были свободны от давления власти, цензуры и.т.д., тем не менее, они были людьми своего времени, что нашло отражение в их оценках и воззрениях. Слишком непримиримы они были с итогами революции, к тому, что происходило в 20−30-ые годы в советской России 19, чтобы их воззрения не носили печать времени и личного восприятия происходившего.
18 Бордюгов Г. А. Ушаков А. И, В. Ю. Чураков. Ук. Соч. Стр 267.
19 там же.
Как отмечают вышеупомянутые авторы, «для русских эмигрантов свойственны были субъективность, тенденциозность, эмоциональность, объясняемые, прежде всего исходом революции и войны. Вольно или невольно историческая обстановка, разлученность с новой Россией, социальная память диктовали проблематику и выводы, которые могли быть восприняты эмигрантской средой и тем текущим временем». Все эти обстоятельства проецировались на оценку прошлых событий. Поэтому данная литература требует критического анализа. Вместе с тем, она — незаменимый источник для знакомства с идеологическими концепциями анализируемого периода.
В главе, посвященной Н. В. Устрялову, автор пользовался его работами, изданными в Харбине и Шанхае в 20-ые и 30-ые годы, которые имеются в фондах Зала русского Зарубежья Российской государственной библиотеки.21.
Главными источниками в изучении идеологии русского «фашизма» стали работы определенного круга авторов — членов русской фашистской партии в Харбине (материалы находятся в фондах Центра хранения историко-документальных коллекций в Москве). Ценность их состоит в том, что они практически не использовались в научных исследованиях в силу, очевидно, относительно недавней недоступности отечественным исследователям. По крайнеймере, ссылки на эти работы русских фашистов пока не встречаются в отечественной научного там же.
21 Усгрялов Н. В. В борьбе за Россию. Сборник статей. Харбин, 1920 Устрялов Н. В. Политическая доктрина славянофильства. Харбин, 1925. Устрялов Н. В, Под знаком революции. Сборник статей. Харбин, 1925 Устрялов Н. В. Россия: у окна вагона, Харбин, 1926 Устрялов Н. В. Этика Шопенгауэра. Харбин, 1927 Устрялов Н. В, Итальянский фашизм. Харбин, 1928 Устрялов Н. В. О политическом идеале Платона. Харбин, 1929. Устрялов Н. В. На новом этапе. Шанхай, 1930 Устрялов Н. В. Германский национал-социализм. Харбин, 1933. Устрялов Н. В. Наше время, Сборник статей, Шанхай, 1934. исследовательской литературе. По словам американского исследователя Дж. Стефана, фашистские газеты, журналы, брошюры на русском языке хранятся в Гуверовском институте в Стэнфорде (Калифорния) и в славянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки. Однако в списке использованных Дж. Стефаном «фашистских» публикаций не указаны работы, которые были доступны автору диссертации, и, наоборот, он ссылается на те из них, которых нет в упомянутых фондах.
Определенное внимание уделено также к своеобразным историческим документам, представляющим собой агентурные сведения на польском, французском и немецком языках, которые соответственно отправлялись в Польшу, Германию и Францию. Это результат пристального внимания к деятельности русских эмигрантов в Харбине, в частности, русских «фашистов». Данные документы позволяют проследить особенности той атмосферы, которая окружала русских эмигрантских деятелей, атмосферы интриг, поиска, согласования или диктата интересов, политических игр. Они в какой-то мере дают возможность определить, какие мотивы стояли за лозунгами и декларативными заявлениями тех или иных партий и движений. При этом нужно иметь в виду и их объективные недостатки как исторического источника, обусловленные их жанром и направленностью. Поэтому думается, что данные материалы не всегда бесспорны даже в отражении тех или иных реалий, не говоря об оценке. Тем не менее, и они представляют определенную историческую ценность.22.
22 ЦХИДК. ф 501, о 3, № 470- Ф 500, о 3, № 453- Ф 500, 0 316, № 1 ф 519, о 3, № 11 ф 7, о 1, № 386 Ф 7, о 1, № 395 Ф 7, о 1, № 852 ф 1, о 27, № 12 570.
В качестве источников в настоящей работе использованы не только строго научные исторические материалы, но и публикации мемуарного жанра, написанные самими бывшими харбинцами. Эти свидетельства важны уже тем, что передают дух и атмосферу изучаемой эпохи. Особенно хорошее освещение нашли в этих воспоминаниях разные русские деятели культуры и представители делового мира Харбина. Немаловажна и оценка деятельности конкретных персоналий, степени популярности тех или иных людей и их идей.23.
Наконец, важные детали были почерпнуты и из публикаций архивных документов, в частности, сборник документов, выпущенный в Южно-Сахалинске в 1994 году. Данный сборник содержит ранее не опубликованные материалы о военно-политической деятельности российской эмиграции в Маньчжурии (1920;1945 гг.), составленный из недавно рассекреченных дел реэмигрантов из Маньчжурии, хранившихся в архиве управления МБ РФ по Приморскому краю.24.
Теоретико-методологическим основанием данного исследования выступают диалектические принципы объективности, историзма и системности.
Научная новизна диссертации.
Новизна данного диссертационного исследования, во-первых, заключается в изучении взглядов представителей русской эмиграции с учетом не только специфики положения на Дальнем Востоке, ситуации в.
Ф 1, о 27, № 77 ф 308, о 3, 456 Ф 308, о 19, № 47 Ф 308, о 19, № 61 Ф 308, о19, № 46.
23 Русский Харбин. М, 1998.
24 Российская эмиграция в Маньчжуриивоенно-политическая деятельность (1920;1945).Сборник документов. Ю-С, 1994. самом Харбине, но и общей идейно-политической атмосферы того времени. Другими словами, предпринята попытка дать историко-философский анализ политических и социальных воззрений сменовеховца Н. В. Устрялова и «русских фашистов» в Харбине в контексте общих тенденций в мире того времени.
Во-вторых, сочетание в структуре диссертационного исследования достаточно большого исторического компонента в виде эмпирической фактологии с их философским анализом можно считать новизной, поскольку существующая литература по данной тематике либо носит характер чисто исторических исследований, как в случае с «русским фашизмом», либо посвящена отдельным аспектам наследия конкретных деятелей.
В-третьих, в диссертации показано, что объединить в одно проблемно — тематическое русло столь разные явления как сменовеховство Н. В. Устрялова и русский «фашизм» позволяет не только тот факт, что они сформировались и функционировали в одном локальном центре, но и то, что они имели общие корни и в определенном отношении общие цели в смысле поиска выхода из той ситуации, в которой оказалась Россия.
В-четвертых, проанализированы социально-философские идеи Н. В. Устрялова относительно русской революции и цивилизационных особенностей России. Выявлена органическая связь взглядов Н. В. Устрялова с общей традицией русской философии, с идеями русских мыслителей, в частности, И. А. Ильина и в то же время расхождения концептуального характера. Автор диссертации показал попытки Н. В. Устрялова объяснить события в России как часть глобальных процессов эпохи.
В-пятых, исследованы теоретические и мировоззренческие основания «русского фашизма» на основе систематического анализа работ идеологов этого движения, описана предлагавшаяся ими структура социальной и экономической организации обществаисходя из этого показана специфика «русского фашизма», в соответствии с его особенностями автором уяснены те из существующих критериев определения фашизма, которые можно проецировать на такое явление, как «русский фашизм», уточнен термин, применяющийся по отношению к рассматриваемому явлению.
И, наконец, научная новизна диссертации состоит во введении в научный оборот неиспользованных отечественными исследователями архивных материалов, касающихся русских «фашистов» и их деятельности.
Апробация и практическая значимость диссертационного исследования.
Основные идеи диссертации изложены автором в выступлениях на тему диссертации: 1."Н.В.Устрялов — русский мыслитель в Харбине" на XX научной конференции по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки на восточном факультете СПбГУ в апреле 1999 года- 2. «Некоторые особенности русской эмиграции в Харбине» на конференции молодых ученых в декабре 1999 года (Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. Материалы 10-й конференции молодых ученых. СПб, 1999) — а также в статьях по теме диссертации: «Русский мыслитель в Харбине» (Армагеддон. Актуальные проблемы истории, философии, культурологии. Книга третья (май-июнь). М, 1999),. «Некоторые особенности русской эмиграции в Харбине» (Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. Материалы 10-й.
Заключение
.
Октябрьская революция, которую правомерно считают главным событием в отечественной истории XX века, породила такой социальный и политический феномен как русская политическая и неполитическая эмиграция. Октябрьская революция и победа большевизма в России явились не только причиной появления русской эмиграции, но и стали толчком для возникновения принципиально новых тенденций и идейно-философских дискуссий в русской общественно-политической и философской мысли именно относительно революции и будущего России. Результаты революции и ее последствия во многом не совпали с теми ожиданиями и предсказаниями тех, кто был непосредственным участником событий, вне зависимости от того, приветствовали революцию или резко выступали против нее. Более того, гражданская война, а затем поражение белого движения в ходе этой войны, последовавшая за ним эмиграция из России заставили многих пересмотреть свои прежние взгляды и воззрения, искать новые пути вывода страны из того положения, в котором она оказалась. Произошел концептуальный сдвиг и эволюция взглядов на относительно недавние события в России и на ее будущее среди некоторой части русской эмиграции. Очевидно, на этот процесс влияли факторы как объективного, так и субъективного характера.
К объективным факторам можно отнести в первую очередь то, что в условиях эмиграции традиционные российские политические и социальные структуры утратили свою легитимность, а вчерашние воззрения свою актуальностьсмена взглядов на прошлое и будущее, стратегии, тактики борьбы с большевизмом, была требованием времени и в какой-то степени рациональным политическим поведением. Отсюда идейные поиски, которые приводили к совершенно разным полюсам. Так, на примере рассмотренных общественно-политических течений сменовеховства Н. В. Устрялова, направленного на политический компромисс с большевизмом, и русского фашизма в Харбине можно сказать, что, отталкиваясь от своего опыта и собственного видения действительности и будущего, разных философских предпосылок, эмигранты моделировали то общество, которое, по их мнению, было разумно и приемлемо. Они не могли быть свободными от фактора исторической вовлеченности, которая далеко не способствовала объективному видению. Это касается и Н. В. Устрялова, который верил в эволюцию большевизма, и русских фашистов, предлагавших фашистскую альтернативу преодоления большевизма.
Также мы не можем не учитывать то объективное обстоятельство, которое оказало определенное влияние на эволюцию взглядов русской эмиграции, заключающееся в общем кризисе идей либерализма в тот период, с одной стороны, и в скептических настроениях относительно применимости в России традиционных принципов демократии. Общий кризис идей либерализма и парламентской демократии в Европе, последовавшая фашизация и усиливавшийся антидемократизм в некоторых странах повлияли на умонастроение части русской эмиграции, особенно эмигрантской молодежи, что конкретно привело к появлению русской фашистской организации с заимствованной фашистской идеологией и теорией строительства новой постбольшевистской государственности в России, тоталитарной политической системы взамен советской системы, которая по сути тоже была тоталитарной. Скепсис же по отношению к демократии, распространившийся в среде русской интеллигенции, затронувший также Н. В. Устрялова и подготовивший его к принятию большевистской диктатуры, был другого рода, и его нельзя назвать антидемократизмом в полном смысле слова. Его суть заключалась в том, что отрицались не сущность и традиции либеральной демократии, а имели место сомнения по поводу органичности буржуазно-демократического государственного устройства для России после победы Октября. Таким образом, увлечение определенной части русской эмиграции тоталитарными идеями, на основе которых строилось предполагаемое фашистское государство, также разочарование в применимости демократических ценностей в России и признание принципиальной неизбежности диктатуры в России Н. В. Устряловым и движением сменовеховцев, в большей степени были обусловлены тенденциями в реальной политике и в сфере политикофилософской мысли не только в России, но и в мире в целом. Естественно, мы здесь не отождествляем разнокачественные идеологические течения, которые имели совершенно разные философские истоки и обоснования. Однако точкой, где они соприкасаются, является их цель — преодолеть те формы социально-экономической и политической реальности в большевистской России (русские фашисты через фашистскую альтернативу, Н. В. Устрялов через приятие большевизма, который в скором времени должен изжить себя), обозначить будущее России, и генетическая связь их концепутально-значимых идей с атмосферой той эпохи.
Что же касается содержательной стороны рассматриваемых течений, то в случае с русскими фашистами можно сказать, что они не разработали фундаментально новых позиций в вопросах, которые поднимались другими фашистскими движениями в Европе. Теоретической и мировоззренческой основой их движения являлись все-таки те концепции, которые разрабатывались фашистскими движениями. При этом русские фашисты заимствовали те положения, которые, по их мнению, могли бы реализоваться в постсоветской России, акцентируя внимание на тех моментах, которые были актуальны с точки зрения критики социально-экономической политики советского правительства. Таким образом, русскими фашистами была предпринята попытка заимствования доминирующих элементов теории конкретного политического движения, которое сопровождалось некоторой переработкой и модификацией. В итоге родилась идеология русского фашистского движения, которая была выражена в форме определенных постулатов и принципов, без достаточно обоснованной аргументации, а также в виде обещаний, направленных на будущее, когда большевистская власть в России будет свергнута.
Подытоживая сказанное, можно предположить, что, во-первых, идейно-политическое движение «русский фашизм» возникло как реакция на проблемы, которые стояли перед русской эмиграцией.
Во-вторых, это было результатом влияния объективных политических тенденций в Европе, как кризис демократических форм и распространение тоталитарного течения в виде фашизма.
В-третьих, в кризисные периоды, когда рушится привычный мир, устои подвергаются сомнению и критике, не исключено и увлечение радикальными идеями. -Поэтому можно сказать, что в эмигрантской среде в какой-то мере существовали социально-психологические предпосылки для появления фашистского движения.
И, в-четвертых, организованное фашистское движение с атрибутами партии, с органами печати и источником финансирования в полной мере было возможно в специфических условиях Харбина. С одной стороны, сказалась повышенная военно-политическая активность русской эмиграции в Харбине, которая силой обстоятельств оказалась вовлеченной в планы разных сил, с другой стороны — наличие определенного интереса к антибольшевистским русским эмигрантским организациям со стороны японских сил в Маньчжурии, которые их поддерживали и финансировали.
Русский фашизм как форма и организация структуры власти не был реализован. Это движение имело место вне пределов страны, применительно которой разрабатывалась модель фашистского государства. По сути, по своему глубокому убеждению они не были фашистами, не разделяли крайних форм расизма и террора. Фашизм рассматривался большинством из них лишь как средство борьбы с большевизмом.
Мировоззренческой установкой преодоления большевизма Н. В. Устрялова было принятие и предполагаемое последующее изживание большевистской революции через процесс внутреннего органического перерождения. Таким образом, в стратегическом и историософском плане это было не просто конъюнктурное фактоприятие, а нечто более глубокое и философски обоснованное постижение тогдашних сегодня и завтра. Именно на вере в эволюцию большевистской власти он обосновывает необходимость компромисса русской эмиграции с советским правительством. Подобные взгляды становятся воззрением целого социального и культурного слоя русской эмиграции и одним из вариантов третьего пути и в теоретическом, и в социально-политическом смысле.
В кратком изложении позиция Н. В. Устрялова заключалась в следующем:
Если Великие революции всегда органически подлинно национальны и всенародныесли они экстремичны и непременно углубляются до чистой идеи, не имеющей корней в действительности, но опережающей ее и становящейся затем активной силой исторической эпохиесли, в силу своей экстремичности они разрушительны в тот период своего развития, то в условиях существующей действительности следует исходить не из эмпирических впечатлений, а из общего анализа сути революции, и к элементам деструктивности относиться философски-аналитически до тех пор, пока революция не завершится органически. Отсюда следовало, что на.
140 данном этапе нужно принять и понять предназначение революции для России, способствовать процессу ее эволюции.
Таким образом, концепция о фашистских принципах строительства российской государственности после предполагаемого падения советской власти, программа осуществления политических и экономических реформ, выработанная русскими фашистами на основе идей европейских фашистов, и модель сильного государства при его единстве и целостности с эволюционировавшим нравственно-этическим обликом, которую ожидал Н. В. Устрялов, представляли собой варианты поиска возможных моделей развития России. В этом смысле программные работы русских фашистов и национал-большевизм Н. В. Устрялова можно рассматривать как часть этого общего направления среди русских эмигрантов. Историческая и теоретическая уязвимость тех или иных концептуальных построений не снижает их социокультурной ценности, поскольку они представляют собой теоретическую рефлексию непосредственных участников масштабных событий.
Впрочем, многие аспекты общественно-политической и философской мысли русской эмиграции в Харбине требуют дальнейшего исследования.