Вера и интуиция жизни.
Религиозно-философские искания Л. Н. Толстого
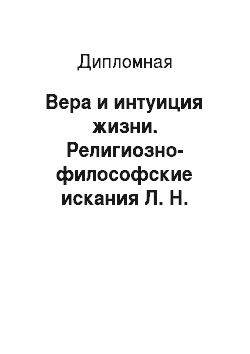
И эту ошибку отмечают критики Ильина — В. Зеньковский и Н. Бердяев. Книга Ильина «О сопротивлении злу силою» вызвала большой интерес и дискуссию среди русских философов и публицистов. Этот интерес, прежде всего, вызван той эпохой, в которую она была написана, и теми проблемами, которые остро поставила перед всеми русская революция. Но почему же для Ильина предметом его разбора является Толстой… Читать ещё >
Вера и интуиция жизни. Религиозно-философские искания Л. Н. Толстого (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Министерство образования Российской Федерации Российский государственный гуманитарный университет Философский факультет
Кафедра современных проблем философии
Дипломная работа Вера и интуиция жизни. Религиозно-философские искания Л.Н. Толстого
Москва 2013
Глава I. От отрицания жизни к ее утверждению
1.1 В поисках смысла жизни
1.2 Вера и любовь
Глава II. Страдания и два облика смерти
2.1 Смерть и личностное Я
2.2 Философия жизни в художественном творчестве
2.3 Толстой и Шопенгауэр
Глава III. Вера без чудес и «догмат» непротивления
3.1 Откровение и правила жизни
3.2 Личность и разум
3.3 Добро и непротивление злу насилием
Глава IV. Религия, нравственность и наука
4.1 Религия как отношение к миру
4.2 Вера, неверие и наука
Заключение
Список использованных источников
и литературы
Осмысление человеческой жизни всегда вырастает из самой жизни. Оно неразрывно связано с религиозными и философскими исканиями человека, с поисками высших ценностей, с поисками первичных, фундаментальных отношений человека к миру. Каковы эти отношения? Даны ли они свыше или устанавливаются людьми? Что является основой связи между людьми — религия или мораль? Если это религия, что же тогда является основой самой религии — божественное откровение или правила жизни, устанавливаемые выдающимися людьми?
Отношение духовных ценностей и социальной жизни, источники добра и зла, проблема свободы воли, отношение нравственности и религии — это вечные проблемы философии. Значительную остроту они приобрели в XIX веке, в эпоху технического прогресса, войн, революций, социальных реформ. Прогресс, жизнь и практика становятся высшими ценностями западной культуры.
Значительны перемены и в России, которые связаны прежде всего с подготовкой и проведением реформы 1861 года. Русская философия XIX в., так же как и западная, все больше обращается к проблемам социальной жизни. В России христианские ценности сохранялись в основном в низших слоях общества, а в высших, в «культурной толпе», по выражению Л. Н. Толстого, царило неверие или, по крайней мере, «нерешенность» относительно веры. Оппозиция западничества и славянофильства во многом совпадала с оппозицией секулярной и религиозной философии.
Отношение человека к Богу и необходимость религиозного осмысления жизни становятся основной предпосылкой для русских религиозных мыслителей. Из этого вырастала и проблема религиозного преобразования жизни, пути которого виделись по-разному.
Особое место в русской мысли и философии занимает «великий писатель земли русской» Лев Николаевич Толстой. Его нельзя причислить к какому-либо лагерю или направлению. С одной стороны, с его отрицанием государства, церкви и т. д. он близок к анархизму (что пытались использовать революционеры всех мастей), с другой — к религиозной философии, так как он хотел преобразовать жизнь на религиозной основе. Толстой пытался разрешить дилемму между верой в сверхъестественное и неверием. Он попытался создать целостное мировоззрение, в котором метафизическое видение жизни должно было послужить основой для разрешения этой дилеммы.
Огромным было значение религиозных и философских идей Толстого в России. Даже философы, которые не признавали его критику христианства, говорили о том, что именно Толстой пробил брешь в религиозном индифферентизме.
Н.А. Бердяев видел заслугу Толстого в том, что он, как никто, «заставил христианский мир задуматься над своей нехристианской, полной лжи и лицемерия жизнью. Он — страшный враг христианства и предтеча христианского возрождения». С. Н. Булгаков писал, что Толстой «уподобляется в этом смысле влиянию тех мыслителей древности, которые были „детоводителями ко Христу“ и „христианами до Христа“ …И там, где есть место Сократу, Платону, Аристотелю, Птоломею, Омиру, не окажется ли места и Толстому, не в самом храме, но при входе в храм, к которому он приблизил некоторых своим общерелигиозным влиянием» .
Традиционно считается, что жизнь Толстого «переломлена» на две половины: до 70-х годов — это великий писатель и человек «от мира сего», а после 80-х годов — это уже человек «по ту сторону добра и зла»: человек, который вывел себя из культурных общепринятых традиций, и в силу этого, как пишет Мережковский, «одни говорят, что это христианский подвижник, другие — безбожник, третьи — фанатик, четвертые — мудрец…- основатель новой религии» .
Мы согласны с Дм. Мережковским, оспаривающем взгляд о глубоком нравственном и религиозном перевороте, случившимся с Толстым в конце 70-х годов. В подтверждение того, что все идеи «позднего» Толстого зародились задолго до «переворота», можно привести запись Толстого, сделанную им еще в Севастополе (в 1855 г.): «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на громадную и великую мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». И этой задаче Толстой всецело посвятил себя.
Собственно говоря, переворот заключался в том, что Толстой не только стал отрицать науку, религию и искусство, но и отказался от всего, что он сам ранее создал как писатель.
На пути «основания новой религии» Толстой сталкивается с проблемой, которая важна не только для него, но которую пытались разрешить многие мыслители прошлого и настоящего. Проблема эта — отношение религии и этики. Суть ее заключается в том, возможна ли мораль, не имеющая религиозного основания. Положительный ответ на этот вопрос мы находим в кантовской этике, которая оказала большое влияние на Толстого. Однако он не был всецело под влиянием Канта. Толстовская «интуиция жизни», о которой пойдет речь дальше, выводила его за пределы формальной этики Канта. Только на первый взгляд решение этой проблемы у Толстого состоит в замене религии этикой.
В дипломной работе поставлены три задачи: 1) выявить глубинную основу мировоззрения Толстого, которую мы называем «интуицией жизни», и показать, что она, особенно ярко проявившись в художественном творчестве, одновременно является основой религиозного мировоззрения Толстого; 2) рассмотреть проблему отношения этики и религии у Толстого на основе работ: «Исповедь» (1882), «В чем моя вера?» (1884), «О жизни» (1887), «Религия и нравственность» (1894), «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902), описать эволюцию в понимании веры и религии у Толстого и показать, что в этой эволюции «интуиция жизни» остается неизменной основой мировоззрения Толстого; 3) рассмотреть, каким образом Толстой пришел к пониманию принципа непротивления злу насилием как основы религиозного мировоззрения.
В работе ставится также задача рассмотреть полемику среди русских философов в эмиграции, которая возникла по поводу книги И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою», поскольку в наше время проблема адекватного ответа насилию стала еще более актуальной.
Литература
о Толстом необозрима, это главным образом — литературоведческие исследования, но я опирался в основном на те работы, которые связаны с религиозно-философскими исканиями Л. Толстого, учитывая также, что эти искания нашли свое отражение и в художественном творчестве Толстого. Среди них особое место занимает фундаментальный труд Дм. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (1900;1902), который помог представить целостную картину философско-религиозных воззрений Толстого.
Чтобы описать интуицию жизни Толстого, я, с одной стороны, опирался на его философские трактаты, особенно на его работу «О жизни», а с другой стороны, — на анализ художественного творчества Толстого в работе Бицилли П. М. «Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого»
К анализу религиозных воззрений Толстого, изложенных в работе «В чем моя вера?», чтобы подчеркнуть различие в традиционном понимании веры как Откровения от собственных убеждений Толстого относительно христианства, я привлек работы В. Н. Лосского, который, на мой взгляд, наиболее полно раскрыл сущность основных христианских догматов, отвергаемых Толстым. При рассмотрении проблемы отношения нравственности и религии были использованы те работы Н. А. Бердяева, в которых он выявил ряд антиномий в «христианстве» Толстого, а также работы С. Н. Булгакова, Л. Шестова, В. В. Зеньковского и др.
Чтобы подчеркнуть актуальность проблемы непротивления злу насилием, в дипломной работе подробно рассматриваются работы русских философов И. Ильина, В. Зеньковского и Н. Бердяева — наиболее ярких участников полемики по поводу книги И. Ильина «О сопротивлении злу силою». В ходе исследования рассматривалось также влияние на Толстого И. Канта, А. Шопенгауэра и Ж.-Ж. Руссо. Особое внимание было уделено влиянию Шопенгауэра на Толстого, поскольку оно было наиболее глубоким и сильным.
Глава I. От отрицания жизни к ее утверждению
1.1 В поисках смысла жизни
На первый взгляд жизнь — это что-то само собой разумеющееся, данное нам непосредственно. Но когда человек начинает спрашивать себя, что такое жизнь и в чем ее смысл, возникает множество неразрешимых вопросов, которые он пытается разрешить на протяжении всей своей жизни. И дело не только в попытке разрешить эти вопросы; даже когда люди просто говорят и рассуждают о жизни, само понятие жизни как бы «отрывается» от действительности и, более того, обретает метафизический смысл. Говоря о смерти, мы часто размышляем так: «Ну, что делать? Ведь это — жизнь». Может быть, в этой простой фразе содержится нечто бульшее, чем упоминание того факта, что смерть встречается в нашей жизни наряду с другими явлениями. Возможно, и в этом проявляет себя интуиция жизни?
Лев Николаевич Толстой — великий художник и «певец жизни»: все его образы — как описание природы, так и описание людей — исполнены невероятной силы жизни. Возможно, это связано не только с великим талантом художника, но и с тем чувством жизни, которое было у него самого. На фоне всего этого великолепия и полноты жизни, его герои, особенно те, в которых он пытался воплотить самого себя, постоянно задают себе те же самые вопросы, которые мучили их создателя. Так, герой Толстого Левин «думал о том, что он такое и для чего он живет, … не находил ответа и приходил в отчаянье; но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал, и что он такое и для чего он живет, потому что твердо и определенно действовал и жил» .
В этой главе я попытаюсь представить мысли о жизни Толстого в трех планах: как они представлены в «Исповеди», которая является глубочайшим анализом хода собственных размышлений; в трактате «О жизни», где эти самые мысли представлены как бы в готовом виде и как возражения предполагаемым противникам (в основном, это люди науки и, если можно так выразиться, собственные заблуждения Толстого); и как они представлены в заключении романа «Анна Каренина», где описание мыслей Левина можно назвать художественным авторефератом «Исповеди», и где они, соединяясь с описаниями жизни и природы, приобретают особо яркое выражение.
Хочется отметить, что в способе изложения мыслей в этих произведениях прослеживаются две противоположные тенденции: с одной стороны, желание проповеди, подчеркивание особенности своего учения, а с другой стороны, в этой же самой проповеди — отказ от индивидуальности, от личности и (одна из главных предпосылок Толстого) глубокая убежденность, что это чувство и интуиция жизни изначально присущи всем людям без исключения.
Возможно, именно эта предпосылка и является источником отказа от индивидуальности (хотя трактат «О жизни» носит описательный характер, но в нем тоже есть элементы проповеди, и сами названия глав трактата говорят об этом). Как отмечает В. Зеньковский: «…обладая исключительно яркой индивидуальностью, упорно и настойчиво следуя во всем своему личному сознанию, Толстой приходит к категорическому отвержению личности…»
Даже в то время, когда Толстой пришел к полному отчаянию и увидел всю бессмысленность жизни, даже тогда у него оставалось чувство, которое можно назвать «интуицией жизни». Толстой говорит о силе, которая влекла его прочь от жизни, но при этом отмечает, что эта сила не была желанием убить себя. Именно это замечание и говорит о том, что даже когда он считал смерть полным уничтожением, даже тогда он сохранял чувство «интуиции жизни». «Жизнь мне опостылела — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении». Его alter ego, Левин, тоже думал об этом: «Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство — смерть. Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить». И то, что Толстой хотел убить себя в самом расцвете своих физических и умственных сил, имея все для полного счастья: семью, детей и т. д., еще более подтверждает мысль о том, что вопросы жизни и смерти и страдания не зависят от внешних обстоятельств.
Наиболее ярко интуиция жизни чувствуется в сцене гибели Анны Карениной; хотя Толстой и заканчивает эту сцену тем, что жизнь Анны потухла как свеча, но во всем том, что он говорит ранее, ощущается та же самая «интуиция», несмотря на кажущееся ощущение, что это — прощание с жизнью. Описание жизни здесь «перевешивает» саму смерть: «Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминании, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями… И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла»
И в «Исповеди», и в трактате «О жизни» Толстой говорит о противоречии жизни человека. В «Исповеди» это противоречие Толстой видит в том, что человек продолжает жить, несмотря на то, что знает — жизнь бессмысленна. Это противоречие все время мучило самого Толстого, который постоянно задавал себе вопросы: «Зачем? Ну, а потом?». В трактате «О жизни» Толстой усматривает основное противоречие жизни в следующем: человек стремится к благу (это, пожалуй, самое главное определение жизни), но он видит что, для достижения этого блага он должен тем или иным образом ущемить блага других людей и более того, это приводит иногда к смерти других людей; следовательно, жизнь есть зло.
Толстой приходит к мысли о бессмысленности жизни, он постоянно задает себе вопросы: «Какой смысл моей жизни? — Никакого. — Или: Что выйдет из моей жизни? — Ничего. — Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я существую? — Затем, что существует». К этим вопросам Толстой пришел в результате своего «отпадения» от веры. Веру свою он считал неискренней, скорей это была не вера, а доверие к тому, что ему внушали с детства, и к тем обрядам и традициям, которые он наблюдал вокруг себя. Но он не мог оставаться неискренним: «Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования…, людях правдивых с самими собою…». После отпадения от веры Толстой пытался найти разрешение этих вопросов в другой вере. Это была вера в совершенствование, вера в прогресс и вера в науку — естественную и метафизическую.
Сначала Толстой был убежден в способности науки ответить на все вопросы, в том числе и о смысле жизни. Он попал в среду ученых людей, убеждения которых состояли в том, что: 1) все развивается и совершенствуется, «все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается». («Я тоже развиваюсь и совершенствуюсь, в этом и состоит моя жизнь»); 2) все состоит из атомов и молекул, бесконечных процессов в веществе, и когда мы до конца познаем все тайны этих биологических процессов, мы, наконец, узнаем, в чем состоит жизнь. Но, в конце концов, Толстой пришел к выводу: «Ну, я знаю, — говорил я себе, — все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет». Так же размышляет и его герой: «Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей; но для жизни они ничего не давали…»
По мере того, как Толстой размышлял над этими вопросами и изучал все возможные науки, он пришел к выводу, что, во-первых, развитие, которое он наблюдал в самом себе, стало «замедляться» и даже начался процесс старения; и, во-вторых (и это является самым важным моментом в духовном перерождении Толстого), что наука занята не исследованием жизни как таковой, а исследованием процессов, отражающих эту жизнь. В «Исповеди» Толстой пишет: «Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь» .
Толстой определяет жизнь как само собой понятное для всех людей: «Но именно потому, что все понимают, что оно значит, мы и обязаны употреблять его всегда в этом понятном всем значении». А наука подменяет это понятие тем, что, собственно говоря, не является жизнью, или тем, что называется жизнью в совсем другом смысле: «большинство опытно-научных исследователей жизни вполне уверены, что они изучают не одну только сторону жизни, а всю жизнь. Астрономия, механика, физика, химия и все другие науки вместе, и каждая порознь, разрабатывают каждая подлежащую ей сторону жизни, не приходя ни к каким результатам о жизни вообще» .
Толстой спрашивает: Где я тогда могу полагать свою жизнь — в себе как в целостном и духовном существе, или — в клетке, в которой происходят определенные процессы? «Чему же я припишу свойство жизни — клеточкам или себе? Если я допущу, что клеточки имеют жизнь, то я от понятия жизни должен отвлечь главный признак своей жизни, сознание себя единым живым существом; если же я допущу, что я имею жизнь, как отдельное существо, то очевидно, что клеточкам, из которых состоит все мое тело и о сознании которых я ничего не знаю, я никак не могу приписать того же свойства» .
Толстой говорит, что наука всегда претендует на то, чтобы изучить жизнь со всех сторон, а это невозможно, во-первых, потому что ни один предмет нельзя видеть сразу, со всех сторон, во-вторых, просто потому, что жизнь в истинном смысле находится вне сферы научного исследования: «Как нельзя подойти к предмету сразу со всех сторон, так нельзя сразу и со всех сторон изучать явления жизни. И волей-неволей устанавливается последовательность. Вот в ней-то и все дело. Последовательность же эта дается только разумением жизни». И Толстой настаивает главным образом на том, чтобы слова всегда употреблялись в подлинном их значении.
Но Толстой разочаровался не только в естественных науках, но и в метафизических науках и в философии. Он говорит о том, что вычитал у философов только одно — «жить бессмысленно» — именно то, к чему он сам пришел. Толстой опирался на тех «великих мудрецов», которые отрицали жизнь. Это, прежде всего Будда, Шопенгауэр и автор Экклезиаста, которого Толстой называет Соломоном. Нужно отметить, что Толстой и себя причислял к их числу — он прямо так и пишет: «…мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может…» .
Начиная свои размышления о философии и метафизических науках, Толстой справедливо замечает, что, «опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука — тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине» .
Но рассуждение Толстого о метафизических науках сводится к тому, что они только ставят вопросы, но не отвечают на них. Они ставят вопросы, подобные тем, которые он сам себе задавал: «…что такое я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир?». На эти вопросы, по мнению Толстого, философия не может ответить, даже когда философы полагают в основании мира какую-то одну субстанцию, они только констатируют факт, что эта субстанция существует, а зачем она существует и что из этого следует, они ответить не могут: «» что такое я и весь мир?" — «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир, и зачем существую я?» — «не знаю» «. Поэтому Толстой делает справедливый вывод о том, что истинная философия должна вопрошать, а не отвечать.
Толстой, как и его герой Левин, тоже «перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера — тех философов, которые не материалистически объясняли жизнь. Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал, или сам придумывал опровержения против других учений, в особенности против материалистического; но как только он читал или сам придумывал разрешения вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как дух, воля, свобода, субстанция, нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити, — и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум.
Одно время, читая Шопенгауера, он подставил на место его воли — любовь, и эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его; но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее, и оказалась кисейною, негреющею одеждой". Герой Толстого так же пришел к убеждению, что все, до чего философы дошли рассудочным путем, было давно ему известно, и все эти построения являются искусственными.
И все-таки Толстой «вычитал у мудрецов» не только отрицание смысла жизни. В «Исповеди» он приводит только те цитаты из мудрецов, которые отрицали жизнь. В трактате «О жизни» он говорит о том, что все мудрецы с древних времен раскрывали людям смысл жизни. И этот смысл в основном сводится к тому, что достижение истинного блага возможно только через отречение от личности: это единственный путь устранения основного противоречия жизни — так как достижение личного блага невозможно без нарушения права других людей, нужно отречься от своей личности.
Действительно, очень часто удивляешься тому совпадению мыслей и изречений мудрецов разных эпох и народов: «» Жизнь — это распространение того света, который для блага людей сошел в них с неба", сказал Конфуций за 600 лет до Р. X.
" Жизнь — это странствование и совершенствование душ, достигающих все большего и большего блага", сказали брамины того же времени. «Жизнь — это отречение от себя для достижения блаженной нирваны», сказал Будда, современник Конфуция. «Жизнь — это путь смирения и унижения для достижения блага», сказал Лао-Дзе, тоже современник Конфуция. «Жизнь — это то, что вдунул бог в ноздри человека, для того, чтобы он, исполняя его закон, получил благо», говорит еврейская мудрость. «Жизнь — это подчинение разуму, дающее благо человеку», сказали стоики. «Жизнь — это любовь к богу и ближнему, дающая благо человеку», сказал Христос, включая в свое определение все предшествующие". Именно это совпадение Толстой очень точно объясняет: «А так как положение в мире всех людей одинаково и потому одинаково для всякого человека противоречие его стремления к своему личному благу и сознания невозможности его, то одинаковы, по существу, и все определения истинного блага и потому истинной жизни…» Такое совпадение мыслей, полагает Толстой, подтверждает то, что все эти мудрецы, да и в принципе все люди обладают единой интуицией жизни и единым разумом. Конечно, такая жизненная сила и интуиция жизни может служить примером для подражания — именно она дает человеку силы не только к жизни, но и может являться источником творчества. Но и тут может возникнуть вопрос — достаточно ли одной этой интуиции для ощущения полноты жизни, или необходима какая-то внешняя по отношению к жизни опора, или даже — достаточно ли человеку самого этого ощущения жизни? Состоит ли задача человека только в том, чтобы понять жизнь, пускай даже самые высшие духовные проявления этой жизни?
1.2 Вера и любовь
Как же сам Толстой от спорного отрицания жизни перешел к ее утверждению? Конечно, он приходит к утверждению жизни через деятельную веру и деятельную любовь. Толстой сам признается, что какими бы несомненными ему не казались доводы Соломона, Шопенгауэра и свои собственные о том, что жизнь бессмысленна, у него всегда было чувство, «что что-то здесь не так». Он не мог понять этого разумом, но чувство это всегда присутствовало: «Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни… и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум» .
Когда Толстой разочаровался во всех науках и в философии, и стал искать у окружающих «этого разъяснения в жизни», то сначала он обнаружил четыре способа решения этого вопроса: «первый выход — это выход неведения… Второй выход — это выход эпикурейства… Третий выход есть выход силы и энергии (который направлен на уничтожение жизни как зла — К.М.)…Четвертый выход есть выход слабости („тянуть жизнь“)». Но вскоре Толстой убедился, что он не может принять ни один из этих выходов, поскольку наблюдал все это у людей своего круга. Оглянувшись «вокруг себя», он увидел, что кроме него и этих людей существуют миллиарды людей, которые, несомненно, видели в жизни смысл: «как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство» , — удивился Толстой.
Но в чем же видели смысл жизни эти самые миллиарды? Они его видели именно в вере, в той самой вере, которую Толстой отверг. Он высказывает очень интересную мысль о том, что вера, даже если она сама по себе глупа и не имеет никакого смысла, необходима уже потому, что именно она придает смысл жизни. (Это подобно утверждению Канта о том, что все такие понятия, как «Бог», «бессмертие» и т. д., хотя и не даны нам в реальности, но имеют огромное значение для нашей моральной жизни и даже управляют нашей жизнью).
Здесь Толстой опять столкнулся с противоречием: он не мог принять веру, поскольку это было неразумно. Но именно вера устанавливает то отношение, которое необходимо для разрешения его вопросов — это отношение конечного к бесконечному. Основной вопрос, который может задать любой человек — каково отношение между мной, конечным, и бесконечным миром? Толстой признал, что его ошибка заключалась в том, что при попытке разрешить вопрос о смысле жизни, он всегда «приравнивал… конечное к конечному и бесконечное к бесконечному». Поэтому у него и выходило, что «сила есть сила,…воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти»: получалось подобно тому, как в математике — вместо того, чтобы решать уравнение решают тождество.
Таким образом, на вопрос: «Почему я существую?», получали ответ: «Потому, что существую». А иногда и такие ответы: «0+0=0». «Что выйдет из моей жизни?» — «Ничего». Именно такой ответ и получал Толстой: «жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто». Вера же — это установление отношений между Богом и человеком, между конечным и бесконечным. И теперь, вместо отрицательных ответов и тождеств, Толстой получает совершенно другие ответы: «Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? — ответ: по закону божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? — Вечные мучения или вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? — Соединение с бесконечным богом, рай»
В этом рассуждении о вере Толстой как бы применил к себе самому то, что он говорил относительно задач опытных и метафизических наук. Но, тем не менее, ему постоянно мешало противоречие между верой и разумом, потому что при попытке разумом повторить весь ход мысли — все разрушалось. «Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку». Именно в этом смысле нужно понимать слова Толстого о том, что высшая разумность «отравляет» нам жизнь. (Значение «разумного сознания» в трактате «О жизни» отличается от значения «разумного знания» в «Исповеди»: если «разумное сознание» носит более высший и метафизический характер, и именно ему должна подчиняться личность человека, то «разумное знание» — это эмпирическое знание, которое очень часто мешает нам).
Здесь Толстой отмечает ограниченность декартовского «строго разумного знания», обоснованного с помощью радикального сомнения. Толстой говорит, что именно такое строго разумное знание исключает вопрос об отношении конечного и бесконечного и ведет к упомянутым ответам-тождествам. Переход к вере заставил его отказаться от своей исключительной индивидуальности и посмотреть на «миллиарды» других, которые видели смысл жизни в «неразумной» вере. Он понял, что с тех пор как существует человечество, именно вера придает жизни смысл: «Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, — смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью» .
Он определяет веру как «силу жизни»: «вера в самом существенном своем значении не есть только „обличение вещей невидимых“ и т. д., не есть откровение…, не есть только отношение человека к богу…, не есть только согласие с тем, что сказали человеку…— вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет». Но в этом определении вера носит абстрактный характер, ибо Толстой как бы отбрасывает в сторону все главные определения веры. Более того, далее Толстой замечает, что пока человек живет, он должен во что-то верить — это тоже доказывает, что для Толстого, во всяком случае, на первом этапе принятия веры, главным является не отношение к Богу, не откровение, а придание вере характера некоторой неопределенной субстанции.
Толстой стал искать смысл самой веры и снова обратился к людям своего круга (повторив свой ход поисков смысла жизни), но у них он не увидел подлинной веры, потому что вера должна, прежде всего, уничтожать страх перед страданиями и смертью, а эти люди точно так же боялись смерти, как и неверующие. Для них вера опять-таки была одной из форм эпикурейства. Здесь Толстой высказывает главную мысль в отношении веры, утверждая, что только деятельность этих людей могла бы доказать, что у них есть подлинная вера, а подобной деятельности он не видел.
Именно деятельность этих людей, а не их суеверие, оттолкнули Толстого от их веры. И он стал сближаться с «трудовым народом»: даже суеверия, которые были у народа, были необходимы ему. Он видел, что в отличие от «тех» людей, «эти» спокойно переносят страдания и иногда даже с радостью приближаются к смерти. Здесь на все вопросы он находил ясные ответы, которые в общем можно выразить словами мужика, сказавшего Левину, что надо «жить для бога, для души»
" Жизнь для Бога и для души" Толстой понял как необходимость отказа от себя, от своей индивидуальности и полной отдаче себя другим, а именно — деятельной любви. Когда он это понял, то увидел, что все его сомнения, неудачные попытки разрешить вопросы о жизни, и невозможность принятия веры, происходили даже не от неправильного рассуждения, а от «дурной жизни», оттого, что он сам жил дурно. На этом пути «дурной жизни», он не мог получить других ответов, кроме тех, что жизнь есть зло и бессмысленность. Толстой сам признается, что его спасло только то, что он смог вырываться из своей исключительности. Кроме того, его мучило другое чувство. Это было чувство, а не рассуждение — «чувство мучительного искания Бога». Если раньше, под влиянием Канта и Шопенгауэра, Толстой считал доказательство бытия Бога невозможным, то теперь он сам пытался опровергать Канта. И рассуждает так: «Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни» .
Толстой неоднократно возвращался к этим рассуждениям, ощущая при этом то «радостные волны жизни», то чувство, что все опять умирает вокруг него и в нем. Он начал не только «теоретически» постигать веру, но «вместе с народом» ходить в церковь и исполнять церковные обряды. Именно обряды смущали Толстого, пока он не понял, что их нужно исполнять и принимать ради единения и любви. Он понимал и принимал слова «возлюбим друг друга да единением», и это для него было важнее, чем слова, которые он не понимал и пропускал: «исповедуем отца и сына и святого духа» .
Таким образом, любовь помогла удержаться вере, а вера — любви. Он определяет любовь, как «чувство разрешающее все противоречия жизни человеческой и дающее наибольшее благо человеку», и если жизнь — есть деятельность, то «любовь есть единственная разумная деятельность человека». Именно через такую «деятельную любовь» путем полного самоотречения, и достигается истинная жизнь и истинное благо: «Любовь истинная есть сама жизнь… Жив только тот, кто любит» .
Толстой понимал необходимость «примерять» конечное к бесконечному; но, несмотря на то, что именно этот принцип помог Толстому выйти из отчаяния и обрести, как ему казалось, веру, в своих дальнейших рассуждениях он не «примерял» этот принцип в отношении самой веры. Интересно отметить, что вера для Толстого как бы ограничивается пониманием смысла жизни, и не выходит дальше этого понимания: «Основа веры есть смысл жизни, из которого вытекает оценка того, что важно и хорошо в жизни, и того, что неважно и дурно. Оценка всех явлений жизни есть вера» .
При таком понимании веры, это слово вполне можно заменить словом «убеждения». Для Толстого вера — то же, что убеждения, по которым мы оцениваем жизнь и придаем ей определенный смысл. И все же он чувствовал истинный смысл веры, когда писал, что хотел бы очистить христианство «от веры и таинственности» .
Для Толстого тайна — это только то, что непонятно, и следовательно, то — что надо отвергнуть. Здесь хотелось бы привести высказывание православного философа В. Н. Лосского, который отмечает, что наша мысль должна раскрываться «навстречу тайне»; и что тайна — это вовсе не секрет. Быть может, тайна — это как раз то, что движет нашу мысль:
" Но не одно только чувство, но и ум наш также должен быть религиозным, мысль также должна раскрываться навстречу истине, вернее — ни то, ни другое в отдельности, но все наше существо в едином горении и трезвении… христианизация ума, превращение философии в созерцание, насыщение мысли тайной, которая не есть какой-то скрываемый от всех секрет, а свет неистощимый" .
Толстой сознательно ограничивает свою мысль рамками социального рационализма. И может быть, именно в силу этого ограничения он часто впадает в противоречия. Когда мысль движется в одной плоскости, противоречия неизбежны — при отсутствии опоры на идею более высокого уровня, на идею высшего порядка — рассуждения всегда будут сталкиваться друг с другом.
Можно даже отметить два момента: 1) когда Толстой понял, что смысл жизни в самоотречении и в делании добра другим (почти все герои ранних рассказов думают об этом); 2) отказ от этого самого самоотречения и от делания добра — понимание того, что это все — гордость: «Это все гордость, убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей одна любовь к себе …» , — пишет он в повести «Казаки» (1863 г.). Практически это выразилось в том, что во время переписи в Москве Толстой отказался от благотворительности не потому, что не хотел помогать, осознав бессмысленность «подаяния» одному за счет другого, но потому, что сам процесс «подаяния» доставлял ему удовольствие. Хотя в будущем он постоянно помогал самым различным людям.
Глава II. Страдания и два облика смерти
2.1 Смерть и личностное Я
Но не только вера и не только любовь как «светлые стороны жизни» привели Толстого к утверждению жизни и к тому, что можно назвать «интуицией жизни», но и страдания. Как это ни кажется странным, понимание Толстым смерти и страдания, усиливают эту «интуицию жизни». Переход от понимания смерти как полного уничтожения к совершенно новому представлению ее как перехода к новому отношению к миру, к новой жизни, стал центром в интуиции жизни Толстого.
Если сначала отпад от веры, разочарование во всех видах знаний привели Толстого к «вопрошанию», то смерть любимого брата, перевернувшая всю его жизнь, хотя и повергла его в отчаяние, стала источником его разочарования в жизни, но в дальнейшем — побудила его искать смысл жизни и стала источником его убеждения в невозможности смерти: «он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое»
В трактате «О жизни» Толстой пишет, что когда человек умирает, его жизнь становится более яркой, полной и реальной: «Сила его жизни после его плотской смерти действует так же или сильнее, чем до смерти, и действует как все истинно живое». Рассуждения Толстого о смерти связаны с той предпосылкой, что истинная жизнь находится не в пространстве, не во времени, и поэтому Толстой говорит о том, что прекращение плотского общения с человеком вовсе не доказывает, что смерть действительна. Кроме того, — что такое память? Для Толстого, воспоминание об умершем человеке: «…есть та самая его невидимая, невещественная атмосфера, которая окружала его жизнь и действовала на меня и на других при его плотском существовании, точно так же, как она на меня действует и после его смерти» .
Толстой также доказывает, что страх смерти происходит только от того, что люди не понимают, в чем состоит истинная жизнь. Существует два взгляда на жизнь, которые оба логичны. Согласно первому взгляду — все, даже сознание человека, есть «произведение мертвого вещества»; сознание — это «призрак», несмотря на то, что оно способно охватить весь мир; а так как все происходит из мертвого вещества, то «жизнь есть игра смерти». Таким образом, если бы люди логически следовали этому взгляду, то они должны были бы бояться жизни, а не смерти. Смерть понималась бы ими как естественный переход вещества в новое состояние.
Согласно другому взгляду, истинная жизнь, которую мы сознаем в себе, проявляется вне пространства и времени; то, что происходит в пространстве и времени — это только отражение жизни, или призрак, и потому «временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерть при этом взгляде не существует»
Однако люди не следуют строго ни тому, ни другому взгляду, и продолжают бояться смерти. Происходит это потому, что они полагают свою жизнь в борьбе за существование и стремятся уменьшить свои страдания, а между тем, именно этой борьбой эти страдания они только увеличивают. Люди стараются улучшить внешние условия жизни, а при этом улучшении они все больше и больше теряют главный смысл жизни — любовь. Поэтому, как отмечает Толстой, «лучшее же внешнее устройство их существования зависит от большего насилия над людьми, прямо противоположного любви. Так что, чем лучше их устройство, тем меньше у них остается возможности любви, возможности жизни». Истинный смысл жизни только в «деятельной любви», а люди сознательно лишают себя этого.
Но даже если бы люди смирились со смертью, то страдания, которые наполняют жизнь, сами по себе могли бы «разрушить всякий разумный смысл жизни». В «Исповеди» Толстой приводит притчу о Сакия-Муни, который юношей впервые вышел из своего дворца и увидел все страдания человека и, наконец, смерть; а когда узнал, что это все будет и с ним, он решил, что «жизнь есть величайшее зло», от которого нужно освободиться, т. е. нужно освободить себя от жизни, и «освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне». Собственно говоря, страдание и смерть — это единственные вещи, в которых мы не можем никак сомневаться.
Но в трактате «О жизни» Толстой совершенно по-другому смотрит на страдание. Почему же люди продолжают жить, несмотря на страдания, несмотря на то, что в каждый момент они могут умереть? Ведь нет закона, по которому одни подвергаются «случайностям самого ужасного страдания», а другие — нет? И Толстой отвечает: «люди все в глубине души знают, что всякие страдания всегда нужны, необходимы для блага их жизни, и только потому продолжают жить, предвидя их или подвергаясь им». Более того, именно страдание как «болезненное ощущение» вызывает деятельность, направленную на уничтожение страданий. И таким образом, страдание — это то, что «движет жизнь, и потому есть то, что и должно быть» .
Но с другой стороны, Толстой далее доказывает, что страдание человека также не зависит от внешних условий. Чтобы это прояснить, Толстой опять проводит сравнение человека и животного. Для животного причина страданий — во внешних условиях, «в нарушении закона жизни животной»; чтобы избавиться от них, животное должно вырваться из этих условий, направить свою деятельность на исправление этих условий, поскольку оно живет только в настоящем. Человек же, поскольку он обладает разумным сознанием, как бы он не пытался преодолеть настоящие условия страданий, не может вырваться из круга страданий, потому что настоящие условия — только одна часть его страданий. Он размышляет над этим и ищет причину своих страданий. А причина, в конце концов, лежит не во внешних условиях, а либо в заблуждениях других, либо в собственных заблуждениях в прошлом. Т. е. заблуждения или грех и являются истинной причиной страданий человека, или, как это называет Толстой, «нарушение закона жизни разумного сознания» .
Поэтому деятельность человека должна быть направлена на причину страдания, «на заблуждение, и деятельность эта освобождает страдание от его мучительности». Т. е. главное — не избавиться от страдания как от какого-то внешнего условия настоящего момента, а важно сознать свой или чужой грех, и тем самым принять страдание как необходимость. И более того, страдания эти составляют «необходимое условие жизни и блага людей». Такое понимание страдания опять-таки дает человеку возможность уяснить, что истинная жизнь находится не в пространственно-временных отношениях, и именно в этом смысле страдания являются благом: «Страдание это есть сознание противоречия между греховностью своей и всего мира и не только возможностью, но обязанностью осуществления не кем-нибудь, а мной самим всей истины в жизни своей и всего мира» .
В определении жизни как особого отношения к миру, наиболее ярко проявляется «мистический имманентизм» Толстого, о котором говорит В. Зеньковский. Хотя эта теория изложена Толстым совершенно логично, она в себе несет некоторые противоречия.
С одной стороны, Толстой говорит, что люди боятся смерти потому, что боятся потерять свое «я». «Я» Толстой отделяет от сознания; сознание для Толстого не является единым, оно непостоянно, так как на протяжении всей жизни оно изменяется (и даже, если мы помним о своем прошлом, мы помним так, как будто мы помним не о себе, а о ком-то другом). Кроме того, во время сна наше сознание «обрывается совершенно и потом опять возобновляется». Значит, согласно Толстому, сознание определяется только пространственно-временными отношениями: «есть ряд последовательных сознаний, которые можно дробить до бесконечности». Но тогда, благодаря чему мы сознаем свое единство, несмотря на то, что наше тело и наше сознание постоянно изменяются? Мы сознаем это благодаря «Я», которое, по мысли Толстого, находится вне пространства и времени и дано нам изначально, и, более того, не начинается с нашего рождения и не кончается с нашей смертью.
С другой стороны, Толстой пытается определить «Я» как степень любви или нелюбви к чему-либо, т. е. он пытается определить «Я» через мир. И в этом состоит противоречивость этой теории. На первый взгляд, «отношение к миру» — самое простое и естественное определение. Действительно, можно сказать, что моя жизнь — это мое «особенное отношение к миру»: «Основа всего того, что я знаю о себе и о всем мире, есть то особенное отношение к миру, в котором я нахожусь и вследствие которого я вижу другие существа, находящиеся в своем особенном отношении к миру. Мое же особенное отношение к миру установилось не в этой жизни и началось не с моим телом и не с рядом последовательных во времени сознаний»
Но, во-первых, это определение противоречит даже тем определениям жизни, которые Толстой давал раньше: в своих определениях жизни он все время пытался отделить жизнь от мира. Толстой использовал апофатический метод, говоря о том, что жизнь — это не биологические процессы, не историческое и социальное развитие и т. д.
А во-вторых, под это понятие и определение «отношения к миру» можно подставить что угодно: например, в работе «Религия и нравственность» Толстой определяет религию тоже как «отношение к миру», и это же самое можно сказать о философии и даже — о научных теориях — все это будет «особенным отношением к миру». Такое определение жизни можно понять только, если рассматривать жизнь как внепространственное и вневременное, как-то, что ниоткуда не приходит и никуда не уходит. При таком понимании, действительно уничтожается смерть. Жизнь — это вечное движение, а смерть — это установление нового «любовного отношения к миру», так как жизнь есть любовь, а любовь есть жизнь. При таком понимании жизни, жизнь — не только стремление к благу, но и сама — благо.
2.2 Философия жизни в художественном творчестве
В статье «Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого» (1928), П. М. Бицилли выходит за рамки традиционных оценок и сосредоточивает свое внимание, по существу, на самой сердцевине толстовской философии.
Бицилли П.М. пытается не просто рассмотреть проблему жизни и смерти у Толстого, но и показать, что эта проблема является источником всех толстовских исканий и всего его творчества. Он подчеркивает мистичность миросозерцания Толстого, хотя и отмечает разницу между христианской мистикой и мистикой Толстого: «Надо только остерегаться смешения понятий „мистика“ и „христианство“. Существует „христианская мистика“ и известны великие мистики, бывшие великими христианами; но „чистая мистика“ и „чистое христианство“ — если только под христианством понимать христианское богословие, — друг друга исключают. Мистическое миропонимание имманентно, христианское — трансцендентно; первое стремится преодолеть понятия Творца и Твари, охватив их вместе некоторой высшей идеей — Всеединства; для второго — эти понятия являются предельными» .
В целом, можно сказать, что Бицилли хотел выразить мысль, что «нехристианство Толстого» никак не умаляет его главную интуицию — интуицию жизни и интуицию смерти.
Для Бицилли главной интуицией является интуиция смерти. Смерть одновременно и отрицает жизнь, и включена в саму жизнь, является загадкой жизни. Поэтому, говоря об интуиции смерти, Бицилли подразумевает интуицию жизни. У Толстого было два облика смерти, которые он, по-видимому, заимствовал у Шопенгауэра. Смерть как уничтожение жизни, переход в небытие, и связанный с этим страх смерти; и смерть как умиротворение, как просветление души (в рассказе «Смерть Ивана Ильича» эти два образа соединяются и переходят один в другой: когда наступила смерть, смерти уже не было). Шопенгауэр, в свою очередь, ссылался на индийскую мудрость: «Индусы придавали богу смерти, Яма, два лика: один — страшный, пугающий, другой очень ласковый и добрый». Говоря о гении, Бицилли пишет, что «на то он и гений, т. е. индивидуальность в полном смысле слова, все „объективное“ в себе ассимилирующая, а не просто поглощающая, а потому и способная созидать нечто новое, свое, а не только передавать воспринятое, как делают прочие люди»
Чтобы наиболее полно представить силу толстовской интуиции, Бицилли выбирает не публицистические произведения Толстого, а «Войну и мир» и «Анну Каренину». Ибо тут он сходится с Шестовым, который утверждает, что вся философия Толстого — в «Войне и мире». Этот роман предстает перед нами как сама жизнь. Можно даже сказать, что «Война и мир» — это не «война и общество» (как это обычно трактуют), а война — это борьба жизни и смерти, а мир — это их примирение.
По-видимому, интуицию по-настоящему возможно выразить только в художественном произведении. Когда Толстой пытался ее выразить в своих философских трактатах, он уподоблялся тем своим героям, которые действовали только по разуму и тем самым «разлагали» «жизненный процесс на отдельные „моменты“, из коих каждый мыслится им самостоятельным целым». В художественных произведениях, где Толстой описывает всю жизнь, взаимопроникновение мельчайших частиц этой жизни, эта интуиция выражается сама собой, помимо воли автора (хотя он и работает над образами отдельных героев). По-видимому, выражение интуиции требует того самого «урагана образов», о котором писал Набоков в своем стихотворении «Толстой». Это даже не поток сознания отдельного героя, а бушующий океан Всежизни.
Говоря о том, что живые не понимают смерти, Бицилли приводит в пример Пьера Безухова, который никогда не понимал смерти. Пьер, в отличие от других героев Толстого, не был никак «трансформирован». Пьер — воплощение чистой идеи: «Олицетворение «чистой» идеи Жизни, Пьер выполняет в романе роль «жизнеподателя. Весь его образ — категорическое «нет!», которое Жизнь бросает Смерти. Смерть обессмысливает Жизнь» .
Но если смерть обессмысливает жизнь (об этом Толстой тоже много размышлял, переживая смерть близких людей), то почему же появляется другой образ смерти — смерти как умиротворения? Может быть, с этим связана мысль о том, что мы способны понимать только живое, и Толстой интуитивно всегда сопрягал смерть с жизнью? Бицилли приводит многочисленные примеры: радостный бал в доме Ростовых — и смерть старого князя Безухова, смерть Николая Левина совпадает с зарождением новой жизни — беременностью Китти и т. п. Таким образом, смерть — это переход в новую жизнь. (Этот же мотив присутствует и у Шопенгауэра).
Для доказательства того, что у Толстого было мистическое мироощущение и что мистика смерти — «доминанта мировоззрения Толстого», Бицилли использует, как он сам пишет, банальный, но необходимый способ — сравнение с Достоевским. У Достоевского, по мнению Бицилли, в описаниях смерти нет ничего мистического. Для его героев смерть — это расставание с близкими: они или сами убивают себя, или их убивают. Нет никакого перехода: «речь идет об отходе, о расставании с близкими, но не о таинственном перерождении, не о «раскрывании». Для героев Толстого смерть важна не только для самого умирающего, но она способствует духовному возрождению его близких: так, смерть Пети Ростова способствовала духовному возрождению Наташи, и он «всецело выразил себя в смерти», стремясь к ней «безотчетно, как гетевская бабочка к огню» .
Для Толстого смерть — это и есть подлинное раскрывание души человека (как он неоднократно писал в своих дневниках и письмах). Так, по поводу смерти дочери Марии Львовны (1906) он пишет в дневнике: «Для меня она (смерть) была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области прекратилось, т. е. мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. Где? Когда?..» О Толстом можно сказать, что он не просто умер, но стал «свидетелем собственной смерти», прикоснулся к таинству смерти.
Пожалуй, самым важным в статье Бицилли является его исследование двух отрывков из записей Толстого, которые подтверждают не только то, что Толстой был проникнут мистическим мироощущением, но и неразрывную связь между двумя интуициями — интуицией жизни и интуицией смерти, стремлением к смерти. Обе интуиции проникают друг в друга.
Первый отрывок Бицилли справедливо считает образцом философско-художественного творчества, и поэтому оставляет его без комментариев: «Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба, когда вы не один ликуете и радуетесь природой (sic!), когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползают коровки, везде кругом заливаются птицы. А эта голая, пустынная, серая площадка, и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы (sic!), не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного далека. Мне дела нет до этой дали»
Здесь хочется только заметить, что Толстой описывает здесь горную природу Швейцарии, и сама Швейцария как страна для него — «голая, пустынная, серая площадка», в отличие от России, где он чувствовал себя всецело слитым с природой.
Более важен второй отрывок: из письма к Н. Н. Страхову, 1876 года:
" Я определяю жизнь объединением части, любящей себя, от остального… Человек знает только живое… Поэтому для живущего доступно только живое, подобное ему (жизни); все же, представляющееся ему мертвым, есть живое, недоступное ему. Оно-то и есть непостижимое, и не только соприкасающееся, но и обнимающее его… Но если человек может понимать только жизнь и не может понимать конца объединением,… то у него необходимо является понятие бесконечного живого… объединяющее в себе все. Объединение же всего есть явное противоречие… Бог живой, Любовь, есть необходимый вывод разума и вместе с тем бессмыслица, противная разуму" .
Интерпретация этого отрывка в целом сводится к тому, что «объединение» для Толстого — это и есть смерть. Можно, конечно, спорить с Бицилли о том, что Толстой спутал в первой фразе «объединение» с «отъединением». По-видимому, это не «путаница»: возможно, для Толстого «объединение» и «отъединение» — это единый процесс. Толстой самой своей жизнью и своим творчеством доказал это (вспомним Бердяева — «быть как все и не быть как никто»).
Мы способны понимать только живое, поэтому мертвое для Толстого — это просто то, что не доступно нашему пониманию. И из этого рождается понятие бесконечности: когда мы понимаем живое, мы включаем себя во все живое, объединяемся со всем живым. Но Толстой тут же говорит, что «объединение же всего есть явное противоречие». По-видимому, здесь имеется в виду конечное объединение, т. е. смерть, которая есть одновременно и отъединение от жизни, т. е. обессмысливание жизни. Но не является ли это отъединение конечным объединением? И в этом смысле Бицилли прав, когда пишет: «Переходя от жизни к смерти, включаясь в то „чистое объединение“, в „бесконечное живое, объединяющее в себе все“, субъект в силу этого „отъединяется“ от всех частичных жизненных форм, в том числе и от своей собственной, они все для него умирают, обессмысливаются, но уже не потому, что они обращаются для него в пассивные объекты, не потому, что теоретическое отношение к ним вытесняется практическим, но потому, что, включаясь вместе со мною — уже утрачивающим „мое Я“ — в Абсолютный Субъект, они, эти формы, утрачивают, как и сам я, свою самость. Это я есть мистика Смерти, метод, путеводной звездой на котором светит для духа, стремящегося к постижению последней, не поддающейся никакой словесной квалификации загадки Сущего, образ смерти» .
Автор комментария, по-видимому, хочет также сказать, что Толстой здесь приходит к противоречивому понятию Бога, который одновременно объединяет все в себе, и отъединен от всего. Но Толстой неясно выразил эту мысль, а Бицилли добавляет, что у Толстого «» мертвая" природа может … стать частью «меня самого» — или, что-то же, «я сам» — «частью всего бесконечного далека» <�…> В пределе, таким образом, Все может войти в это «объединение». Но «объединение» есть в то же время и «отъединение» — ибо то, что объединено, есть «самость», Individuum, субъект. Мы таким образом приходим к внутренне противоречивому понятию Бога, т. е. абсолютного субъекта. Субъекта, включившего в себя весь объект, «объединения» без «отъединения», к понятию жизни, которой уже не противостоит ничто мертвое" .
В свете рассматриваемой проблемы можно поставить вопрос: не является ли этот пантеизм Толстого выражением интуиции жизни?
2.3 Толстой и Шопенгауэр
Влияние Шопенгауэра на Толстого отражается и в статье Бицилли, который, по сути дела, интерпретирует Толстого по Шопенгауэру. Здесь нужно обратиться к толстовскому пониманию равенства, справедливости, заповеди о непротивлении злу и любви к врагам. Во всем этом можно видеть давнее влияние Шопенгауэра. Толстовское понимание равенства основано не на христианском представлении о равенстве каждой личности перед Богом, а как раз на буддистско-шопенгауэровском понимании мировой справедливости. Толстой часто говорит о том, что во всех людях живет один и тот же дух, но это не Дух Божий (в христианском смысле), а именно шопенгауэровское понимание того, что мы все принадлежим одной мировой воле, и во всех нас — одно и то же существо. Шопенгауэр пишет о невозможности различить преступника и наказуемого, поскольку оба они «виноваты»: «оскорбитель и оскорбленный сами в себе суть одно и то же существо, не узнающее себя в своем собственном проявлении, несущее как муку, так и вину» .
С этим же связано и толкование Толстым заповеди о любви к врагам. Характерно то, что Толстой, говоря об этой заповеди, делает как бы мимоходом, в скобках, замечание о том, что любить личных врагов невозможно («Любить врагов? это было что-то невозможное. Это было одно из тех прекрасных выражений, на которые нельзя иначе смотреть, как на указание недостижимого нравственного идеала… Можно не вредить своему врагу, но любить—нельзя <�…> Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих» .)
Далее Толстой развивает мысль о том, что любить врагов надо постольку, поскольку все мы — люди, во всех нас — один и тот же дух. И чтобы не обсуждать при этом проблему личности, он опять ссылается на Ветхий Завет, говоря, что враг для еврея — это чужой народ. И в этом смысле надо любить людей того народа, который находится в состоянии войны (с твоим народом).
И здесь мы опять сталкиваемся с отрицанием личности, которая растворяется в общей единой воле. Принимая этику долга Канта, рассматривая заповеди Христа как категорический императив, Толстой при этом говорит об их недостижимости как идеалов. Видимо, это связано с непониманием внутренней сущности заповеди Любви к врагам — любить врагов нужно именно как личностей. Да, во всех людях один и тот же дух, но этот дух — не всеобщая воля, а личностный Дух Живого Бога. Возможно, именно понимание духа как всеобщей воли и ведет к «опрощению» у Толстого. Он как бы переносит духовный уровень заповедей на эмпирический и толкует все заповеди в социальном плане. Действительно, если воля всеобща, то чтобы достичь всеобщего благоденствия, достаточно просто произвести некоторые социальные преобразования. Поэтому, например, Толстой толкует заповедь «не судите, да не судимы будете» в том смысле, что Христос призывал к упразднению государственных судов и других учреждений.
Между тем, Шопенгауэр, говоря о вечном правосудии, отличает его от земного: «временное правосудие, пребывающее в государстве, носит воздающий или карательный характер;… Но совершенно иначе обстоит дело с вечным правосудием, о котором мы уже упомянули ранее и которое правит не государством, а вселенной, не зависит от человеческих учреждений, не доступно случайности и заблуждению, не знает слабости, колебаний и ошибок, является непогрешимым, незыблемым, непорочным»
А Толстой хотел соединить временное и вечное правосудие, и именно в этом смысле — установить Царство Божие на земле, но соединить их чисто эмпирическим путем. Толстой все время колебался между временным и вечным миром, он пытался перейти границы временного, но этими же временными способами. Именно к Толстому как ни к кому другому можно применить следующие слова Шопенгауера: «Есть в человеческой природе гораздо более поразительная зато и более редкая черта: она характеризует собой стремление перенести вечное правосудие в область опыта, т. е. индивидуации, и в то же время указывает на предчувствие того, что, как я выразился выше, воля к жизни разыгрывает свою великую трагедию и комедию за собственный счет и что одна и та же воля живет во всех явлениях…»
Как для Шопенгауэра, так и для Толстого важной темой являются страдания. Толстой видел главную причину страданий в этом мире, вернее во зле этого мира. Он даже отрицал христианское понимание страдания как страдания во имя Христа и говорит о «мучениках мира»: «большинство людей — мученики учения Mиpa» .
Конечно, он упоминает о мучениях во имя веры, но все-таки больше говорит о том, что все страдания происходят из-за того, что мы вовлечены в этот мир, и Толстой видит разницу между «учениками мира» и учениками Христа только в том, что «ученики Христа, страдая, будут думать, что их страдания нужны для Mиpa, а ученики Mиpa, страдая, не будут знать, зачем они страдают». Опять-таки ученики Христа, для Толстого, страдали для мира, а не во имя Христа. Он даже отрицает саму возможность страданий «от исполнения учения Христа» .
На место слова «мир» можно поставить шопенгауэровскую волю: Шопенгауэр тоже говорит, что все страдания и муки в мире выражают мировую волю. А мир — «есть только зеркало этой воли, и вся конечность, все страдания, все муки, которые он содержит в себе, выражают то, чего она хочет… поэтому каждое существо несет бытие вообще, затем бытие своего рода и своей особой индивидуальности, какова она есть, и при условиях, каковы они есть, в мире, каков он есть, — подвластный случайности и заблуждению, бренный, преходящий, вечно страдающий; и все, что с каждым существом происходит и даже может с ним произойти, всегда справедливо. Ибо воля — его, а какова воля, таков и мир»
У Толстого страдания — не во имя Христа, а — во имя мира, или мировой воли. Страдания — в воле. Толстой как бы говорит вместе с Шопенгауэром: «мир сам есть Страшный суд». Тем не менее, Толстой глубоко чувствовал и сам в себе переживал эти страдания мира. Говоря словами Шопенгауэра: «согласно истинной сущности вещей, каждый должен считать все страдания мира своими, и даже только возможные страдания он должен считать для себя действительными, пока он представляет твердую волю к жизни…»
Именно это было присуще Толстому. Мировая воля есть в то же время воля к жизни, и она всеобща.
Философские идеи Шопенгауэра оказали, видимо, влияние и на художественные замыслы Толстого Видимо, отсюда и возник цельный грандиозный мир «Войны и мира», в котором нет места случайности. Быть может, война у Толстого — это символ воли, которая движет миром толстовских героев, а герои Толстого, хотя и вовлечены в эту «волю», живут в мире собственных представлений, и в то же время каждый из них представляет собою волю к жизни.
Особое влияние Шопенгауэра на Толстого можно увидеть в «Анне Карениной». Бицилли П. М. очень удачно охарактеризовал Анну как «падшую Волю». Грех Анны, по его мнению, заключается не в измене, а в том, что она «отпала» от всеобщей воли. Любовь Анны бесплодна (недаром она не любит свою дочь, да и Вронского она любит не как «восполнение» самой себя, а «самого по себе». Иными словами, Анна сама себя отделяет от всеобщей природы или воли. Она утверждает только свою «самость», и в этом ее «грех». Любовь Анны и Вронского бесплодна, в ней нет никакого таинства (символически это выражено контрастом между ними и Левиными: «роды Кити — таинство появления новой жизни; роды Анны — только кризис в отношениях между нею, Карениным и Вронским…» .
Воля Анны — «Это воля, отпавшая от своего первоисточника, воля, переставшая служить целям «Природы», воля падшая и тем самым греховная. Обращенная исключительно на свою собственную, частичную объективацию, она рассматривает все другие частичные объективации только как средства, а не как самоцели, и с этой точки зрения убивает их для себя, обращает их в «чистые объекты» .
В конце своего исследования Бицилли дает очень интересную интерпретацию эпиграфа к Анне Карениной, который, по его мнению, Толстой заимствовал не прямо из Евангелия, а — через Шопенгауэра. Автор оспаривает мнение Л. Шестова, согласно которому слова эпиграфа относятся к самому Толстому. По мнению Шестова, эти слова — «Мне отмщение и аз воздам» — Толстой относит к себе. Он сам безжалостно ведет Анну к гибели и сам воздает ей за ее грех. Бицилли же считает, что ошибка Шестова заключается «в „квалификации“ преступления Анны». Бицилли отмечает — хотя сам Толстой соглашался с общепринятой критикой своего романа («квалифицирующей» грех Анны как адюльтер), сам он признавался в бессилии истолковать собственные романы, — что Шестов не увидел «метафизического» значения преступления Анны, «за которое карает Судьба, а не люди, и даже не собственная совесть» .
Здесь Бицилли напрямую связывает слова эпиграфа «с рассуждениями Шопенгауэра <�…> об антиномиях воли», и даже склонен думать, что «евангельский текст подсказан Толстому Шопенгауэром. В «Мире как воле и представлении» Шопенгауэр говорит о мировой справедливости. Воля едина. Причиняющий страдания отомщен страданиями тех, кому он их причинил, потому что он и они — одно. «А то, что более глубокое, освобожденное от principii individuationis познание, из которого проистекают всякая добродетель и благородство, не питает помыслов, требующих возмездия, это показывает уже христианская этика, которая решительно запрещает всякое воздаяние злом за зло и отводит царство вечного правосудия в область вещеи в себе, отличную от мира явлений. «Мне отмщение, Я воздам» , — говорит Господь» (Рим.12:19).
Хотелось бы остановиться на этом аспекте. Здесь сам Шопенгауэр, а вслед за ним и Толстой, по-видимому, смешивали христианское непротивление злу и буддистский принцип недеяния и подчинения мировой справедливости. В этом «тексте Шопенгауэра наибольшее впечатление на Толстого должна была произвести мысль о метафизической солидарности между причиняющим страдания и страдающими от него и что евангельский (строго говоря, библейский) текст мог быть им смутно понят именно в смысле указания на неизбежность «метафизического» же возмездия, осуществления «вечной Справедливости, относящейся к сфере вещей в себе»
Но христианский принцип непротивления — это не подчинение мировой справедливости, не «недеяние», а именно личное деяние, личный поступок. Можно предположить, что Толстой свое понимание непротивления удивительным образом сочетал с кантовской этикой и шопенгауэровским буддистским представлением о мировой справедливости. С одной стороны, Толстой хотел возвести этот принцип во всеобщий закон, или в категорический императив, а с другой стороны, видел в этом принципе указание на буддистское «недеяние» и подчинение мировой справедливости, или мировой воле. Строго говоря, Шопенгауэр заимствует слова «Мне отмщение и аз воздам» не из Евангелия, а из Послания к римлянам, гл. 12, ст.19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: „Мне отмщение. Я воздам, говорит Господь“. И хотя здесь тоже есть тот смысл, что не надо воздавать злом за зло, потому что Господь Сам все устроит, но апостол Павел говорит, что это надо делать не только потому, что Господь Сам воздаст каждому, а — во имя любви ко всем: „Любовь да будет непритворна; отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру“ (Рим.12: 9». У Шопенгауэра же речь идет просто о подчинении мировой справедливости, где преступник и жертва составляют одну волю. Интересно отметить, что Бицилли сам трактует эпиграф Толстого к Анне Карениной в шопенгауэровском смысле, говоря о том, что такая этика, где и преступник и жертва, оба несут наказание — более жестока, чем этика эмпирического воздаяния. И именно таков смысл «Анны Карениной». А Анна не имеет «своей злой воли», она лишь «отпала» от мировой воли.
Можно поставить вопрос о том, как же все-таки сам Толстой понимал эти слова? Во имя чего, по Толстому, мы должны не противиться злому: во имя любви или во имя мировой справедливости? На этот вопрос нет однозначного ответа. Можно лишь указать на то, что Толстой совмещал в себе эти два понимания и вообще — буддистские и христианские представления. Это, например, ясно из рассказа Толстого «Божеское и человеческое»: когда его герой Светлогуб услышал свой смертный приговор, он не мог понять, что значит «смерть», что значит «отделение Я от не-Я». Он «не мог соединить сознания своего «я» с смертью, с отсутствием «я» «. После того, как он написал прощальное письмо матери, в котором особенно просил ее любить того, кто был виновником его смерти, ибо это счастье — любить врага, любить того, кого можно было бы ненавидеть, он задал себе вопрос, ответ на который носит явно «буддистский» характер: «вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть? А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не помню? Так что жизнь здесь не начало, a только новая форма жизни. Умру и перейду в новую форму»
Характерно здесь то, что перед этим Светлогуб читал Евангелие, которое открыло ему новый смысл жизни. Так что эта последняя мысль была им каким-то образом «выведена» из Евангелия. Каким образом мысль о переходе в новую форму могла быть заимствована из Нагорной проповеди, которую читал Cветлогуб?
Далее Толстой как бы усиливает эти «буддистские» настроения и говорит, что для живого человека нет ответа на этот вопрос. Характерно также и замечание Толстого (перед самой казнью Светлогуба) о том, что «Светлогуб не верил в бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в бога. Он и теперь не верил в бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его». Видимо, под Богом здесь имеется в виду нечто неопределенное и всеобщее, так что он и смерть не мог «обнять мыслью» .
толстой интуиция религия непротивление
Глава III. Вера без чудес и «догмат» непротивления
3.1 Откровение и правила жизни
Толстой начинает свою работу «В чем моя вера?» признанием того, что он «был…нигилистом в смысле отсутствия всякой веры»: «Я перешел от нигилизма к церкви только потому, что сознал невозможность жизни без веры, без знания того, что хорошо и что дурно… Знание это я думал найти в христианстве. Но христианство, как оно представлялось мне тогда, было только известное настроение, очень неопределенное, из которого не вытекали ясные и обязательные правила жизни. И за этими правилами я обратился в церковь. Но церковь давала мне такие правила, которые нисколько не приближали меня к дорогому мне христианскому настроению, а скорее удаляли от него» .
Нужно сказать, что даже в позднем творчестве, когда Толстой отошел от понимания христианства только как настроения, когда он пытался воплотить христианские принципы в жизнь, тем не менее, остатки такого восприятия христианства как определенного душевного состояния или настроения остались (в рассказах «Хозяин и работник», «Божеское и человеческое», «Фальшивый купон» он очень часто говорит об «умиленном настроении», и это умиление он считал самым высшим проявлением духовности). Хотя Толстой и считал, что он пришел к пониманию религиозной веры, эту веру скорее можно назвать собственными его убеждениями относительно смысла христианского учения. Но это было только первым этапом на пути познания метафизического смысла веры. В дальнейших работах Толстой развивает более углубленное понимание веры (работы «Религия и нравственность» (1894), «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902).
Обладая удивительным чувством и интуицией жизни, Толстой, в конце концов, отвергает все основы жизни, он, если можно так выразиться, был нигилистом во всех смыслах этого слова. Как пишет А. С. Волжский в своей статье «Около Чуда», Толстой, обладая «жадной до правды совести», все нес на «ее алтарь… Брак, семья, умственный труд, царь, религия и вся, нажитая человечеством веками, культура, вся история, как болящий зуб, вырывается и бросается в печь огненную для очищения совести, требующей всесожжения» .
То же самое можно сказать о вере. Толстой не просто все подчинял своему разуму, но и, отвергая всякую мистику, всякое чудо, тем не менее, искал этого чуда, которое он сам же и пытался сотворить. Быть может, именно поэтому Толстой так настойчиво обращает наше внимание на свое личное понимание проповедей Христа.
Для отцов церкви христианство состоит в трех главных великих тайнах: тайне Воплощения, тайне Воскресения и тайне Искупления. А все остальные «правила жизни», которые давал Христос, это лишь средство для приближения к этим тайнам и постижения их. Поэтому эти правила и имеют ценность. Для Толстого же «правила жизни» превращаются в самоцель, и неясно, какова основа ценности этих «правил» (Здесь, очевидно, сказывается влияние Канта, для которого главным было формальное исполнение этических правил).
Таким правилом была для Толстого заповедь о «непротивлении злу». Почему Толстой основу христианского учения видит именно в заповеди о непротивлении злу? Эта заповедь имеет ценность тогда и только тогда, когда принимается духовная сущность христианства. С другой стороны, на уровне этики это «правило» может быть действительно имеет самую высшую ценность (эта проблема будет подробно рассмотрена в следующем параграфе).
Толстому трудно было понять, почему «учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением…- осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений казни, войны»
Основной тенденцией и предпосылкой всех рассуждений Толстого является желание понять слова «в прямом смысле». В работе «О жизни» Толстой постоянно говорит об этом: он и слово «жизнь» пытался понять в его первоначальном значении. То же самое стремление он переносит на рассуждения о вере и смысле слов Христа. Толстой говорит: «Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его»
Толстой ссылается на то, что Христос обращался к простому народу, не посвященному «в глубочайшие тайны догматики, гомилетики, патристики, литургитики, герменевтики, апологетики и др.» И этот простой народ, по мнению его, понимал слова Христа в «прямом смысле»: «Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас —не то, что появилось, что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении»
Но можно поставить вопрос: «Что такое „прямой смысл“ ?». И вообще — возможен ли он? Ведь сам Толстой, говоря о «прямом смысле», уже заранее подходит к нему с определенной установкой — в данном случае: установкой на религиозно-нравственное преобразование общества. Вопрос этот очень сложен, и трудно сказать, связано ли это с тем «опрощением» христианства у Толстого (как это отмечают многие исследователи), или с тем, что уже на этом этапе он хотел выразить мысль о том, что христианство не может быть обосновано никакой философией (именно это он доказывал в своих поздних работах).
Таким образом, отвергая всякие богословские толкования, Толстой на протяжении всей работы только и делает, что предлагает нам свое толкование учения Христа. В этом отношении характерна работа Толстого «Как читать Евангелие и в чем его сущность?» (1896)
В начале своей статьи Толстой говорит о том, что в самом христианском учении много противоречивого, и о том, что само христианство понимается неоднозначно. Но в чем причина этого расхождения, в этой статье он так и не проясняет.
Толстой говорит, что его огорчает и даже оскорбляет, когда у него спрашивают: в чем состоит его учение? Утверждая, что он писал книги о христианстве только с целью исправления ошибок толкователей, Толстой в то же самое время выступает против толкований. А что такое исправление ошибок? Разве это уже не толкование? И где гарантия того, что толкование Толстого более «истинно» ?
Не совсем понятно его утверждение о том, что если бы Христос был Бог и великий Учитель, Он бы сумел выразить истину так, чтобы у людей не было относительно нее никаких расхождений: «Великий учитель только потому и великий учитель, что он умеет высказать истину так, что она ясна, как солнце, и уже нельзя ни скрыть, ни затемнить ее». Этот подход сам по себе является чисто рассудочным: и хотя Толстой не отрицает того, что в Евангелии содержится истина для всех, кто хочет ее найти, такой подход исключает всякое духовное проникновение и понимание. Почему мы должны искать корень нашего непонимания и расхождения в Боге, а не в нас самих? Ведь недаром Христос говорил, что Он сокрыл истину от мудрецов и открыл ее младенцам неразумным.
Аргумент Толстого, что Евангелие не есть произведение Святого Духа, так как якобы было написано малообразованными и суеверными людьми (а Иоанн Богослов?) — иначе бы оно было бы открыто каким-то чудом, как заповеди на горе Синай — несостоятелен, ибо это противоречит самой сущности христианства, которое состоит в искуплении и проповеди Христа, проповеди, которая должна была распространиться на весь мир через дальнейшую проповедь апостолов и Святых Отцов. Ибо если бы Евангелие было открыто людям подобно заповедям на горе Синай, то это было бы продолжением Ветхого Завета, а Нового Завета вообще бы не существовало.
Таким образом, Толстой исключает саму идею искупительной жертвы Христа и предлагает нам герменевтический метод истолкования Евангелия путем выделения главных (т.е. по его мнению, понятных и составляющих суть Евангелия) фрагментов текста, путем сопоставления этих понятных фрагментов с менее понятными (и, по его мнению, незначительными) фрагментами. Такое сопоставление, конечно, очень полезно и во многом помогает более ясно понять текст, но опять-таки является недостаточным.
У Толстого все-таки была одна очень верная интуиция — в том, что слова о «непротивлении злу» уничтожают все «противоречия» в Евангелии и дают нам целостную картину. Т. е. Толстой интуитивно чувствовал, что слова Христа и непротивлении злому имеют более высокий духовный смысл, и на этом уровне они действительно играют решающее значение и уничтожают все «противоречия». Но Толстой не мог понять, что Христос говорил, прежде всего, о душе, о душевном непротивлении. Поэтому, как он сам пишет, Толстой долго искал смысл и значение этих слов, а когда нашел, то придал им «прямой смысл» — «приземленный» уровень: «…мне стало ясно, что Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит» .
Большинство русских философов придерживалось мнения, что Толстому присущ «строгий рационализм» при толковании христианского учения и его частых ссылок на Ветхий завет. Однако тогда он мог бы скорее принять ветхозаветный закон: «око за око, зуб за зуб», поскольку этот закон сам по себе рационален. Говорить здесь о строгом рационализме вряд ли возможно, поскольку при анализе более поздних работ Толстого оказывается, что, во-первых, он принимал заповедь о непротивлении (ведь это не закон, а заповедь!) именно потому, что она противоречит ветхозаветным правилам, а во-вторых, что она является предметом веры.
Точнее говоря, Толстой хотел возвести эту заповедь во всеобщий закон («Положение о непротивлении злому есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон» Толстой как бы следует здесь словам Христа «не нарушить закон, но — исполнить» .
Евангельские заповеди — это заповеди спасения души. Толстой тоже говорит о спасении, но это спасение он понимает совершенно в другом смысле. Он говорит о спасении только собственными силами, отвергая божественную помощь. Отвергая Христа как Божественную Личность, Толстой писал: «Ужасно сказать: не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшим на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, т. е. к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества» Из этого ясно, что для Толстого христианство — это учение о благе жизни, а Христос — один из великих мудрецов, наряду с Сократом, Буддой, Магометом (иногда к этому списку добавляются также Руссо, Кант и Шопенгауэр). Как пишет В. В. Зеньковский, отрицая Божество Христа, Толстой, тем не менее, следовал Ему именно как Богу. Предлагая свое толкование, Толстой убежден, что все богословы умышленно искажают смысл Евангелия, затемняя его ненужной догматикой.
3.2 Личность и разум
Быть может, главной причиной толстовского неприятия христианства является его отвержение личности. Как пишет В. Н. Лосский, проблема личности — это глубоко христианская проблема. И главное здесь: «отношение между личностью Бога, природой, которая сама по себе недосягаема… и личностью человека; человек даже и в самой немощи своей остается, или, вернее, становится личностью полноценной. Иначе не было бы больше „religio“, то есть связи, отношения» между Богом и человеком.
У Толстого же понятие личности неоднозначно. С одной стороны, личность — это то, благодаря чему мы чувствуем жизнь; а с другой — именно от нее мы должны отречься для достижения истинной жизни.
Интересно отметить, что применительно к человеку Толстой употребляет слово «личность» в отрицательном смысле, говоря в основном о «животной личности». Но когда он приводит пример с животными, то в животном он тоже разделяет «животную личность» и «личность» как таковую (между прочим, то, что Толстой очень часто проводит аналогии с животными, тоже говорит о некоторой интуиции жизни, несмотря на отрицание им присутствия сознания у них). «Но как животному для того, чтобы перестать страдать, нужно признавать своим законом не низший закон вещества, а закон своей личности и, исполняя его, пользоваться законами вещества для удовлетворения целей своей личности, так точно и человеку стоит признать свою жизнь не в низшем законе личности, а в высшем законе, включающем первый закон, — в законе, открытом ему в его разумном сознании, — и уничтожится противоречие, и личность будет свободно подчиняться разумному сознанию и будет служить ему» Таким образом, для человека животная личность — это его страсти и стремление к благу своей личности, а для животного — это законы вещества. Толстой замечает: «…не отречься от личности должно человеку, а отречься от блага личности»
Достижение истинного блага возможно только путем подчинения животной личности разумному сознанию. Описание Толстым пробуждения разумного сознания можно сравнить с платоновским образом — когда человек в первый раз вышел из пещеры, яркий солнечный свет ослепил его, но постепенно он привыкает к этому свету и уже не возвращается в пещеру, где он видел одни лишь тени. «Человек вглядывается в это, в отдалении указываемое ему, благо и, не в силах видеть его, сначала не верит этому благу и возвращается назад к личному благу; но разумное сознание, которое указывает так неопределенно свое благо, так несомненно и убедительно показывает невозможность личного блага, что человек опять отказывается от личного блага и опять вглядывается в это новое, указываемое ему благо. Разумное благо не видно, но личное благо так несомненно уничтожено, что продолжать личное существование невозможно, и в человеке начинает устанавливаться новое отношение его животного к разумному сознанию. Человек начинает рождаться к истинной человеческой жизни». И это описание говорит еще о беспрерывной борьбе в душе человека.
Что же такое разумное сознание? Понимание Толстым разумного сознания дает основание В. Зеньковскому говорить, что Толстой, несмотря свой рационализм, несмотря на то, что он чисто логически пытается построить свои рассуждения, по сути дела, выходит за рамки рационализма и строит некоторую мистическую систему. Нужно сказать, что Зеньковский весьма удачно охарактеризовал систему Толстого как систему «мистического имманентизма». В отношении разумного сознания «Толстой несколько двоится между личным и безличным пониманием его. С одной стороны… «разумное сознание» есть функция «настоящего и действительного «я», как носителя своеобразной духовной личности; с другой стороны, разум или разумное сознание имеет все признаки у Толстого «общемировой, безличной силы». Толстой рассматривает сознание как цепь последовательных явлений.
Для Толстого «я» привносится нами из другого мира: «Что такое это-то самое коренное и особенное мое я, … то основное я, на которое, как на стержень, нанизываются одно за другим различные, последовательные во времени сознания… это-то и есть то, что связывает в одно все различные по времени состояния сознания каждого отдельного человека. … Свойство же это, хотя и развивается и в нашей жизни, вносится нами уже готовое в эту жизнь из какого-то невидимого и непознаваемого нами прошедшего»
Видимо, через Шопенгауэра Толстой воспринял учение Канта о «трансцендентальном Я», которое связывает наше представления. Здесь же чувствуется и влияние самого Шопенгауэра, ибо Толстой пишет о непознаваемом нами прошедшем.
Возникает вопрос: с одной стороны, «наше коренное Я», по Толстому, изначально присуще всем людям, а с другой стороны, оно все же «вносится нами» и берется нами из чегото непознаваемого; сущность этого «коренного я» остается загадочной. Толстой наделяет своего героя Левина этим мистическим чувством: рассуждая о жизни, он постоянно имеет в виду, что все, к чему он пришел, было ему уже давно известно, и это подтверждает, что наше «я» привносится из другого мира.
Не только учение о разумном сознании дает повод говорить о «мистическом имманентизме» Толстого, но само чувство и сознание жизни, которое, как пишет Толстой в «Исповеди», вывело его из отчаяния, было мистическим. И в то же время, оно имманентно, и именно эта имманентность придает силу этому чувству.
Отрицание Божественной личности Христа — важный момент религиозно-философского учения Толстого. На этот момент обращает особое внимание Н. Бердяев в своей статье «Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого» (1912) в которой автор пытается раскрыть антиномичный мир великой толстовской души. Отвержение Божественной личности Христа он связывает с тем, что Толстой вообще отрицал личность: «…с отсутствием ощущения и сознания личности связаны коренные особенности … мироощущения и миросознания» Толстого.
Бердяев, как и Мережковский, отмечает, что, говоря о жизни, Толстой все время находится на телесно-душевном уровне. Мережковский назвал Толстого «ясновидцем плоти», а Бердяев в самом этом душевно-телесном уровне видит ряд антиномий, которые наиболее ярко проявились в религиозном опыте Толстого. Действительно, настойчиво требуя подчинения христианству, сам Толстой на деле был чужд «религии Логоса и философии Логоса, всегда религиозная стихия его оставалась бессловесной, не выраженной в Слове»
Казалось бы, как можно говорить о том, что такому великому писателю, как Толстой, была чужда духовность? Но для этого есть основания, поскольку для Толстого духовное состоит только в том, что человек стоит выше животного. Кажется, что духовность для Толстого — это борьба с «животным началом» в человеке. Антиномичность толстовского мировоззрения Н. Бердяев видит в том, что «Л. Толстой проповедует возвышенный, моралистический материализм, животно-растительное счастье как осуществление высшего, божественного закона жизни… И тот же Л. Толстой оказывается сторонником крайней духовности, отрицает плоть, проповедует аскетизм». Бердяев также называет учение Толстого «возвышенно-моралистическим и аскетическим материализмом, какой-то спиритуалистической животностью» .
Самую «разительную толстовскую антиномию» Бердяев видит в том, что Толстой-" проповедник христианства, исключительно занятый Евангелием и учением Христа, … был до того чужд религии Христа, как мало кто был чужд после явления Христа, был лишен всякого чувствования личности Христа"
Главная цель статьи Бердяева — раскрыть «ветхозаветное сознание» Толстого, которому было чуждо понятие личности. Бердяев, как и позже Вл. Лосский, говорит о том, что проблема личности — это глубоко христианская проблема. До христианства личности не существовало: «…тринитарное богословие открывает перед нами новый аспект человеческой реальности — аспект личности. Действительно, античная философия не знала понятия личности. Мышление греческое не сумело выйти за рамки «атомарной» концепции индивидуума, мышление римское следовало путем от маски к роли и определяло «личность» ее юридическими отношениями. И только откровение Троицы, единственное обоснование христианской антропологии, принесло с собой абсолютное утверждение личности <�…> Личностная же неповторимость есть то, что пребывает даже тогда, когда изъят всякий контекст, космический, социальный или индивидуальный — все, что может быть выражено. Личность несравненна, она «совершенно другое». Бердяев же выражает это так: «С христианским откровением Сыновней Ипостаси, Логоса, Личности связано самосознание лица и его вечная судьба. Всякое лицо религиозно пребывает в мистической атмосфере Сыновней Ипостаси, Христа, Личности. До Христа в глубоком, религиозном смысле слова нет еще личности. Личность окончательно сознает себя лишь в религии Христа» .
Самосознание личности всегда связано с Логосом, с Сыновней Ипостасью. Тут наблюдается взаимообратный процесс: кто не чувствует личности, тот не чувствует Христа, и — наоборот. Для Толстого личность «растворялась в мировой душе», поэтому он не чувствовал личности Христа, и именно с этим связано его «антихристианское христианство». «Л. Толстой хочет исполнить волю Отца не через Сына, он не знает Сына и не нуждается в Сыне. Религиозная атмосфера бого-сыновства, Сыновней Ипостаси не нужна Толстому для исполнения воли Отца: он сам, сам исполнит волю Отца…». Толстой не только отрицает божественную личность Христа, для него и Бог Отец не творец мира, но безличное, неопределенное начало: «Хотя граф Толстой, — пишет А. А. Козлов, — употребляет слова: Бог, Отец Небесный и т. п.<�…>, но однако, мы нигде не находим его учения о Боге, об отношении Его к миру, и далее об отношении к самому Иисусу Христу» Бердяев имел определенные основания утверждать, что Толстой скорее буддист, чем христианин, так как буддизм — это религия самоспасения. Однако это относится больше к периоду написания «Исповеди», «В чем моя вера» и «О жизни», чем к более поздним работам. Для этого периода характерно также и то, что отрицание личности Толстой приписывает самому Христу на том основании, что Христос призывал отречься от себя, потерять свою душу; но этот призыв, скорее, относится не к личности, а именно к тому, что называется индивидуальностью. И на этом основании Толстой приравнивает Христа и Будду.
Религия самоспасения является источником неприятия Толстым догмата Искупления: Толстой пишет, что церковью «с еще большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа верою в Него человек освобождается от греха, т. е. что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, т. е. совершенно хорош. По этому учению, люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, т. е. не могут ошибаться» .
Толстой, конечно преувеличивал. Искупление грехов Христом не означает в христианстве, что люди не должны «разумом освещать» нашу жизнь. Восточные отцы церкви говорят о соработничестве с Богом, о том, что мы должны идти навстречу Богу нашими делами. Искупление никак не предполагает нашего бездействия и не отнимает нашей свободы: «Искупление, самое средоточие домостроительства Сына, нельзя отделять от Божественного замысла в его целом. Он никогда не изменялся; целью его всегда оставалось совершенно свободное соединение с Богом личностных существ» .
Место личности в учении Толстого занимает безличный разум. Толстой, подчиняя все разуму, считал, что человек: «как только … рассуждает, то он сознает себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно, и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает; он только освещает». И далее: «Разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уже никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага — в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа, и его-то, т. е. разум, отрицать разумом уж никак нельзя» .
Такое безусловное подчинение разуму явилось причиной возведения основного положения учения Толстого о «непротивлении злу насилием» в категорический императив.
3.3 Добро и непротивление злу насилием
Основным принципом учения Толстого является непротивление злу насилием.
Этот принцип связан у Толстого с его особым пониманием добра и зла и с отрицанием личностного начала как божественного, так и человеческого мира. Поскольку Толстой считал добро изначальным естественным состоянием человека, то зло для него — это лишь недостаток добра: «Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное состояние, то, в котором родятся дети по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами» .
Учение о «естественном состоянии» Толстой воспринял от Ж.-Ж. Руссо, который утверждал, что «наиболее чистым естественным состоянием из всех является то, при котором люди наименее злы, наиболее счастливы» и что «они становятся злыми и несчастными, приобретая способность жить в обществе»
Логика Толстого тут весьма проста: «Не противься злу, и добро само осуществится без твоей активности, будет естественное состояние, в котором непосредственно осуществляется божественная воля, высший закон жизни, который и есть Бог»
Сам перевод Толстым слов Христа как «Не противьтесь злому» — говорит о том, что зло для Толстого безлично и неопределенно. Толстой во всех своих работах, как художественных, так и философских, изобличает зло, царящее в нашем мире. Однако он обходит вопрос о природе зла, точнее, он не считает, что зло имеет личное начало, в отличие от Бердяева, утверждающего, что «сознание зла и греха связано с сознанием личности, и самость личности сознается в связи с сознанием зла и греха… Отсутствие личного самосознания в Толстом и есть в нем отсутствие сознания зла и греха. Он не знает трагедии личности — трагедии зла и греха. Зло непобедимо сознанием, разумом, оно бездонно глубоко заложено в человеке»
В работе «В чем моя вера?» Толстой подробно рассказывает о том, как он сам открыл для себя заповедь о непротивлении, которую он принял за основу всей жизни и своей философии. Толстой начинает с того, что сравнивает себя с разбойником, распятым с Христом, который уверовал по одному слову Христа. Только тут он делает очень интересное различие между собой и разбойником: разбойник, уверовав, должен был умереть; а ему, Толстому, предстояло жить: «Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла… А я не понимал этой жизни», т. е. Толстой, уверовав, хотел понять жизнь с помощью этой веры: если бы разбойник сошел с Креста и рассказал бы, как он уверовал, то никому бы от этого не было хуже.
Можно ли говорить об эволюции веры Толстого? Конечно, и в «Исповеди», и в данной работе, он пытается рассказать об этом, но это, так сказать, восстановление прошлого. Сам Толстой говорит, что понимание смысла непротивления было «мгновенным озарением». Параллельно он занимался составлением и переводом Евангелия, но это было «внешней работой». Здесь же он хотел рассказать именно о «внутренней» работе: «это было мгновенное устранение всего того, что скрывало самый смысл учения, и «мгновенное озарение светом истины» .
(Само слово «озарение» говорит о том, что Толстой был близок к мистическому постижению веры, но потом он как бы стал «методически обрабатывать» свое «озарение», что удалило его от мистического видения христианства).
В чем же состояло это «озарение»? Толстой говорит, что с самого детства его всегда трогали и умиляли слова Нагорной проповеди «о подставлении щеки, отдачи рубахи, примирении со всеми, любви к врагам» .
Но сначала он сомневался в этих словах, ему казалось, что тут слишком много «поставлено на карту». Если следовать этим словам, то можно потерять саму жизнь. Он обратился к богословским толкованиям этих слов, но они не удовлетворили его, так как говорили о том, что для исполнения этих слов, необходима сверхъестественная помощь. Самому Толстому «казалось странным для чего Христос, вперед зная, что исполнение Его учения невозможно одними силами человека, дал такие ясные и прекрасные правила, относящаяся прямо к каждому отдельному человеку» .
Почему же Толстой видит в этом противоречие? Разве «сверхъестественная помощь» закрывает путь к исполнению заповедей? Он очень часто пишет именно в этом смысле и даже говорит, что когда у него не получалось исполнять эту заповедь, то только потому, что он вспоминал богословские толкования о необходимости сверхъестественной помощи при этом. Толстой был уверен, что эти слова, относящиеся к каждому человеку, он мог сам сейчас же исполнить. Это ему подсказывали его разум и опыт. Когда он, изверившись во всех толкованиях, оставшись, как он пишет, один с своим сердцем, «с таинственною книгою», от которой он никак не мог отказаться, Толстой наконец понял эти слова в прямом смысле: «Место, которое было для меня ключом всего, было место из Mф. 5: 39: „Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А Я вам говорю: не противьтесь злому“. Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас — не то, что появилось, что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. „Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А Я вам говорю: не противьтесь злому“. Слова эти показались мне вдруг совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде» .
Хотелось бы подробнее остановиться на том, почему для Толстого именно эти слова явились ключом целостного понимания Евангелия. Главную причину объясняет сам Толстой: именно эта заповедь связывает воедино все Евангелие и устраняет все противоречия: «И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в Нагорной проповеди, но во всех Eвaнгeлияx, все, что было запутано, стало понятно; что было противоречиво, стало согласно, и, главное, что казалось излишне, стало необходимо». И действительно, когда читаешь Евангелие, невольно выделяется именно это место, которое наиболее сильно противоречит обыденным представлениям. Поэтому эта заповедь послужила Толстому в качестве объединяющего начала всего Евангелия. Все остальные заповеди, так или иначе, присутствовали в Ветхом завете и являлись законами или какими-то правилами жизни. А эта заповедь стоит выше не только ветхозаветных правил, но и находится за пределами всех привычных установок нашей жизни.
Однако Толстой хотел превратить эту заповедь во всеобщий закон.
Возможно, выделение этой заповеди из всех остальных связано с выбором Толстого для практического применения этой заповеди. Можно даже поставить вопрос: пробовал ли кто-нибудь до Толстого применить эту заповедь на практике? Вероятно, формально кто-то и пытался, но Толстой, по-видимому, первый, кто сделал эту заповедь центром своей философии и даже своей жизни. Но можно также спросить: а не связано ли это с некоторыми буддистскими представлениями Толстого, не смешивает ли он, как и Шопенгауэр, буддистское недеяние с христианским непротивлением? Христианское непротивление не есть недеяние, а напротив — поступок. Сам Толстой в своей проповеди противился злу, но поскольку он неоднократно повторяет, что эти слова надо понимать в прямом смысле и, по сути дела, не объясняет, что значит «прямой смысл», то, может показаться, что он понимал «непротивление» именно как «недеяние» — отказ от противодействия. С другой стороны, тут нельзя говорить о полном смешении с буддизмом, поскольку в буддизме вообще отсутствует проблема зла.
Проповедь Толстого «непротивления злу насилием» имела огромное влияние. Она способствовала появлению так называемого «толстовства», и многие другие пытались принять эту проповедь как руководство в жизни (например, американский поэт и публицист Э. Кросби).
В последующие годы, особенно после революции, появились и противники этого учения, среди которых выделяется И. Ильин.
Прежде чем рассмотреть возражения Ильина, необходимо сказать несколько слов о самой проблеме зла, которую философы пытались решить на протяжении многих веков.
И решали они ее по-разному. Постановка этой проблемы Владимиром Лосским настолько тесно связана с постановкой этой же проблемы и у И. Ильина, и у Л. Толстого, что она может в какой-то мере разрешить их спор.
В. Лосский говорит, что сама проблема зла, по сути дела, христианская проблема. Она возникает именно с появлением христианства (вот почему нельзя говорить, что Толстой в этом пункте смешивал буддизм и христианство). С точки зрения В. Лосского, для нерелигиозного человека возможны следующие решения. Для «атеиста зрячего», как он пишет, зло — это просто абсурд, а для «атеиста слепого» — оно есть недостаток добра, результат несовершенной организации общества. В. Лосский отмечает, что как монистические, так и дуалистические учения не дают нам ответа о происхождении и природе зла: первые полагают, что «зло является неотъемлемым определением тварного, как разлученного с Богом»; дуализм же полагает зло как некую «злую материю» или «злое начало», совечное Богу. Поэтому только христианство, согласно Лосскому, способно объяснить наличие зла в мире, сотворенном Благим Богом.
Если мы примем объяснение первых двух метафизических учений, то зло представляется как некая сущность, некое «злое начало», а мир тогда — делится «между Богом добрым и богом злым», а все богатство вселенной «представляется … лишь игрой света и тени, вызванной борьбой этих двух начал». У Бога не может быть «чуждых ему природ». Очень важно следующее: для православного сознания, для отцов церкви зло, с одной стороны, является недостатком, пороком, несовершенством, это то — «чего природе недостает, чтобы быть совершенной». Зло — это не сущность, а «только лишение бытия». Но как же объяснить реальность зла в этом мире? С другой стороны, реальность его можно объяснить только тем, что зло имеет личностный характер: «И если последнее прошение Молитвы Господней в аспекте философском можно истолковать как «избави нас от зла», но воплем конкретной нашей тревоги, конечно, остается «избави нас от злого» , — от «лукавого» «, — добавляет В. Лосский.
Таким образом, проблема зла тесно связана с проблемой личности, поскольку «лукавый» — это личность. Но одновременно оно не есть сущность, поскольку его природа, сотворенная Богом, добра. Хотя зло не имеет места среди сущностей, оно в то же время не есть только недостаток, а есть реальная сила, «состояние природы», «болезнь, паразит природы»: «…зло есть определенное состояние воли этой природы; это воля ложная по отношению к Богу. Зло есть бунт против Бога, то есть позиция личностная». Зло — это состояние, в котором пребывает личность: «зло рождается только от свободы существа, которое его творит»
Таким образом, зло существует именно в момент совершения поступка, и поэтому тот, который совершает зло, по словам Григория Нисского, «существует в несуществующем». В зле нет ничего обязательного или автоматического, и поэтому, зло распространилось именно через человека, «с свободного согласия человеческой воли. Человек согласился на это господство над собой» .
Хочется сразу заметить, что и Толстой, и Ильин — оба не принимали в целом такую постановку и объяснение проблемы зла. Толстой понимал зло как недостаток, несовершенство человека, но он не принимал личностную природу зла. С подчинением безличному разуму также связано отрицание свободы выбора у Толстого: «…свобода воли есть не только иллюзия,—это есть слово, не имеющее никакого значения. Это слово, выдуманное богословами и криминалистами, и опровергать это слово—бороться с мельницами» .
И. Ильин же считал, что зло — это какая-то сила, изначально присущая человеку.
Он начинает свою работу «О сопротивлении злу силою» с предпосылки, которая, хотя и имеет основание, но является сомнительной. Он говорит, что для самой постановки вопроса о зле необходимо иметь в опыте подлинное зло, претерпеть это зло, иначе «беспочвенно и бесплодно решать вопрос о зле», поскольку «нашему поколению, — пишет Ильин, — опыт зла дан с особенной силой впервые, как никогда раньше» .
Конечно, такое утверждение имеет некоторые основания, так как зло действительно «развязало себя» и в стихии революции, и в гражданской войне. Но это же может утверждать в какой-то мере человек любого поколения. Толстой, например, тоже был участником войны и тоже имел опыт зла. Так что у каждого поколения может быть свой опыт, который кажется ему «данным с особенной силой». И дело даже не в этом: вопрос о добре и зле может волновать любого человека, даже если он не претерпел особенного зла, или даже — никакого зла. Ильин обвиняет Толстого в том, что он обошел вопрос о природе зла, а рассматривает зло только как недостаток добра. Для Ильина зло коренится во внутреннем «духовно-душевном мире» человека. И борьбу со злом человек должен вести именно в своей душе. Всякий внешний поступок не является сам по себе ни добрым, ни злым (точно также как стихии природы — мы называем ураган злом только по аналогии с нашими поступками; это, так сказать, остаток мифологических представлений, согласно которым за каждым явлением природы стоит злой или добрый Дух).
Ильин даже усиливает это, подчеркивая: внешняя доброта не означает, что человек не должен бороться со злом в самом себе. Все это ничуть не противоречит Толстому, который тоже настаивал на внутренней борьбе со злом. Разница состоит в самой попытке разрешения этой проблемы. Для Ильина зло может быть побеждено только любовью: любовь выступает как некая сила, причем она обязательно должна быть одухотворенной, «религиозно — опредмеченной любовью». Толстой не рассматривает любовь как силу: любовь — это естественное состояние человека; человек по своей природе добр.
Ильин, по сути дела, обходит вопрос об источнике любви. И вообще, сомнительно, что любовь можно «вызывать». Для Ильина зло — это самостоятельная сила, которая коренится в духовно-душевном мире и которую мы должны победить опять-таки силой «единящей» любви.
Толстой же рассматривает зло как некое препятствие, которое коренится в животной природе человека, и которое нужно устранить. Таким образом, здесь мы видим совершенно разные позиции. По Ильину, мы должны бороться со злом силою одухотворенной любви, и эту свою позицию Ильин даже переносит на самого Толстого, говоря о том, что Толстой и его последователи правы, когда настаивают «на неправильности сведения всей борьбы со злом к одному внешнему принуждению, на духовном и нравственном преимуществе убеждения…- они следуют в этом за священной традицией христианства» .
Здесь Ильин приписывает Толстому ту мысль, что зло должно быть побеждено силою. На самом деле эти позиции сходны только формально: они сходны только в том, что борьба со злом должна вестись во внутреннем духовно-душевном мире. Но способы борьбы у Толстого и у Ильина — различны. Для Толстого это — непротивление, а Ильин, напротив — развивает теорию физического и психического принуждения и пресечения. Надо сказать, что Ильин не допускал «непротивления»: по его мнению «непротивление… означало бы приятие зла: допущения его в себя и предоставления ему свободы, объема и власти» .
Достаточно вспомнить аскетическую борьбу со злом Святых Отцов, чтобы понять правомерность такого утверждения (сам Ильин приводит примеры таких подвигов обретения опыта «духовной брани»). Но ведь большинство подвигов Святых Отцов состояло в непротивлении внешнему злу, и именно этим они достигали победы над злом…
Самому Толстому была присуща внутренняя борьба со злом (достаточно почитать его Дневники). А его проповедь относилась скорее к внешнему непротивлению, потому что он видел абсолютную безысходность силою победить зло.
Таким образом, разница позиций Толстого и Ильина заключается в понимании источников любви и зла. В «Христианском учении» (1897) Толстой пишет (и эту цитату стоит привести полностью — ч. II, 52): «Основа жизни человека есть желание блага всему существующему. Любовь в человеке заключена в пределы отдельного существа и потому естественно влечется к расширению своих пределов, так что человеку ничего не нужно делать, чтобы проявлять в себе любовь: она сама собой стремится к своему проявлению. Человеку нужно только устранять препятствия к ее продвиганию. В чем же заключаются эти препятствия?
53) Препятствия, мешающие человеку проявлять любовь, заключаются в теле человека, в отдельности его от других существ: в том, что, начиная свою жизнь младенчеством, во время которого он живет одною животною жизнью своего отдельного существа, человек и впоследствии, когда уже в нем пробуждается разум, не может никогда вполне отрешиться от стремления к благу своего отдельного существа и совершает поступки, противоположные любви" .
Здесь Толстой сближается с Владимиром Лосским, поскольку для него любовь — это естественное состояние человека, а зло, по Толстому, коренится в человеческом теле. Тело рассматривается как помеха, как препятствие, которое нужно преодолеть. Это именно то, что Лосский назвал «паразитом природы» .
Ильин же переносит зло целиком в душевно-духовный мир человека, он обходит вопрос о теле, подчеркивая даже, что телесные проявления и поступки ничего нам не говорят ни о добре, ни о зле: «Зло начинается там, где начинается человек, и притом именно не человеческое тело во всех его состояниях и проявлениях как таковых, а человеческаий душевно-духовный мир — это истинное местонахождение добра и зла». Поэтому-то и кажется, что для Ильина зло — это самостоятельная сила, хотя он нигде прямо об этом не пишет. Толстой же говорит, что при рассмотрении вопроса о зле, нельзя полностью исключать тело.
Интересно также, что Ильин нигде не говорит об источники любви: для него любовь — не изначальное свойство человека, а она выступает как некая одухотворенная сила, направленная на предмет любви, и она есть сила единения: «Человек любовен тогда и постольку, поскольку он обращен к жизненному содержанию силою приемлющего единения, тою силою, которая устанавливает живое тождество между приемлющим и приемлемым… Однако любовь приобретает настоящий предмет для своего единения и свою настоящую чистоту только тогда, когда она одухотворяется в своем направлении и избрании, т. е. обращается к объективно-совершенному в вещах и в людях, приемля именно его и вступая в живое тождество именно с ним» .
И, кажется даже странным, что, говоря о том, что любовь обязательно должна быть одухотворена, Ильин совершенно не касается вопроса об источнике любви, считая добро одухотворенной любовью (а зло — «противодуховной враждой»). Он предполагает, что мы должны сначала понять, что такое «объективно-совершенное в вещах и людях», а потом направить на него силу любви. Но такая постановка проблемы сама по себе сомнительна, скорее прав Толстой, когда говорит, что любовь — изначальное свойство человека. И в этом Толстой ближе к позиции В. Лосского, чем И. Ильин. Другое дело, что Толстой понимал зло только как недостаток, отвергая личностный характер зла.
Главное обвинение Ильина заключается в том, что Толстой не раскрыл содержание своего «непротивления злу насилием». Он только поставил проблему, но не дал никакого философского обоснования ее. С Ильиным можно спорить, но он, безусловно, философски обосновывает проблему. Возможно, Толстой принципиально не проводит никакого философского анализа: недаром он принимал разделение Канта теоретической философии и этики. Кант говорит о том, что этику нельзя обосновывать теоретической философией, может быть именно это и хотел подчеркнуть Толстой, говоря о «прямом смысле» заповеди непротивления. Конечно, некоторые обвинения Ильина правомерны, когда он говорит о том, что «Толстой и его последователи стараются… обойти эту проблему… под видом разрешения ее», пытаясь показать, что такой проблемы совсем нет, ибо" они утверждают, что зла нет, а есть только «безвредные…заблуждения и ошибки»; от зла нужно отвернуться и не обращать на него внимания («не судить»); а поскольку любовь у Толстого (по мнению Ильина) значит — «жалеть человека», то совершающих зло нужно жалеть и «уговаривать»; нужно заниматься только собственным нравственным самосовершенствованием (тогда зло — «проблема пустая»). И это все Ильин считает «бегством философа от разрешаемой им проблемы» .
Думается, что Толстой нашел бы, что ответить на эти обвинения. Кроме того, раз проблема поставлена, то нельзя уже говорить, что это «бегство» выдается «за разрешение ее». Ильин, как и многие, обвиняет Толстого в том, что он превыше всего ставит мораль и заменяет ею духовно-религиозный опыт. Сам Ильин впадает примерно в такую же ошибку, когда, рассуждая о принуждении («заставлении и насилии»), переносит этические проблемы в сферу правосознания.
И эту ошибку отмечают критики Ильина — В. Зеньковский и Н. Бердяев. Книга Ильина «О сопротивлении злу силою» вызвала большой интерес и дискуссию среди русских философов и публицистов. Этот интерес, прежде всего, вызван той эпохой, в которую она была написана, и теми проблемами, которые остро поставила перед всеми русская революция. Но почему же для Ильина предметом его разбора является Толстой? Думается, что именно потому, что Толстой и его учение наиболее сильно противоречили всей эпохе, той исторической обстановке, которая сложилась в России. Но самое удивительное тут то, что, несмотря на противоположность позиций Ильина и Толстого в решении этой проблемы, они, как справедливо отметил Бердяев, являются как бы обратными сторонами друг друга. И когда читаешь статью Зеньковского, посвященную книге Ильина, то многое из того, что он говорит об Ильине, можно отнести и к Толстому. Например, можно сказать, что «христианский натурализм», о котором пишет Зеньковский, был присущ обоим: оба они растворяли Бога в мире. Зеньковский пишет о двух формах «христианского натурализма»: «Одна обнаруживает склонность к пантеизму, в силу чего проблема зла приобретает второстепенный, а потом и мнимый характер, как бы тонет в восприятии Бога в мире. Другое направление (оно было очень ярко выражено в почвенничестве, у Розанова) склонно принимать натуральное уже несущим в себе святыню». Но исходя из этого определения, можно сказать, что Толстой менее был подвержен такому натурализму, хотя у него, как и у Ильина, Бог растворяется в мире и воспринимается через мир. Хотя Толстой вовсе не считал, как Розанов, что все природное освящено, а напротив — постоянно ощущал греховность этого натурального. И как раз Ильину было присуще «забвение иноприродности мира, нечувствие неправды его, глубоко в нем лежащей» (там же): поэтому он и допускал сопротивление злу силой. Толстой, который ясно видел зло в этом мире, отрицал все формы, в которых воплощалось это зло: в частности — государство, войну и т. д., а Ильин, напротив, принимал все эти формы, так как он отрицал «коренную неправду в мире» и признавал «священным все натуральное», в частности борьбу со злом"; оправдывал «государственную и культурную деятельность… уже в самом истоке своем». Зеньковский отмечает, что это «» романтическое" увлечение государством, культурой понижает ощущение коренной двусмысленности мира"
Бердяев, обвиняя Ильина в том, что он «взял православие напрокат», и в увлечении государством, задает вопрос: «Или И. Ильин думает, что всякая власть, всякий государственный строй, установившийся и сложившийся, есть носитель абсолютного добра?». Он более подробно анализирует «нехристианство» Ильина, и надо сказать в этом анализе проблему зла он рассматривает очень близко к постановке проблемы у Вл. Лосского. Бердяев пишет: «С точки зрения христианской веры существуют лишь два начала, которые могут победить зло в его корне, это — начало свободы и начало благодати… В действительности и христианская вера, и всякая здоровая этика должна признать не только свободу добра, но и некоторую свободу зла. Свобода зла должна быть внешне ограничена в своих проявлениях, со свободой зла борется духовно благодатная сила Христова, но эту свободу зла нужно признать во имя свободы добра. Отрицание свободы зла делает добро принудительным». Поэтому и у Ильина, и у Толстого (в некоторой мере) добро является принудительным, только если у Толстого «принуждение» состоит в том, чтобы удержать добро как естественное состояние человека, то Ильин именно насилием и принуждением хочет привести человека к добру: «И. Ильину совершенно чуждо христианское разграничение двух порядков бытия и двух миров, мира духовного и мира природного, мира иного и „мира сего“, порядка благодати и порядка природы, царства Божьего и царства кесаря». (Это замечание также справедливо и по отношению к Толстому).
Как Зеньковский, так и Бердяев в своих статьях отмечают, что Ильин, говоря о христианстве и проблеме зла, по сути дела не рассматривает саму христианскую постановку этой проблемы. Но если Бердяев вообще отрицает всякую религиозность Ильина, то Зеньковский все-таки говорит о том, что у него было религиозное чувство, но он было «затемнено» философией. Оба исследователя отмечают, что Ильин, настаивая на необходимости одухотворенной любви, не рассматривает любовь как таковую. Зеньковский подчеркивает, что само понимание христианской любви уже не нуждается ни в какой одухотворенности. Это он называет «поправкой Ильина» к христианскому представлению о любви: «Ильин развивает очень странное учение о незрячести и беспомощности любви самой по себе, требуя непременного сочетания любви и „одухотворенности“ — только „начало духа указывает любви ее предмет“, говорит он: любовь без помощи духовных сил в нас слепа». А между тем, любовь — исходит из сердца.
Учение об одухотворенности необходимо Ильину для установления «границ любви» и для оправдания борьбы со злом, и даже для видимого сближения с Православием. Зеньковский обращает особое внимание на учение о христолюбивом воинстве и православном мече, о котором говорит Ильин. Но может показаться, что в своем докладе (1931), который был ответом на критику книги «О сопротивлении злу силою», сам Ильин в некотором смысле сближается с Зеньковским, когда говорит о войне. Благословение Церкви на войну (по Зеньковскому) ни в коем случае не является оправданием войны, но это не снимает ответственности за убийство (и об этом же пишет Ильин). Рассуждения о войне Зеньковского скорее направлены против Толстого, который писал, что Церковь, благословляя идущих на войну, оправдывает саму войну: «Благословение на войну есть лишь частный случай благословения Церковью нашего пребывания в миру и несения его бремени. Как участие в жизни мира означает не только «приятие» мира, но и борьбу с ним во имя торжества добра в нем, так и участие в войне есть некое «приятие» ее, но в то же время и борьба с ней — с силами зла, буйствующими в войне, с непросветленной стихией мира, ищущей уничтожения и гибели. И как пребывание в миру — по сознанию Церкви — есть взятие на себя креста мира, есть трагический путь, так и участие христианина в войне есть крестный путь. Никакого «оправдания» войны благословение Церкви не заключает и не может заключать в себе — и от того кощунственно и недопустимо звучат слова о «православном мече», но глубокий смысл имеет церковное слово о «христолюбивом воинстве» «.
" Православный меч", о котором говорит Ильин, не есть несение креста, сознание неизбежности, или греховности, а напротив — сознание правого дела. Он тоже приводит примеры благословения церкви на войну, но Ильин скорее понимал это почти как Толстой, только в отличие от него — оправдывал такое понимание благословения на войну. Думается, что это связано с коренной ошибкой Ильина, считавшего зло изначально присущим человеку. Ильин настаивает на преобразовании зла в добро и делает это основным, как будто не добро является изначальным свойством человека, а — зло. Да, действительно, в некоторых случаях можно «преобразовать» зло в добро, но не в этом задача христианина. Нужно изначально нести добро и тем самым побеждать зло.
В своем докладе «О сопротивлении злу силой» (1931) Ильин повторяет, что правильно поставить вопрос о непротивлении можно только тогда, когда дано подлинное зло. Зеньковский же неоднократно подчеркивает, что такие настроения Ильина, такие суждения о «православном мече» понятны, и Ильин разрешает эту проблему «в тонах ветхозаветных. Неусвоение всего таинственного смысла учения Христа о любви становится особенно понятным в эпохи, подобные нашим, — когда зло торжествует особенно нагло и дерзко, когда добро остается закрытым, придавленным: в такие эпохи особенно легко поддаться жажде «наказания» и мести, жажде воздать «око за око и зуб за зуб» .
В доказательство того, что Толстой неправильно поставил вопрос и поэтому не дал правильный ответ, Ильин выдвигает пять условий, необходимых для постановки вопроса, при наличии которых можно получить верный ответ: 1) необходимо удостовериться в наличии «подлинного зла»; 2) необходима также «наличность верного восприятия зла, …не переходящего в его приятие и одобрение»; 3) в душе «вопрошающей и решающей» должна быть «подлинная любовь к добру»; 4) в этой же душе должно быть в наличии «волевое отношение к мировому процессу», т. е. «способность к волевому действию»; 5) необходимость же во внешнем пресечении зла возникает «только при том условии, если у человека отсутствуют мотивы воздержаться от злодейства и внешние уговоры оказываются бессильными». По Ильину, при такой постановке проблемы у человека есть всего «две возможности. Всего два исхода: или потакающее злу бездействие, или физическое сопротивление» .
По мнению Ильина, Толстой не ставил ни один из этих вопросов, поэтому и не мог верно разрешить эту проблему. Конечно, рассуждения Ильина выглядят очень логично, хотя в некоторых случаях не вполне убедительны: например, когда он рассуждает о врагах. В своей книге Ильин высказывает абсолютно верное суждение о том, что стихийные бедствия можно назвать злом только по аналогии, но в рассуждениях о врагах Ильин не делает различия между личным врагом и, допустим, случайным разбойником: для него враги — оба.
Как бы не выглядели убедительными размышления Ильина, можно спросить: применимы ли они к Толстому? Тут вопрос принципиален: Ильин пытается философски обосновать свое «противление», Толстой же говорит об этическом принципе, который нельзя обосновать никакой философией. Называя размышления Ильина «изощренной казуистикой», Зеньковский пишет: «Пусть так — но при чем же тут христианство и „мудрость Православия“? Это есть логика „натурального“ бытия, жестокой и темной нашей действительности, хотя, впрочем, и здесь не все так рационально и рационализуемо, как это думает Ильин… Однако из этого вовсе не следует, что „логичное“ само по себе и религиозно оправдано. То, что логично, натурально, что даже может быть названо „разумным“, то еще не освящено и не оправдано религиозно, а наоборот — как раз нуждается в религиозном осмысливании» .
Ильин действительно подводит под свою логику христианство и даже православие; Бердяев тоже говорит о том, что обилие цитат из Нового Завета и учителей Церкви «не доказывают наличности у И. Ильина органического православного мировоззрения. Православие И. Ильина шито белыми нитками…» .
Разумеется, это же можно отнести и к Толстому, но Толстой, как говорит Зеньковский, всеми силами своей души старался воплотить христианство в жизнь, он был полон «глубокой религиозной жажды принять учение Христа как путь жизни, а не как отдаленный идеал». И это как раз то, что «Ильин забыл и просмотрел у Толстого, которого он так настойчиво критикует» .
В доказательство неправославности Ильина Бердяев приводит его толкование евангельских слов (об изгнании торговцев из храма), которые он взял в качестве эпиграфа к своей книге, подразумевая под «торговцами» большевиков. Но ведь большевики, как справедливо пишет Бердяев, не торгуют в храме, а разрушают его извне. Но наиболее ярким примером «извращения христианства» (говоря словами Толстого), является толкование Ильиным слов Евангелия «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской» (Матфей, гл. 18: 6). Ильин понимал это как оправдание смертной казни, но ведь здесь говорится совсем о другом: о том, что человеку, «соблазняющему малых сих», верующих во Христа, вообще лучше бы не родиться; а «жернов» — просто образ, определяющий размер греха. По словам Бердяева: «Только больное воображение может увидать в этом месте призыв к смертной казни». Правда, дальнейшие рассуждения Бердяева о том, что Христос не был социальным реформатором, можно отнести и на счет Толстого, который в трактате «В чем моя вера?» прямо представлял Христа таким реформатором, но в отличие от Ильина, Толстой считал, что Христос не призывал к смертной казни. «Чудовищно предположить, что Сын Божий, Спаситель и Искупитель мира, занимался вопросами уголовной юстиции и вырабатывал систему наказаний» .
И еще хотелось бы отметить, что Ильин истолковал 13 главу Послания к Римлянам апостола Павла совсем иначе, чем это сделал Зеньковский, рассматривавший эту главу как гимн любви. Ильин же видит в ней только оправдание государственной власти. Да, в ней говорится о том, что мы должны подчиняться «властвующим», поскольку всякая власть от Бога. Но акцент делается на нашей покорности, а Ильин делает акцент на том, что «начальствующие страшны» для злых дел, и на основании этих слов оправдывает свою теорию «пресечения» зла и необходимости государственной власти. И это все потому, что, по словам Зеньковского «Ильин знает в Боге только Судию, только начало праведности, беспощадной и сурово логичной, и не знает бездны Его милосердия и силы Его любви». А Бердяев подчеркивает, что для Ильина «государство имеет абсолютное значение, является воплощением на земле абсолютного духа. В этом он верный ученик Гегеля». Правда сам Ильин в своей статье «Кошмар Бердяева» отрицает это последнее утверждение: «Я утверждаю, что религиозно-церковный дух не осуждает, но осмысливает путь Кесаря; что истинное соотношение церкви и государства состоит в обоюдной независимости их организаций, при духовном руководстве и содействии церкви и лояльном невторжении ее в дела земные». Но эта «независимость» рассматривается Ильиным формально и опять-таки — с правовых позиций. Хотя Ильин и утверждает, что «человекоубиение ни при каких условиях не будет праведным делом; что государственная необходимость есть трагедия и ведет к духовному компромиссу, который возлагает на правителя и на воина обязанность покаянного самоочищения»
Относительно ответа Ильина на статью Бердяева можно сказать, что он, обвиняя Бердяева в «переходе на личности», прав, но, во-первых, не то же ли самое делает Ильин по отношению к Толстому, а во-вторых, по существу обвинения Бердяева остаются в силе, поскольку сам Ильин, говоря о православии, на самом деле рассуждает с позиций правосознания и выдает это правосознание за истинную религиозность. Оправдывая свою позицию, Ильин опять, как бы мимоходом, доказывает, что «в случае необходимости» пресечение зла путем насилия «христиански обязательно». Именно это дало повод Зеньковскому обвинить Ильина в том, что он допускает отступления от праведничества, и само это отступление считает правым делом.
Анализ этой дискуссии еще раз доказывает, что для всех ее участников положение о непротивлении злу является предметом религиозно-философского и даже политического рассмотрения, тогда как для Толстого, который и поставил проблему непротивления и тем самым оказался в центре этой дискуссии, в самом этом положении он не видел никакой проблемы — для него это было актом чистой веры, и этому, собственно говоря, и посвящен трактат «В чем моя вера?» .
Глава IV. Религия, нравственность и наука
4.1 Религия как отношение к миру
Толстой бы не согласился с обвинением в том, что он «узкий моралист», ибо для него — как раз религия является источником нравственности (другое дело, что саму религию он понимает иногда в некотором общекультурном значении).
Работа «Религия и нравственность» (1894) — это прямой ответ на два вопроса, которые задавали Толстому и которые он сам ставил перед собой: «1) что я понимаю под словом „религия“ и 2) считаю ли я возможной нравственность, независимую от религии, как я понимаю ее?» .
Толстой начинает свою работу с критики того взгляда «культурной толпы», согласно которому «религия есть пережитая фаза развития человечества», и что религия, или религиозный страх, возникает как «суеверный страх перед непонятными силами природы». Человечество уже (якобы) пережило религиозную и метафизическую стадии развития и вступило в новую — высшую — научную, и что все религиозные переживания, когда-то нужного «духовного органа человечества», потеряли свой смысл «вроде ногтя пятого пальца лошади» .
Аргументация Толстого, что религия не является страхом перед силами природы, весьма проста и в то же время убедительна: если бы человек боялся грома и молнии, он бы боялся именно грома и молнии, а не придумывал Юпитера, который пускал в него стрелы; если бы человек испытывал ужас перед лицом смерти, он бы и боялся смерти, а не «придумывал души умерших», с которыми он входит в общение. «От грома люди могли прятаться, от ужаса перед смертью могли бежать от нее, но придумали они вечное и могущественное существо, от которого они считают себя в зависимости, и живые души умерших не от страха только, а по каким-то другим причинам» .
И эти причины — внутренние, они коренятся в сознании того, что человек одинок и греховен в этом мире («сознание человеком своей конечности среди бесконечного Mиpa и своей греховности»), и в том, что человек постоянно пытается разрешить вопрос об отношении между собой и бесконечным миром: почему все вокруг развивается, а он один обречен на одиночество и конец?
Таким образом, для Толстого религия — это «выражение основателем религии того отношения, в котором он признает себя, как человека, а вследствие этого и всех других людей, к Mиpy или началу и первопричине его»
Человек, вступивший в истинную жизнь, не может обойти этого вопроса. Очень важно тут добавление слова «первопричина его» (мира): если бы этого добавления не было, можно было бы подумать, что для Толстого религия — просто один из способов сознания эмпирического мира. А поскольку тут говорится о бесконечном мире и первопричине его, то Толстого уже никак нельзя обвинить в узком понимании религии, хотя он сам не всегда упоминает об этих понятиях. Все религии, для Толстого, это только разнообразные формы выражения этого отношения к бесконечному миру, и таких отношений, в сущности, всего три: «1) первобытное личное, 2) языческое общественное и 3) христианское или божеское» .
Из первого отношения к миру вытекают все языческие древние религии и даже, как пишет Толстой, «низшие формы позднейших религий в их извращенном виде: буддизм, даосизм, магометанство… и (даже) новейший спиритизм». Из второго отношения вытекают «религии патриархальные и общественные»: китайская, японская, еврейская, религия римлян и даже «предполагаемая религия человечества — позитивизм» (который Толстой критикует).
Из последнего отношения вытекает христианство. Зачатки которого выли уже «у пифагорейцев, ессеев, у египтян и у персов. Браминов, буддистов и таосистов» .
" Личное" и «общественное» отношения для Толстого являются языческими: разница между ними состоит только в том, что личное отношение — это желание блага только себе, а общественное — это, когда желание личного блага переносится на семью, род, народ и даже человечество. Причем Толстой замечает, что при этом переносе человек может и «притворяться», желая блага другим. На самом же деле, это все равно является формой личного отношения.
Христианское же отношение человека к миру состоит в «служении той Воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой Воли» .
И именно в это отношение, по мнению Толстого, вступает теперь человечество. Человек обязательно, возможно и бессознательно, находится в каком-то из этих отношений к миру, поэтому, как справедливо пишет Толстой, человек может и не знать, что у него есть религия, как он может и не знать, что у него есть сердце: «но как без религии так и без сердца человек не мoжeт существовать». Даже люди «культурной толпы», утверждающие, что не нуждаются ни в какой религии, находятся на «низшей — или общественной, или первобытной языческой религии» .
Прежде, чем переходить к вопросу о происхождении нравственности и делении ее в соответствии с формами религии, Толстой ставит очень важный вопрос, который очень остро ощущался в ХХ веке: это вопрос об отношении религии и науки, религии и философии. Он спрашивает: может быть установление отношений человека к миру дело не религии, а науки и философии (причем философию Толстой включает в науку)?
Толстой доказывает, что это не так, что философия и наука не могут дать людям этого отношения уже потому, что они должны исходить из определенной религиозной установки: «Философия всегда была и будет только исследованием того, что вытекает из установленного религией отношения человека к Mиpy, так как до установления этого отношения нет материала для философского исследования» .
Все философские системы и учения соответствовали тому или иному религиозному отношению к миру, так, например, философия Платона соответствовала языческому исканию личного и общественного блага; средневековая философия исходила из «приобретения наибольшего блага личности в будущей жизни» (опять с этим можно спорить, так как средневековая философия уже была христианской); новейшая философия основывается на общественном «религиозном понимании жизни», а философия «пессимизма Шопенгауэра и Гартмана, хотевшего освободиться от еврейского религиозного миросозерцания, невольно подпала религиозным основам буддизма» .
Поэтому же и наука — это не изучение «всего», а исследование только того, что предлагается религией на разных ступенях религиозного развития. Изучать «все» — невозможно и даже бессмысленно, поэтому каждая религия «отбирает известный круг предметов, подлежащих изучению», а наука «носит на себе характер той религии, с точки зрения которой она рассматривает предмет». Наука может изучать только условия, при которых может быть достигнут тот или иной религиозный идеал.
Но могут спросить, в чем состоит сущность этого религиозного познания мира? Толстой говорит, что на этот вопрос нельзя ответить, так как религиозное познание предшествует всякому другому познанию, религия есть откровение. Поэтому все попытки философов обосновать христианство, христианскую этику, пытаясь придумать «такие положения, по которым данная этика не противоречила бы ей, а связывалась бы с ней и как будто бы вытекала из нее» остаются бесплодными.
Здесь мы можем найти ключ к тому, почему же сам Толстой никак не обосновывает свой принцип непротивления. Он пишет, что «За исключением Спинозы, исходящего в своей философии из религиозных — несмотря на то, что он не числился христианином, — истинно христианских основ, и гениального Канта, прямо поставившего свою этику независимо от своей метафизики, все остальные философы, даже и блестящий Шопенгауэр, очевидно придумывают искусственную связь между своей этикой и своею метафизикой» .
В этой работе Толстой два раза критикует Шопенгауэра: первый раз, когда говорит о людях, «полагающих смысл жизни в личном наслаждении или избавлении себя от страданий, как полагал это умнейший и образованнейший Шопенгауэр, тогда как русский полуграмотный мужик-сектант без малейшего усилия мысли признает смысл жизни в том самом, в чем его полагали величайшие мудрецы Mиpa: Эпиктеты, Марки Аврелии, Сенеки, — в сознании себя орудием воли Божией, сыном Бога»; второй раз, когда он обвиняет Шопенгауэра в том, что он искусственно связывал свою метафизику с христианской этикой.
И все-таки видно, что Толстой до конца не освободился от влияния Шопенгауэра, поскольку по отношению к Богу он постоянно употребляет слово «воля» .
Особенно интересно замечание Толстого по поводу «несчастного» Ницше, из которого следует, что Толстой понимал учение Ницше не в том смысле, что Ницше выступал против самого христианства, а в том, что Ницше критиковал именно философскую мораль, искусственно подводимую под христианство: «Он неопровержим, когда он говорит, что все правила нравственности, с точки зрения существующей христианской философии, суть только ложь и лицемерие и что человеку гораздо выгоднее и приятнее, и разумнее составить сообщество Uebermensch’eв и быть одним из них, чем тою толпою, которая должна служить подмостками для этих Uebermensch’eв» .
Итак, религия есть отношение человека к бесконечному миру и первопричине его, она есть нечто «вперед данное», которое невозможно обосновать никакой наукой и философией. И поэтому нравственность вытекает именно из религии: «нравственность есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к миру». Поэтому и нравственность делится Толстым соответственно этим отношениям: нравственных учений существует три — «первобытное дикое», личное, которое включает в себя как языческое так и общественное, и христианское, или «божеское». Это можно сравнить с классификацией Киркегора, который тоже выделял: 1) эстетическое (в самом широком смысле) отношение к миру, что у Толстого соответствует личному утилитарному отношению, по которому благо личности состоит в наслаждении (эпикурейское, магометанское, и светской утилитарной нравственности); 2) общественно-жертвенное отношение, когда ради общественного блага приносится в жертву любимое дитя (у Киркегора — пример жертвоприношения Агамемнона), что соответствует, по Толстому, учениям древнеримского и греческого мира, китайской нравственности и нравственности еврейской — «подчинение личного блага благу избранного народа»; и, наконец, 3) отношение, которое и у Киркегора и у Толстого резко отличаются от первых двух: это то, что Киркегор назвал «актом веры» (жертвоприношение Авраама), когда жертва приносится не ради блага личного или общественного, а только ради веры; у Толстого же это отношение состоит «в признании себя орудием высшей воли для исполнения ее целей» .
В этом последнем пункте есть различие в понимании такого отношения к миру. Для Киркегора вера Авраама представлена как некоторая абсурдная ситуация. Толстой же никогда не принимал веру, если в ней было что-то абсурдное: он всегда пытался отбросить элемент абсурда, но сходство Толстого и Киркегора усматривается также в том, что Киркегор тоже считал, что философия не способна обосновать нравственность — здесь философия молчит. Тут нужна именно вера, и только вера.
Пожалуй, одна из самых важных мыслей Толстого состоит в том, что именно из третьего «отношения к бесконечному миру или началу его вытекает действительная, нелицемерная нравственность каждого человека». Причем эта нравственность не зависит от того, что человек исповедует или проповедует на словах. Может быть, Толстой хотел этим сказать о некоторой врожденности христианской нравственности: «Нравственность не может быть независима от религии, потому что она не только есть последствие религии, т. е. того отношения, в котором человек признает себя к Mиpy, но она включена уже, impliquee, в религии» .
Религия, по Толстому, это всегда ответ на вопрос: в чем смысл моей жизни? И на него можно отвечать в соответствии с тремя отношениями человека к миру (личного, общественного и христианского).
Далее Толстой дает определение христианской этики, которая состоит не только в жертве личности «для совокупности личностей», но и в отречении «от своей личности и от совокупности личностей для служения Богу» .
Так же как философия не может обосновать религию, так она и не может обосновать христианскую этику, которая не нуждается «в фиктивных подпорках», поскольку она есть «нечто вперед данное» (там же). Кроме того, сама философия исходит из языческого отношения к миру, основанного как раз на благе личности или общественном благе.
И дело даже не в том, что философия не способна обосновать религию и нравственность, но в том, что она не может доказать человеку «выгоду» христианского отношения к миру, она не может доказать, почему же человеку нужно отречься от личного или общественного блага и подчиниться служению воли, «для того только, что это должно или хорошо, что это категорический императив» .
Вот почему философия, вернее, этика Канта не является убедительной: этика Канта, оторвана от религии, а «изменение отношения человека к миру дает только религия». Если Толстой ставит в заслугу Канту то, что он разделил этику и философию, т. е. разделил практическую и теоретическую философию, то Толстой должен был сказать о том, что Кант выводит религию из морали, что Кант говорит о моральной необходимости религии, и Толстой должен был отрицательно отнестись к этому, так как для него как раз наоборот — религия является основой морали и нравственности. Иначе говоря, оба, и Толстой и Кант строго разделяли теоретическую философию и этику, но если Кант в своих построениях восходит от этики к религии, то Толстой, напротив, пытается, по крайней мере, в работе «Религия и нравственность», определять этику на основе религии.
Толстой также считает, что никакие теории эволюции, никакой социальный прогресс не способствуют нравственности, тем более, что нравственность нельзя выводить из них: «Утверждать, что социальный прогресс производит нравственность, все равно, что утверждать, что постройка печей производит тепло» .
Когда Толстой говорит о государстве, об увеличении военной мощи и т. д., он совершенно прав, поскольку это не способствует увеличению нравственности в обществе. Здесь хочется заметить, что, критикуя совершенно правильно теории социального прогресса, не способствующего нравственности, а напротив, противоречащего ей (ибо он отвлекает человека от истинной жизни), сам Толстой не был до конца свободен от некоторого эволюционистского сознания.
Толстой прав, предполагая некоторую духовную эволюцию человека, выделяя этапы религиозного сознания, но иногда он переносит эту эволюцию на само христианское учение, говоря о том, что он должен поправлять это учение, поскольку оно устарело (согласно записи, сделанной им в дневнике еще в Севастополе, и в работе «В чем моя вера?»).
Социальный прогресс будет истинным прогрессом только тогда, когда он будет наполнен нравственным содержанием и освящен религией, подобно солнцу. Таким образом, Толстой отвечает на два вопроса: «Религия есть известное, установленное человеком отношение своей отдельной личности к бесконечному миру или началу его. Нравственность же есть всегдашнее руководство жизни, вытекающее из этого отношения» .
Из этой работы можно сделать вывод, что большинство русских философов, которые обвиняли Толстого в панморализме и говорили, что он «узкий» моралист, не совсем правы. Конечно, Толстой все подчинял морали, и в этом смысле можно говорить о панморализме Толстого, но ведь сама мораль не является, как у Канта, первичной, а основывается на религии. Другое дело, что Толстой не всегда определял религию как отношение к миру или первоначалу его. Иногда, например, в трактате «Что такое искусство», он говорит о религии как о некоторой совокупности обычаев определенного народа. Но думается, что для самого Толстого первое определение было более важным.
3.2 Вера, неверие и наука
В более поздней работе «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902) Толстой дает определение религии, опираясь на работы Шлейермахера, Фейербаха и др.: «Истинная религия есть такое согласное с разумом и знаниями человека, установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками». Здесь важно то, что слово «мир», заменено словом «жизнь»: даже говоря о религии, Толстой не мог уйти от своего главного понятия — понятия «жизни». Можно спросить, что же он понимал под словами «бесконечный мир» и «бесконечная жизнь», и в каком смысле он употреблял слово «бесконечный» ?
Кроме того, в этой работе Толстой обращает внимание на изначальном равенстве всех людей, и на этом основывает все свои дальнейшие рассуждения. Все люди равны перед Богом, поскольку во всех живет один и тот же Дух Божий. (Историческое и) церковное христианство извратило эту основу христианства: по мнению Толстого Церковь специально придумала учение о посредниках между Богом и людьми, чтобы доказать, что никакого учения о равенстве в христианстве вообще нет. Между тем, вопрос этот очень сложный. Действительно, формально можно сказать, что христианство проповедует равенство между людьми: с одной стороны, все люди равны перед Богом как личности, с другой стороны, нигде в Евангелии прямо не говорится о социальном равенстве, а в послании апостола Павла, напротив, подчеркивается это социальное «неравенство» людей и говорится о том, что нужно относиться одинаково и к богатым и к бедным, поскольку все достойны и могут стать истинными сынами Божьми (однако, понятие «сын Божий» у ап. Павла и у Толстого — различны).
Толстой, говоря о равенстве, исходит из того, что всякая религия «всегда устанавливает отношение человека к бесконечному, одинаковое для всех людей. Всякая религия признает человека одинаково ничтожным перед бесконечностью, и потому всякая религия включает понятие равенства всех людей перед тем, что она считает Богом»
Формально это верно, но, однако можно спорить с тем, что религия включает понятие равенства потому, что она признает ничтожество человека перед Богом. Скорей, наоборот, понятие равенства выводится христианством из признания достоинства человека, из того, что каждая личность достойна приблизиться к Богу. Может быть, утверждение Толстого о «ничтожестве человека перед Богом» и является ключом к тому, что Толстой говорит о равенстве в социальном значении этого слова. Хотя он сам признает, что «равенства людей между собой нигде и никогда не существовало» (и не будет существовать), но он убежден, что официальная религия специально извращало религиозное учение таким образом, «при котором неравенство было бы возможно». А сделано это для того, чтобы укрепить свою церковную или политическую власть: искусственно вводя церковную иерархию и «посредников», как будто это «есть требование исповедуемой ими религии»
Большая заслуга Толстого в том, что он впервые вводит внушение в классификацию побудительных причин человека к деятельности. Если Кант выделяет разум, чувство и волю, то Толстой говорит о чувстве, разуме и внушении, которое «заставляет человека исполнять, не чувствуя и не думая, вызванные чувством и одобренные разумом поступки». Действительно, в этом есть большая доля правды — внушение играет огромную роль в жизни человека: с самого детства мы подвержены разнообразным внушениям, с самого детства нам что-то постоянно навязывают. Навязывают определенные социальные нормы отношений, определенную идеологию, и даже, если можно так сказать, научные теории и схемы. Но можно поставить вопрос: возможно ли человеку навязать определенные религиозные учения? В определенном смысле можно говорить об этом, когда, как пишет Толстой, ребенку внушается учение о Троице и т. д., но по определению самого же Толстого, религия — это естественное, изначальное свойство человека; человек сам определяет свое отношение к миру. Толстой утверждает, что все церковные обряды и таинства действуют на человека посредством внушения, или гипноза. Толстой пытается проанализировать эти три вида побудительных причин в религиозном становлении человека: «Чувство вызывает потребность в установлении отношения человека к Богу; разум определяет это отношение; внушение побуждает человека к деятельности, вытекающей из этого отношения». Но вопрос в том, можно ли анализировать религиозную деятельность, поскольку по определению Толстого религия — это первичное отношение человека к миру, и, как он сам говорит, — никакая философия не способна разъяснить это отношение.
Для Толстого эти все побудительные причины действуют таким образом только до тех пор, пока религия не подвергается извращению, пока в нее не привносится элемент культа и обрядов (хотя раньше Толстой писал, что «Нет ни одного самого грубого религиозного обряда, так же как и самого утонченного культа, которые не имели бы в своей основе того же самого» т. е. «этого установления отношения человека к окружающему его Mиpy или первопричине его». В этом последнем замечании Толстой даже близок к православному пониманию обрядов, по которому обряд метафорически выражает именно метафизическую сущность религии).
Но здесь он уже окончательно отвергает всякую обрядность, считая ее только средством внушения. Именно обряды и церковные установления способствуют утверждению неравенства людей, так как в этих обрядах, по мнению Толстого, выражена идея подчинения, иерархии, тогда как Христос говорил о равенстве всех людей. Возможно, идея внушения путем обрядов связана у Толстого с его представлением о христианстве как об «умиленном настроении». Тогда действительно, каждый человек, приходящий в церковь, подвергается внушению, благодаря которому на него находит это «умиленное настроение», но ведь можно себе представить атеиста, который пришел на службу как на представление в театре и никакому внушению не подвергся. Конечно, бывали случаи, когда люди именно так обретали веру, но ведь для этого все равно нужна добрая воля.
Толстой описывает «нелепости» обрядов, утверждая, что люди не могут верить этим «нелепостям», особенно подчеркивая «нелепость» Евхаристии, ссылаясь на Вольтера, который говорил, что «никогда еще не было такого, в котором главный религиозный акт состоял бы в том, чтобы есть своего Бога». Толстой также отвергает все основные догматы о Богородице, о Вознесении, о Троице: «что может быть бессмысленнее того, что Богородица — и мать, и дева, что небо открылось и оттуда послышался голос, что Христос улетел на небо и сидит там, где-то одесную Отца, или что Бог один и три, и не три бога, как Брама, Вишну и Шива, а один и вместе с тем три?». Он утверждает, «основы этой религии, установленные никейским символом, так нелепы и безнравственны, доведены до такого противоречия здравому человеческому чувству и разуму, что люди не могут верить в них» и называет все это «извращенным христианством». Однако все это само находится в противоречии с тем, что Толстой говорит далее, развивая свое понятие веры. Именно в этой работе он, по сути дела, развивает понимание веры (в отличие от работы «В чем моя вера?», где он просто описывает, во что он верит).
Здесь нужно отметить важный момент: Толстой прав, когда характеризует наше время как время безверия. Он говорит это не в том смысле, что веры нет, а в том, что люди «ни во что не верят, а вместе с тем… воображают, что они имеют веру» — эта мысль неоднократно подчеркивается Толстым (вспомним его художественные произведения «Отец Сергий», «Божеское и человеческое», «Фальшивый купон»). Здесь Толстой сходится с Ницше, также характеризовавшим нашу эпоху как эпоху безверия.
Толстой хочет свести эту проблему к проблеме «бессознательного покорения внушению». Но думается, что корни современного безверия гораздо глубже, чем это хочет представить Толстой, хотя он верно и очень остро поставил эту проблему.
Развивая свое понятие веры, Толстой отвергает определение веры апостолом Павлом (Послание к Евреям, 11:1): «Вера есть же осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Толстой же говорит, что «вера «есть особое душевное состояние», поэтому она не может быть осуществлением ожидаемого и уверенностью в невидимом, так как, по Толстому, «осуществление ожидаемого есть внешнее событие», а уверенность в невидимом не может быть основана «на доверии к свидетельству истины», поскольку «доверие и вера суть два понятия различные» .
Между тем, слова Павла об осуществлении ожидаемого заключают в себе тайну веры, и говоря об уверенности в невидимом, Павел имеет в виду не опору на свидетельства, а то, что «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр., 11:3). Так что вера для Павла тоже является орудием познания.
Толстой же, справедливо разделяя «веру» и «доверие», основу этого разделения видит в «свидетельстве истины». Свидетельство может быть, конечно, подтверждением веры, но вера — первична, и поэтому она действительно не есть доверие. Кроме того, Толстой сводит вместе понятия веры и убеждения, говоря, что «вера есть сознание человека такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам», а не потому, что «он верит в невидимое» и «надеется получить ожидаемое» Конечно, убеждения человека в том, что он должен поступать так-то и так-то, отличается от убеждения в каком-то факте; но опять-таки Л. Толстой применяет понятие «веры» к «миру» .
Но в дальнейших рассуждениях Толстой говорит о вере на другом уровне: «Вера есть то же, что религия, с тою только разницей, что под словом религия мы разумеем наблюдаемое вовне явление, верою же мы называем это же явление, испытываемое человеком в самом себе». А поскольку именно из веры вытекает разумная деятельность человека, то она не может быть неразумной (об этом Толстой писал еще в «Исповеди»). Толстой приводит в пример «древнего еврея», который верил в «высшее вечное, всемогущее существо», сотворившее мир, но не верил во что-то неразумное, а напротив, именно эта вера разъясняла ему «неразъяснимые явления жизни». Но как это согласовать с тем, что Толстой говорил ранее о нелепостях Ветхого Завета (причем, сотворение мира он причисляет к этим нелепостям), если Толстой утверждает, что любая вера придает «более разумный смысл явлениям жизни»? (То же он писал в «Исповеди» о вере «трудового народа» .)
Это противоречие говорит о том, что вера как отношение к миру является некоторой субстанцией, которая объясняет жизнь, которая «никогда не бывает неразумна, несогласна с существующими знаниями» и которую Толстой хотел очистить от всяких нелепостей. Более того, Толстой хотел очистить веру от самого понятия абсурдности: он критикует Тертуллиана, сказавшего «credo quia absurdum» .
Это рассуждение Толстого можно сравнить с высказыванием Ясперса о том, что когда Кант опровергал доказательства существования Бога, это не значит, что он опровергал существование Бога. Так что здесь Толстой опять сходится с Кантом: несмотря на то, что Кант восходил от морали к религии, а Толстой — наоборот, из религии выводил мораль, для обоих вера или Бог выполняют роль некоторой регулирующей моральной субстанции, или даже идеи.
Косвенно это подтверждается определением христианской веры у Толстого, что «Бог, духовный отец всех людей, и что высшее благо человека достигается тогда, когда он сознает свою сыновность Богу и братство всех людей между собой». Толстой много раз повторяет, что во всех нас живет один и тот же Дух Божий, который мы ощущаем в себе. Все это нисколько не противоречит христианству, но важно здесь то, как Толстой понимал эти слова: как-то, что Дух Божий истинно живет в нас и действует в нас, или как-то, что мы просто ощущаем этот Дух Божий, точно также как мы ощущаем жизнь? Скорей всего он понимал это во втором смысле. Тогда действительно, Бог, которого, кстати, Толстой очень часто приравнивает к жизни, есть некоторая идея, которая помогает нам.
Далее Толстой подробно анализирует проблему современного безверия и пытается доказать, что оно происходит именно из-за ложного внушения, или «гипноза» при извращении веры, «как их учит этому церковное христианство». Толстой указывает причины как внешних жестокостей современного мира, так и внутреннего разлада в душе человека. По Толстому, человек должен устанавливать «согласие между своей телесной … и духовной деятельностью». Толстой выделяет два способа установления этого согласия: первый, когда человек совершает поступки «согласно с решением разума», а второй — когда человек действует под влиянием чувства, а потом придумывает им оправдание. Первый способ присущ людям религиозным, даже когда они ошибаются (поскольку они сознают ошибку, несогласную с религией, и пытаются ее исправить), а второй способ — людям нерелигиозным, которые не подчиняют свои поступки разуму, а уже после совершения их пытаются разумом оправдать их. И как раз такие люди, которые действуют под влиянием чувств, часто противоречивых, стараются «разрешить или скрыть их более или менее сложными и умными, но всегда ложными рассуждениями». Умственная деятельность таких нерелигиозных людей загромождена противоречивыми и утонченными теориями, и это происходит «во всех областях деятельности и мысли». Особенно это проявляется в «извращении» религиозных учений и в науке.
В связи с этими «извращениями», говоря о гипнозе, внушении Толстой объединяет науку и религию. Он пишет о том, что, как и в науке, так и в современной религии, все направлено на то, чтобы увести людей от истины. Если в трактате «О жизни» Толстой считал, что современная наука уводит людей от вопроса об истинной жизни, то здесь уже говорит о том, что наука также уводит людей от истинной религии, и даже от самих вопросов, поставленных этой же наукой.
В отношениях между религией и наукой у Толстого наблюдается некоторое противоречие: с одной стороны он доказывает, что никакая наука и философия не способны обосновать религию, а с другой стороны — наука должна «ясно внушить людям религиозные начала», благодаря которым из жизни будут устранены неравенство, насилие, и в том числе — «уклонение от разумного назначения» самих наук. К уклонившимся от требований религиозного мировоззрения Толстой относит социологию или политическую экономию, юридические науки, естественноисторические, прикладные науки (как технологию и медицину), но особенно останавливается на философии. Основным вопросом философии, согласно Толстому, должен быть вопрос «что мне делать?» (этот вопрос поставлен Толстым более точно, чем Чернышевским). В прошлом ответы на этот вопрос были у Спинозы, Канта, Шопенгауэра и Руссо («в философии христианских народов»), но со времен Гегеля начинается отход от основного вопроса и замена его различными абстрактными теориями. Хотя Толстой далее критикует и высмеивает Ницше, но здесь он как раз сходится с Ницше в том, что теория не должны предшествовать самому мышлению; и постановка основного вопроса «что мне делать?» является как бы естественным ходом мысли, под которую нельзя подводить никакие «вперед составленные теории». Это подведение теории под естественный ход размышления является, по Толстому, первой ступенью, «спускающей мысль человеческую». Вторая ступень — это признание основным законом человеческой жизни закона борьбы за существование, «которому не надо препятствовать». Действительно, Толстой как бы предвидел, что именно этот закон станет основным лозунгом науки в ХХ веке, только на том основании, как он пишет, что «эту борьбу можно наблюдать у животных и растений». Этот закон, как никакой другой уводит человека от всякой религии. Третью ступень, «спускающую мысль человеческую», Толстой напрямую связывает с учением «полубезумного» Ницше, который на главный вопрос философии отвечает: «нужно жить в свое удовольствие, не обращая внимания на жизнь других людей» .
Если в работе «Религия и нравственность» Толстой ставил в заслугу Ницше утверждение о том, что «все правила нравственности, с точки зрения существующей христианской философии, суть только ложь и лицемерие», то здесь, хотя он и упоминает, что Ницше только воображал себе, что выступает против христианства, Толстой представил дело так, как будто Ницше выступал против нравственности как таковой и отрицал всякую добродетель. Весь мир, восхищаясь произведениям Ницше, забыл, что есть добродетель, которая «состоит в подавлении страстей, в самоотречении» .
Критикуя науку, Толстой в то же время уверен, что она может освободить людей от ложного обмана и суеверий. Но ведь если наука не способна обосновать религию, она так же не может и опровергнуть ее. Наука может опровергнуть суеверия. Однако догматы не являются суевериями, особенно догмат о Святой Троице, поскольку именно в нем проявляется та самая вера, о которой писал апостол Павел.
Толстой говорит, что догматы не дают нам никакого жизненного руководства, но если вспомнить подвиги святых, то можно сказать обратное: догматы были ориентирами для их деятельности. Причем вера для них не была регулятивной идеей, как у Канта или Толстого, а была живым общением с Богом.
Сам же Толстой выступает против передовых людей «нашего мира», которые считали, что не они сами должны освобождаться от обмана внушения, в котором не видели ничего страшного, а что это — дело науки, и «нет надобности прямо бороться» с этим, «как это делали прежде Юм, Вольтер, Руссо и др.»
Толстой уверен, что человеку с самого детства «внушаются несовместимые с разумом и знаниями, нелепые и безнравственные догматы так называемой христианской религии» И все-таки слова о «несовместимости с разумом и знаниями» говорят о том, что у Толстого были некоторые убеждения в том, что наука способна — в согласии с разумом — избавить человека от таких нелепостей.
Далее Толстой описывает тот заколдованный круг, в котором находится человечество. С одной стороны, человеку необходимо освободиться от гипноза и суеверий, «в котором держат его жрецы», но, с другой стороны, освободившись от него, человек попадает под другой «гипноз», в который вводит его «учение передовых людей, по которому всякая религия считается одним из главных препятствий движения человечества вперед по пути прогресса». Вырваться из этого круга можно, только освободившись от этого гипноза, и тогда человек поймет, что истинная религия «есть определение отношения человека к началу всего и вытекающего из этого положения назначение человека и из этого назначения правил поведения» .
В заключение своей работы Толстой говорит, что весь тот обман придуман для того, чтобы властвующим людям и классам удержать свою власть и сохранить тот закон насилия, в котором «закованы теперь люди» .
Можно сказать, что работа Толстого «Что такое религия и в чем ее сущность?» и выводы, сделанные в ней, являются в некотором смысле выполнением программы создания «новой религии», определяемой как отношение к бесконечному миру и его первоначалу. Толстой, по сути дела, предлагает в последней главе работы программу установления этических отношений между людьми, хотя сам он утверждает, что это — религия. Существование множества религий происходит от обмана и извращений религиозных учений, которые описывает Толстой. Он ясно видит этот обман, но все-таки считает, что существует некоторый нравственный рост человечества, о чем, по его мнению, свидетельствует жизнь лучших людей нашего времени и появление в истории великих мудрецов.
Основная мысль Толстого заключается в том, что религия — одна, общая для всех, так как основные положения ее «одни и те же во всех исповеданиях… Она определяет отношение человека к Богу, как части к целому; из этого отношения выводит назначение человека, состоящее в увеличении в себе божественного свойства; назначение же человека — выводить практические требования из правила: поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобою» .
Это правило Толстой хочет сделать основным законом жизни и отношений между людьми точно так же, как положение о непротивлении злу насилием.
Возникают вопросы: заменял ли Толстой религию этикой, или все-таки религия — это источник всякой нравственности и этики, которую Толстой хотел освободить от всего сверхъестественного? И может ли религия существовать без этого сверхъестественного, и будет ли это тогда называться религией? Достаточно ли только определения религии как отношения к миру или первоначалу его? (тем более, что в самом конце своей работы Толстой как бы приравнивает понятия Бога и вечной жизни как отношение, или некую идею, «которое движет человечество вперед к предназначенной ему цели»). Конечно, Бог это и есть Жизнь Вечная, но в том смысле, что Бог имеет Жизнь Вечную в самом себе. А для Толстого жизнь вечная — это общая жизнь человечества, природы и мира.
Заключение
Изучение философских и публицистических работ Толстого заставило нас отказаться от весьма распространенного в русской философии взгляда, согласно которому Толстой — великий художник, но слабый мыслитель.
Теперь такое разделение нам кажется, по крайней мере, односторонним. Хотя, в какой-то мере, можно согласиться с Достоевским, который отмечает характерную особенность Толстого как мыслителя истинно русского: «Толстой, несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для этого повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно противоположное, так как, во всяком случае, они всегда строго искренни» .
Своеобразным ответом на критику русских религиозных философов может быть статья И. И. Лапшина «Метафизика Льва Толстого», в которой он пишет, что, несмотря на «внутренние противоречия в философских взглядах Толстого», обязанность того, «кто хочет уразуметь мыслителя, заключается в том, чтобы по возможности интеллектуально перевоплотиться в него и сгладить то, что только кажется шероховатым — в этом разница между проникновенным уразумением (Verstehen) и холодным пониманием (Begreifen) <�…> попытка уяснить себе метафизические основы мировоззрения Толстого… не только не бесполезны, но прямо необходимы… Метафизическая концепция мира независимо от ее научного общефилософского значения представляет высокий антропологический интерес даже в том случае, если она не выдерживает гносеологической критики»
В нашей работе мы попытались рассмотреть эволюцию понимания веры и жизни у Толстого. В ходе исследования мы пришли к выводу, что Толстой расширял и углублял это понимание. Изучение эволюции его взглядов привело к тому, что у нас изменился взгляд на решение проблемы отношения религии и этики у Толстого. Если раньше нам казалось, что Толстой просто заменял религию этикой, то сейчас нам представляется, что решение этой проблемы у Толстого является более сложным. Несмотря на то, что сам Толстой был противником систематизации, можно видеть, что в рассматриваемых нами работах он не только углублял от работы к работе свои философские воззрения, но и систематизировал их.
" Исповедь" - это рассуждения о себе, это, по сути дела, постановка вопросов о жизни и о вере, почти не выходящая рамки самоописания (хотя уже здесь Толстой говорит о необходимости «примерять конечное к бесконечному» и — наоборот). Вера выступает тут только как способ утверждения жизни: Толстой ставит и здесь вопрос о смысле жизни, но этот вопрос ставится только по отношению к самому себе.
Мы не придерживались строго хронологического порядка рассмотрения работ Толстого. Параллельно с «Исповедью» мы рассматривали более позднюю работу «О жизни». От рассуждений о себе в «Исповеди» Толстой переходит к общей постановке вопроса, он пытается понять, что такое жизнь в ее первоначальном значении. В частности, это расширение вопроса выразилось в том, что в отличие от «Исповеди», где Толстой ссылается на те высказывания «мудрецов», которые отрицали жизнь и говорили о бессмысленности ее, в этой работе Толстой, напротив, опирается на те высказывания, в которых утверждается жизнь, в которых жизнь понимается как стремление к благу. Самому Толстому хотелось понять слово «жизнь» в его подлинном значении, и здесь проявляется наиболее явно влияние Шопенгауэра на Толстого: это, прежде всего, «воля к жизни». Чтобы выявить это влияние, мы также обратились к художественному творчеству Толстого, так как именно литература обладает тем свойством, что она дает возможность гораздо глубже и яснее выразить мысль автора, чем изложение ее в отдельной публицистической или философской статье. Живой язык художественного произведения высвечивает те мысли автора, которые он, возможно, пытался скрыть и от самого себя. Именно это и произошло с Толстым. В этом смысле мы согласны с Л. Шестовым, который считал, что «Война и мир» «…истинно философское произведение, написанное художником» .
Нам не удалось в полной мере осветить работу Толстого «В чем моя вера?», поскольку акцент в исследовании был сделан на отличии «веры» самого Толстого от традиционного христианского понимания веры как Откровения, а также на основном положении Толстого о «непротивлении злу насилием» .
Так, в «Исповеди» вера выступает как способ утверждения жизни для самого автора; в этой же работе он даже в некотором смысле «сужает» понимание веры. Толстой не рассматривает здесь само понимание веры, он пытается раскрыть понимание веры как способа утверждения жизни через христианское учение. Трактат «В чем моя вера?» можно назвать учением о жизни на основе христианства. И действительно, Толстой не только останавливается на заповеди о непротивлении, но и выделяет пять заповедей для практического руководства в жизни.
Вводя «новые определенные заповеди Христа, … по числу ссылок на древний закон (считая две ссылки о прелюбодеянии за одну)», Толстой вводит «пять новых, ясных и определенных заповедей Христа»: 1) не противься злу, или злому; 2) не судите и не осуждайте; 3) не оставляй жену свою; 4) не клянись; 5) люби ближнего своего — осознавай единство «со всеми людьми мира без всякого исключения». Эти заповеди являются для Толстого не только основой истинно христианского отношения между людьми, но и основой необходимого переустройства государства и общества в соответствии с ними.
По сути дела, в этой работе Толстой действительно разъясняет то, в чем состоит его вера. Это, прежде всего, вера в то, что, только исполняя эти заповеди, можно обрести истинный смысл жизни. В конце работы Толстой пишет: «Я верю, что если жить так, то жизнь моя получит для меня единственно возможный разумный, радостный и неуничтожаемый смертью смысл… Я верю, что единственный смысл моей жизни—в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и не ставить его под спудом, но высоко держать его перед людьми так, чтобы люди видели его. И вера эта придает мне новую силу при исполнении учения Христа и уничтожает все те препятствия, которые прежде стояли передо мной» .
Свое понимание веры и религии Толстой раскрывает в более поздних работах «Религия и нравственность» (1894) и «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902). В этих работах, возможно вопреки своей воле, Толстой систематизирует свои взгляды. Мы попытались показать, что именно эти работы проливают свет на проблему отношения этики и религии у Толстого. Они являются как бы ответом тем русским философам, которые обвиняют Толстого в «панморализме» и в «узком морализме». И хотя в этих работах чувствуется наиболее сильное влияние Канта, Толстой пытается по-иному решить проблему отношения этики и религии, определяя религию как «первичное отношение к миру или первоначалу его», и из нее выводит нравственность. Здесь Толстой систематизирует отношения человека к миру, выделяя три из них: языческое, или первобытно-личное, общественное и христианское. Для него христианское отношение к миру является высшим религиозным отношением.
В последней работе «Что такое религия…» Толстой пытается разрешить дилемму между безверием «культурной толпы» и верой в сверхъестественное. Он пытается доказать, что, как нельзя жить в полном безверии, так и нельзя считать, что вера сводится к вере в чудеса. Здесь вера выступает, с одной стороны, как отношение к миру (поскольку вера — это то же самое, что религия), а с другой стороны, она же выступает как некая кантовская регулятивная идея, которая ведет человечество вперед. Хотя вера абсолютна как некая сила жизни, но сама жизнь понимается уже не как жизнь в этом мире, а как «вечная, бесконечная жизнь», которая для Толстого есть Бог. Пытаясь разрешить эту дилемму, Толстой представляет нам противоречивое понятие жизни и Бога. Здесь понятие жизни опять выходит на первый план: жизнь выступает как некая метафизическая основа мира. Кроме того, Толстой отождествляет «жизнь» и Бога, это еще раз подтверждает то, что он не до конца освобождается от влияния Шопенгауэра. С одной стороны, он стремится следовать заповедям Христа как категорическому императиву Канта, будучи под сильным влиянием этики долга Канта, а с другой стороны, как справедливо пишет И. И. Лапшин: «Толстой убедился, …что религия не исчерпывается любовью к людям, … что в нее необходимо привходит известное эмоциональное отношение к Богу-Любви, как трансцендентной метафизической реальности. Бог-Любовь ощущается и атеистом наперекор его сознательным взглядам в минуты героического самопожертвования, в которые, по убеждению Толстого, происходит осознание метафизического тождества всех людей в Боге. Эту мысль он почерпнул mutatis mitandis у Шопенгауэра, через него у индийских философов и у В. Гюго…» В этой же статье И. И. Лапшин приводит слова самого Толстого: «Все величайшие философы в своих учениях не совпадают только наружно. Воля Шопенгауэра, Субстанция Спинозы, Категорический императив Канта — это только с разных сторон освещенная духовная основа мира и жизни» .
В ходе нашей работы мы пришли к выводу, что понимание жизни, или интуиция жизни, Толстого, с одной стороны, не позволила ему до конца принять христианскую веру в традиционном понимании ее, с другой же стороны, она выводит Толстого за рамки формальной этики долга. Религия и этика оказываются у Толстого единым целым, в рамках которого нравственность получает религиозное освящение, а религия — моральное обоснование.
Любовь к жизни, несомненно присущая самому Толстому, стала основой его главного принципа жизни и философии — непротивления злу насилием. В отличие от Ницше, философия жизни которого предполагала разрушение всех высших ценностей, Толстой, хотя и отрицал большинство ценностей, но не путем разрушения и силы. Как пишет П. Б. Струве, «его отрицание всякой принудительной власти и в то же время всякого насилия делает его единственным последовательным анархистом, верным началу абсолютного добровольного взаимоотношения и объединения людей. Ибо он единственный из анархистов отрицание насилия признает не только принципом существования идеального человеческого общества, но и принципом его осуществления» .
В наши дни проблема непротивления или сопротивления злу силой стала еще более актуальной, чем она была во времена рассмотренной нами дискуссии по поводу книги И. А. Ильина, но, к сожалению, эта проблема обсуждается сейчас не очень широко.
Религиозно-философские труды Л. Н. Толстого не утратили своего значения и сегодня. Лев Николаевич Толстой был не только одним из тех, кто более ста лет назад предупреждал о грядущих бедствиях современной цивилизации, но и был одним из очень немногих, кто предлагал нам единственный, быть может, выход — следовать христианской заповеди о «непротивлении злому» .
Список использованных источников
и литературы
Источники
1. Толстой Л. Н. О социализме. Полн. собр. соч., т. 38, М., 1936.
2. Толстой Л. Н. Ответ на постановление Синода от 20−22 февраля и на полученные мною по этому поводу письма / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
3. Толстой Л. Н. В чем моя вера? Полн. собр. соч. под ред. П. И. Бирюкова. т. XV, М.: Издательство И. Д. Сытина 1913.
4. Толстой Л. Н. Воспоминания о Н. Я. Гроте. Полн. собр. соч., т.38, М., 1936.
5. Толстой Л. Н. Исповедь. Собр. соч. в 22 т, т. 16, М.: Художественная литература, 1983.
6. Толстой Л. Н. Как читать Евангелие и в чем его сущность? Полн. собр. соч. под ред. П. И. Бирюкова, т. XV, М. 1913.
7. Толстой Л. Н. Религия и нравственность. / Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть 14, М., 1911.
8. Толстой Л. Н. Собр. соч. в 14 т., М.: Художественная литература, 1952;53гг.
9. Толстой Л. Н. Христианское учение / Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть XIV, М.: Т-во Кушнерев и К, 1911.
10. Толстой Л. Н. Что такое религия и в чем сущность ее? / Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть ХIV, М.: Т-во Кушнерев и К, 1911.
11. Толстой Л. Н. О жизни. Полное собр. соч., т.17, М.: Издательство И. Д. Сытина, 1913.
12. Бердяев Н. А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого (1912) / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
13. Бердяев Н. А. Кошмар злого добра (О книге И. Ильина «О сопротивлении злу силою» / Ильин И. А. Собр. соч. в 10 томах, т. 5. Приложение. О сопротивлении злу силой: pro et contra. Полемика вокруг идей И. А. Ильина. М.: Русская книга, 1996.
14. Бицилли П. М. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000
15. Булгаков С.Н. Л. Толстой (1911) / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000
16. Булгаков С. Н. Простота и опрощение / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
17. Волжский (Глинка) А. С. Около Чуда (о Толстом) / Сборник второй: О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912.
18. Ги де Маллак. Мудрость Льва Толстого. М.: Аслан, 1995.
19. Грот Н. Я. Нравственные идеалы нашего времени (Фридрих Ницше и Лев Толстой) / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
20. Достоевский Ф. М., Дневник Писателя, 1877 г. / Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000
21. Дунаев М. М. Православие и русская литература. Т. II, IV, М.: Христианская литература, 1998.
22. Жан-Жак Руссо. Трактаты. М.: Наука, 1969.
23. Зеньковский В. В. История русской философии в 2 томах, т. 1, ч. 2, Ленинград: ЭГО, 1991.
24. Зеньковский В. В. По поводу книги И. А. Ильина «О сопротивлении злу силой». / Ильин И. А. Собр. соч. в 10 томах, т. 5. Приложение. О сопротивлении злу силой: pro et contra. Полемика вокруг идей И. А. Ильина М.: Русская книга, 1996.
25. Зеньковский В. В. Проблема бессмертия у Л. Н. Толстого. / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
26. Ильин В. Н. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого. СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
27. Ильин И. А. Кошмар Н.А.Бердяева. Необходимая оборона / Ильин И. А. Собр. соч. в 10 томах, т. 5. М.: Русская книга, 1996.
28. Ильин И. А. О сопротивлении злу силой (доклад, 1931)/ Ильин И. А. Собр. соч. в 10 томах, т. 5. М.: Русская книга, 1996.
29. Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. Соч. в 2-х томах. М.: Медиум, 1993.
30. Кант И. Критика практического разума. Собр. соч. в 6 т., т. 4, ч. 1, М.: Мысль, 1965.
31. Кант И. Религия в пределах только разума. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980
32. Киркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1998.
33. Козлов А. А. Религия графа Л. Н. Толстого и его учение о жизни и любви. СПб, 1895.
34. Козлов А. А. Религия графа Л. Н. Толстого. СПб, 1888.
35. Кросби Эрнест. Толстой и его жизнеописание. М.: Издание «Посредника», 1911
36. Лапшин И. И. Метафизика Льва Толстого / L.N. Tolstoj. Sbornik stati a bibliografickych prehledu. V generalni komisi akciove spolecnosti «Orbis», Praha, V Praze 1929.
37. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991.
38. Лосский Н. О. Л. Н. Толстой как художник и как мыслитель. / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
39. Лосский Н. О. Нравственная личность Толстого. / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
40. Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000.
41. Набоков В. Круг. Ленинград: Художественная литература, 1990.
42. Ницше Ф. К генеалогии морали. М.: Мысль, 1990.
43. Ницше Ф., Воля к власти. М.: REFL-book, 1994.
44. Новоселов М. А. Письма М.А. Новоселова к Л. Н. Толстому. Минувшее. Исторический альманах. Т. 15: Atheneum-Феникс, 1994.
45. Розанов В. В. Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о непротивлении злу / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
46. Розанов В. В. Л. Н. Толстой и Русская Церковь./ Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000
47. Струве П. Б. Лев Толстой./Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М.: Республика, 1997.
48. Тарасов А. Б. «Что есть истина?» (Праведники Л.Н. Толстого). Монография. М., 1998.
49. Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше (философия и проповедь) / Л. Н. Толстой: pro et contra. Антология. Серия «Русский путь». СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.
50. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Собр. соч. в 6 т, т.1,2, М.: Республика, 1999.
51. Ясперс К.
Введение
в философию. Минск: Пропилеи, 2000.
52. III. Справочные издания.
53. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. Под.ред. А. И. Алешина, М.: Наука, 1995.