Поэтика абсурда в румынском литературном модернизме первой трети ХХ века
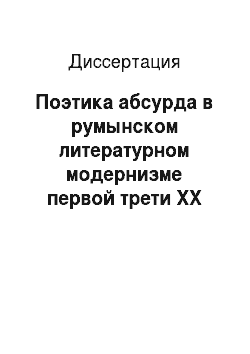
Румынская литература первой трети XX века в силу особенностей своего развития может служить прекрасной иллюстрацией того, что теперь принято называть «атмосферой», «настроением» абсурда. Интересно и то, что подобная целостная по своей сути система сложилась в румынской литературе вполне самостоятельно и раньше, чем этому явлению, в различной степени затронувшему все национальные литературы, было… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Творчество Урмуза как начало румынского литературного авангарда
- Глава 2. Творчество Чиприана: румынский театр абсурда" конца 20-х начала 40-х годов
- Глава 3. Раннее творчество Э. Ионеско
Поэтика абсурда в румынском литературном модернизме первой трети ХХ века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Настоящая работа посвящена поэтике абсурда в румынском литературном модернизме. Возможно, тема обозначена несколько широко и требует уточнения. Предметом анализа будет не история модернизма и не история литературы абсурда как отдельного направления, но некоторые явления румынской литературы первой трети XX века, которые можно рассматривать как один на аспектов генезиса литературы абсурда, и связанная с этим специфика проявления поэтики абсурда вразличных жанрах румынской литературы этого периода. Казалосьбы, румынская литература сама по себе — явление достаточномаргинальное, и различные варианты абсурдизма весьма далеки от магистральных направлений ее развития, но тем не менее творчества рассматриваемых в данной работе писателей может стать одним из важнейших связующих звеньев разорванной на мелкие фрагменты цепи мировой литературы абсурда.
Понятие- «литературы абсурда» сравнительно недавно вошло в лексикон исследователей и находится на стадии формирования. В литературоведении оно связано прежде всего с «театром абсурда», направлением, впервые заявившим о себе в- 1950 году постановкой пьесы Э. Ионеско «Лысая певица». Именно в таком понимании понятие «абсурд» впервые появилось в театральных и литературоведческих словарях и до сих нор употребляется болышшством ис следователей.1.
Вытеснив другие определения этого явления, такие как «театр насмешки» или «театр парадокса», термин «театр абсурда», впервые предложенный М. Эсслином, быстро вошел вобиход и в последующие.
20 лет «как меланхолия во времена романтиков, абсурд в философии и искусстве Запада стал доминирующей темой., и рассуждения об абсурдном мире, об ощущении абсурда, а настроении, оо абсурдном человеке стали обычным делом не только в публицистике, шив каждодневных разговорах». Форматно оставаясь в словосочетании М. Эсслина зависимым словом, абсурд постепенно занимает в нем главенствующее положение и начинает фигурироватькак самостоятельное литературоведческое понятие, базирующееся на прозе 20-х годов и философских работах А. Камю и Ж-П.Сартра. Издание «Английская абсурдная поэзия» (Москва, 1998), в которое вошли произведения четырех поэтов, «объединенных осознанной установкой на бессмыслицу"4, может служить еще одним доказательством дальнейшего расширения границ этого термина. Однако, подобно многим удачно найденным однажды словам, ему потребовалось достаточно долгоевремя, чтобы из ярлыка превратиться в общепринятое определение, указывающее если не на целую школу или направление, то хотя бы на некоторые особенности стиля, общие для большинства относящихся к нему авторовили произведений.
Говорят, что я писатель абсурдабывают такие слова, которые можно услышать на каждом углу. Абсурд сейчас модное слово, и однажды она исчезнет. В любом случае, в настоящее время оно достаточно широко, чтобы не говорить ничего, и в то же время с легкостью определить все, что угодно"3, — писал Ионеско. Во многом.
1 См., например: Scott AJF. Current literary terms. A concise dictionary. London and Basigstoke. The Macmillan Press Ltd. 1980. P. 291. (Первое издание вышла в. L965 г.) — Ж.-Ф.Жаккар ДХармс и конец русского авангарда. СПб. 1995. C2L5. J Balota. N. Lupta eu absurduL BucurectL 1971. P. 5.
J Baldick. Chris. The Concise OxfordJDiciionarv of Literarx Terms. Oxford.- New York^Oxford.Univ. Press, 1990. P. 1. Английская абсурдная поэзия-М^ 1995. СЛ.
3 Ionesco. Е. Notes et Contre-notes. Gallimard. Paris, 1962. P.30. синонимичное таким понятиям как «нелепость», «бессмыслица» само это слово долго сохраняло негативные коннотации, и сами писатели, которых общественное мнение причисляло к абсурдистам, часто стремились откреститься от этого ярлыка. «Можно было бы сказать, что абсурдизма не существует ввиду отсутствия абсурдистов», -писал румынский литературовед Н. Балотэ, подкрепляя свою мысль внушительной подборкой высказывании самых разных авторов, чья принадлежность к этому направлению казалось бы ни у кого не вызывала сомнений. Абсурдистами себя не признавали ни Беккет, ни Адамов, ни Роберт Пинджет утверждавший, что «люда называют абсурдом все то, чего не понимают», ни Дюрренматт, считавший, что его пьеса «Физики» «гротескна, но не абсурда"6.
Работа М. Эсслина «Театр абсурда» стала этапной для изучения данногоявления. Заслуга Эсслина не только в том, что он явился автором этого термина и тем самым закрепил его переход из категории философии и логики в-литературоведческое понятие, но и в том, что говоря о предшественниках театра абсурда, он впервые поставил в один ряд ЛХэрролда, А. Жарри, ФЛСафку, и таким образом вывел в хронолЬгическом и жанровом смысле литературу абсурда за пределы одного из направлений драматургии 50-х годов.
Рассуждая о возможных истоках театра абсурда, Эсслин ставит перед собой цель доказать-, что это новое возвращение древней традиции, и его новизна базируется на необычной комбинации о хорошо знакомых приемов, тем более что стилистически многие приемы, характерные для литературы абсурда как, например, каламбуры, игра на многозначности слов, переиначивание идиом или,.
6 См. об этом в кн.: Balota. N. Lupta cu absurduL BticnrestL 1971. P. 6−7.
Esslin. M. The Theatre of the absurd. Harmondsworth. 1968. Первое издание вышло в 1961 г.
8 Esslin. М. The Theatre of the absurdHarmoodsaorth, 196& P. 229. наоборот, буквальное их истолкование принадлежат к сфере комического, то есть используются для того, чтобы вызывать смех.
Нарисованная Эсслиным картина генезиса этого явления охватывает огромное количество авторов, произведений и целых направлений, удалетшх друг от друга во времени. Все это многообразие материала организовано так, чтобы показать три основных источника театра абсурда: во-первых, нонсенс и абсурдный юморво-вторых, сказки и мистические элементыв-третьих, символизм и авангард начала века.
Глава книги Эсслина, посвященная литературным предшественникам театра абсурда, была воспринята как одна из самых значимых частей работы и вызвала наибольшую полемику. Главные споры развернулись вокруг того, насколько оправдана подобная монументальность в подборе материала, правомерны ли попытки нажги какие-либо параллели между всегда остававшейся на периферии литературой абсурда и наиболее авторитетными фигурами литературной истории, можно ли рассматривать отдельные случаи, часто непосредственно не связанные между собой, как этап развития ф целой литературной традиции. Арнольд Хинчлифф, автор сравнительно небольшой по объему монографии, озаглавленной «Абсурд"9, в первых главах своей работы приводит некоторые отзывы на книгу Эсслина. Основным недостатком работы, как ни странно, многие сочли избыток авторов и произведений, представленных им в качестве предшественников абсурда. Лучше всего этот скепсис выразил Кеннет Тайнен. Признавая обоснованность обращения к творчеству Кафки и Джойса, к дадаизму и сюрреализму, к Жарри, Стриндбергу, Рембо и раннему Брехту, Эдварду Лиру и Льюису Кэрроллу, а на более ранних этапах к комедия дель арте и мимам древности, Тайней отмечает, что «когда г-н Эсслин в качестве провозвестников абсурда привлекает еще и Шекспира, Гете и Ибсена, появляется ощущение, что вся история драматургии является ничем иным как прелюдией к торжественному появлению Ионеско и Беккета».10.
Тем не менее нельзя сказать, чта Эсслин был одинок в своем стремлении обнаружить истоки абсурда как можно глубже в истории мировой литературы. Об очевидных параллелях между театром абсурда второй половины XX века и более ранними литературными явлениями говорил, в частности, исследователь европейского маньеризма Густав Рене Хок, который в работе «Маньеризм в литературе» утверждал, что «Европа абсурда появилась во времена Шекспира».11 А Ян Котг, автор книги «Шекспир — наш современник», опираясь на явные текстовые соответствия произведений Шекспира и абсурдистов XX века, заявлял, что это понятие значительно более тесно связано с великим английским драматургом, чем с более близкими театру абсурда по времени явлениями литературы XIX века.
Таким образом, полемика вокруг работы Эсслина способствовала выделению максимального числа явлений, имеющих отношение к понятию абсурда, что привело к существенному расширению границ термина. Хинчлифф в своей работе, во многом опирающейся на «Театр абсурда» Эсслина, предпринимает попытку выделить черты, характерные для всей литературы абсурда вообще, независимо от жанра и национальной принадлежности, обозначить круг явлений, относящихся к этому понятию, и уделяет особое внимание философским основам абсурда. Используя в качестве.
9 Hinchliff. Arnold Р. The absurd. Harmondsworth. 1968.
10 Цитата no: Hinchliff. Arnold P. The absurd Harmondsworth. 1968. P. 8.
11 Hocke. G.R. Manierismus in der Literatur, Sprach-Aleherme und esoterische Kombmationskunst. Rowohlt Hamburg. 1963. P. 218. Цитируется по изданию: Balota. N. Lupta cu absurdul. Bueure§ tL, 1971. P 57. критерия стилистические особенности, сформулированные Эсслином для театра абсурда, Хинчлифф выделяет сходные по характеру и стилю произведения в прозе XX века, так как только жанровое разнообразие, полагает он, может позволить художественному явлению приобрести характер школы и тем самым перевести его из периферийного в одно из главенствующих направлений современной литературы.
Опираясь на несколько работ, посвященных прозе XX века и построенных в основном на материале американской литературы,.
Хинчлифф приходит к выводу, что ощущение абсурда окончательно закрепилось в художественном сознании в 20-х годах и в качестве подтверждения приводит высказывание Мальро, позаимствованное из его «Искушений Запада», опубликованных в 1926 году: «В самом центре европейца, доминируя над всеми великими моментами его 1 жизни, лежит изначальная абсурдность». Таким образом, к 1960 году абсурдизму было уже около 40 дет. Появление театра абсурда лишь в 1950 обусловлено тем, что драматургии требуется большее количество времени на то, чтобы адаптироваться к новым идеям, так как театр зависит от вкусов массового зрителя. ь.
Румынский литературовед Н. Балотэ в исследовании, озаглавленном «Борьба с абсурдом"14, также склоняется к более широкому толкованию этого термина. На это указывает и выбор ключевых фигур, которым посвящены отдельные главы его работы. Помимо анализа произведений основателей театра абсурда С. Беккета, Э. Ионеско, Балотэ подробно рассматривает аспекты поэтики абсурда в творчестве Ф. Кафки, А. Камю и в художественной практике дадаизма. Прослеживая историю этого понятия, Балотэ опирается.
12 Цитата по: Hinchliff. Arnold P. The absurd Harmondsworth. 1968. P. 15.
15 Hinchliff. Arnold P. The absurd. Harmondsworth. 1968;. P. 97. фактически на те же литературные явления, что и Эсслин, но выделяет направления развития традиции абсурда несколько по-другому: это абсурд как элемент сатиры, абсурд как форма юмора, и абсурд как проявление иррационального начала. Подобная подача материала обусловлена тем, что предмет исследования у Балотэ определен по-иному. Как и Хинчлифф, Балотэ отказывается от постулата, что начатом литературы абсурда является появление театра абсурда, и начинает отсчет непрерывной традиции литературы абсурда с творчества Ф. Кафки и дадаизма. Л. Кэрролла, АЖарри и К. Моргенпггерна он относит к ближайшим предшественникам этой традиции.
Таким образом можно сказать, что в исторической перспективе до XX века развитие абсурда шло по двум основным направлениям, первое из которых объединяет самые разнообразные варианты абсурдного юмора, а второе — различные проявления иррационального от сказочных элементов до смещенной логики, характерной для сна или бреда, и способов выражения поэтического иррационализма. Оба направления заложены в самом значении этого слова, так как абсурд изначально предполагает нечто противное обычной логике, лишенное смысла и этим противопоставленное разуму. Четко распределить литературный материал между этими двумя линиями очень трудно очень трудно, так как они во многом перекликаются и дополняют друг друга, и часто оказываются тесно переплетенными между собой в рамках одного и того же произведения.
Первое направление включает в себя большинство стилистических приемов, составивших впоследствии технический арсенал литературы абсурда: парадоксы и каламбуры, построенные на многозначности слов и неадекватном обращении с идиоматикой ы Balota, N. Lupta cu absurdul. Bucure§ ti. 1971. языка. Линия достаточно емкая, объединяющая в себе различные сферы комического, из которых наиболее тесно связанным с абсурдом литературным жанром является нонсенс, развитие которого прослежено у Эсслина от французских детских стихов XIII века до Эдварда Лира и во многом близкого нонсенсу по духу творчества Льюиса Кэрролла.
Представленные в нонсенсе в наиболее концентрированном виде и составляющие в значительной мере основу того, что принято называть остроумием, приемы абсурдного юмора построены на алогизме, определенном В. Я. Проппом как «неумение связывать следствия и причины». Отсутствие логики как средство возбуждения комизма возведено в систему в фольклоре. «В литературно-художественных произведениях так же, как и в жизни, алогизм бывает двоякий: люди или говорят несуразное, либо совершают глупые поступки. Однако при ближайшем рассмотрении (.) оба случая могут быть сведены к одному. В первом из них мы имеем неправильный ход мыслей, который выражается словами, и эти слова вызывают смех. Во втором — неправильное умозаключение словами не высказывается, но проявляет себя в поступках, которые и служат причиной смеха. Алогизм бывает явный и скрытый. В первом случае алогизм комичен сам по себе для тех, кто видит и слышит его проявление. Во втором случае требуется разоблачение, и смех наступит в момент этого разоблачения».15.
Абсурдный юмор практически универсален, проявления его чрезвычайно разнообразны и могут быть связаны с различными видами смеха. При этом приемы абсурдного юмора позволяют выразить любую степень комизма от легкой иронии до уничтожающего гротеска. В варианте генезиса литературы абсурда, предложенном Балотэ, абсурдный юмор как таковой и абсурд как элемент сатиры представлены как два различных направления, что в общем соответствует позиции советского литературоведения, относившего гротескную абсурдизацию к сатирическим приемам, с успехом применявшимся еще Н. В. Гоголем и В. В. Маяковским.16.
Вторая линия, прослеживает выражение в литературе различных видов иррационального, т. е. всего того, что не вписывается в логику обычного человеческого разума. Если вынести за скобки отнесенную к этой категории Эсслиным комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь» (критерием в этом случае послужил чисто формальный признакдвигателями интриги в пьесе являются сверхъестественные существа), то в отличие от брызжущего весельем первого направления, произведения, относящиеся ко второй линии, объединяет меланхолия, местами переходящая в откровенно мрачное настроение, отягощенное зловещими предчувствиями.
Характерно, что ряд авторов у Эсслина и Балотэ в этом случае практически идентичен. И у того, и у другого присутствуют Э.Т. А. Гофман, Э. По, Жерар де Нервашь. И? крупных литературных направлений это прежде всего барокко и романтизм. Оба исследователя отталкиваются от пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». История мотива жизни как сна, равно как и дальнейшее его развитие на протяжении литературной эволюции являются стержнем, вокруг которого группируются остальные явления. К этой же линии причисляют и русских классиков — Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, причем идеи второго стали основополагающими для сформулированной позднее философской базы абсурдизма.
15 Пропп. В .Я. Проблемы комизма и смеха. СПб. 1997. С. 133. б Эстетика: Словарь/Под общ. Ред. А. А. Блинова и др. М.: Политиздат. 1989. С. 6.
Трудно говорить об абсурде как о некой непрерывной во времени традиции, но различные элементы эстетики абсурда заявляли о себе на разных этапах литературной эволюции. В XX веке из игры ума, скорей стилистического приема, чем самостоятельного литературного жанра абсурд постепенно выдвигается на первый план в философии, становится значимым фактом литературы. «В истории литературы абсурд то и дело возникает как литературный прием, но лишь в наше время некоторые писатели сделали его ключевой проблемой своего творчества. То же и в философии, где абсурд неоднократно ставился как проблема, но лишь в наше время был предложен в качестве реш&шя». 17.
К концу ХЕХ века две основные линии генезиса литературы абсурда начинают постепенно сближаться. Одним из первых симптомов этого сближения становится изменение концепции комического, в котором постепенно усиливаются горькие, фарсовые ноты. Вместе с этим изменяется и эффект хорошо знакомых приемов абсурдного юмора. Словесная игра, парадоксы, культ «случайности», логика сна или бреда вместо навязшего на зубах здравого смысла в сочетании с растущим ощущением абсурдности жизни, превращения человека в винтик огромного безжалостного механизма, широко использовались как отдельными авторами (А.Жарри, Ф. Кафкой, К. Моргенштерном), так и различными авангардистскими течениями (футуризмом, дадаизмом, сюрреализмом). Знаковым в этом смысле становится понятие «итоиг», изобретенное признанным позднее одним из предшественников сюрреализма Жаком Ваше (1895−1919) и.
17 Ва1огё, N. ЬдцЛа си аЬвигсМ Висите^ 1971. Р. 38.
1 л призванное отразить «чувство театральной (и безрадостной) бесполезности всего».18.
Новые принципы комизма наиболее четко сформулированы в «Смехе» (1900 г.) А. Бергсона, одного из наиболее популярных и авторитетных философов начала XX века. Основываясь на том, что одним из результатов быстрого развития промышленности, приведшего к появлению серийного производства, а затем и конвейера, стало обезличивание, он показывает, что свою уникальность потеряли не только вещи, но и люди, превратившиеся в лишенные собственной воли части гигантской машины. Предложенный Бергсоном в качестве универсального источника комизма механицизм отражает вызванный этими процессами сдвиг общественного сознания: «Позы, жесты и движения человеческого тела смешны постольку, поскольку это тело вызывает у нас.
19 тт представление о простом механизме", данное положение нисколько не опровергает, а наоборот позволяет взглянуть по-новому на представления о комическом, существовавшие ранее, что продемонстрировано в работе на наглядных примерах. Углубляя наблюдение Паскаля, что «два лица, из которых каждое в отдельности не вызывает смеха, кажутся благодаря своему сходству смешными, находясь рядом», Бергсон обращает наше внимание, что «там, где имеется полное подобие, мы всегда подозреваем, что позади живого действует нечто механическое».20 Таким образом, главной мишенью Бергсона становятся автоматизм и косность — механический верхний слой, полностью скрывающий живое тело. «Примером законченного автоматизма может служить автоматизм чиновника, действующего.
18 Вермо. А. и О. Мэтры мирового сюрреализма. СПб. 1996. С. 275. Это же понятие легло затем в основу «Антологии черного юмора» АБретона (1940).
19 Бергсон. А. Смех. М. 1992. С. 26.
20 Там же. С. 29. наподобие простой машины, или какой-нибудь административный регламент, действующий с неотвратимостью рока и считающийся 1 законом природы"." Стремясь обобщить различные случаи, когда косность, автоматизм пытается главенствовать над гибким, живым, Бергсон приходит к выводу, что у комизма «тела, берущего верх над душой», «формы, стремящейся господствовать над содержанием», буквы, спорящей с духом" одна и та же сущность 22.
Все больше вопросов стал вызывать и сам язык, в котором появлялось все больше различных штампов, часто уже потерявших всякий конкретный смысл. Речь из средства общения все больше и больше превращалась в способ сокрытия мыслей и чувств. Еще в 1895 году Г. фон Гофмансталь писал: «Люди устали слушать разговоры. Они чувствуют глубокое отвращение к словам.. Мы словно в тисках, мысль душит понятие. Вряд ли найдется хоть кто-нибудь, кто сможет по-своему сказать о том, что он понимает, а чего не понимает, выразить то, что он чувствует, а чего не чувствует».2″ .
Утверждение, что язык есть ничто иное как отражение реальности неминуемо ведет в ловушки, которые сам язык расставляет. Ведь язык не всегда дает информацию о реальности. «Иногда колесики языкового механизма крутятся сами по себе, освобожденные от природных ремней, соотносящих их с реальностью и информацией. Такое холостое вращение элементов языка подчинено всем структурным языковым правилам и создает иллюзию осмысленности и, более того, намека на особенно глубокий или тонкий смысл».24.
21 Там же. С. 36.
22 Там же. С. 39.
23 Цитата по Бартли. У. У. Витгенштейн. В кн.: Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. М.
1993. С. 175.
24 Сокулер. З.А. Л. Витгенштейн и его место в философии XX века Долгопрудный: Аллегро-Пресс.
1994. С. 20.
Без всякого преувеличения можно сказать, что язык в XX веке стал главным философским объектом, и одним из первых шагов стала идея молчания как очищения, наивысшее свое выражение получившая в опубликованном уже после первой мировой войны «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том надлежит молчать».23.
Язык был не единственным средством выражения, претерпевавшим в то время значительные изменения. Аналогичные процессы происходили во всех видах искусства. Доведение до абсурда устоявшихся стилистических и жанровых рамок, казавшихся незыблемыми, стало одним из главных способов их развенчания и осмеяния.
Отрицание причинно-следственных связей на всех уровнях стало характерной чертой авангардистских течений XX века. Отвергая существующий порядок как навязанный извне, они стремились найти нечто незапятнанное, лишенное груза смыслов и значений, приобретенных за долгое время существования. Провозглашенный футуризмом принцип parole in liberta впоследствии по-своему претворяли в жизнь и дадаисты, и сюрреалисты. И при всех различиях их программных положений достигнутый ими эффект оказывается сходным в одном: привычная стройная картина мира как бы распадается в их произведениях на множество мелких фрагментов, которые вновь соединяются в произвольном порядке, отражая мир, лишенный логических связей, а вместе с ними и смысла в общепринятом его понимании.
Реальность, в представлении деятелей самых разных авангардистских течений, это мир, в котором умерли боги, и, следовательно, в котором все одинаково дозволено и одинаково.
5 Витгенштейн. Л. Философские работы. Часть I. M. 1994. С. 73. бессмысленно. «Мир абсурден, а это значит, что установленные обществом „этикетки“, прикрепляющие каждый предмет к определенной функции, скомпрометированы, принятые обществом классификации несостоятельны, лица превратились в маски». Вполне естественным становится вопрос о месте человека и Схмыеле его существования в этом новом мире. Философское осмысление этой проблемы нашло свое наиболее яркое выражение в работах экзистенциалистов, причем характерно, что и Камю, и Сартр искали ее решение как в философской прозе, так и в собственном литературном творчестве.
Работы А. Камю в конце 30-х — начале 40-х годов, опирались на обширный материал, почерпнутый из художественной практики начала XX века. Теме абсурда посвящены работы 30-х годовфилософское эссе «Миф о Сизифе» и повесть «Посторонний». Абсурдность предстает в них чувством, характеризующим бытие человека. Она неожиданно рождается из скуки и перечеркивает значимость всех остальных переживаний. Человек отвлекается от рутины повседневной жизни и задается вопросом: «А стоит ли вообще жизнь того, чтобы быть прожитой?». «Абсурд для меня единственная данность. Проблема в том, как выйти из него, а так же в том, выводится ли с необходимостью из абсурда самоубийство».27.
Окончательно сформулированный и философски осмысленный в период между двумя войнами круг проблем, связанный с абсурдомпроблема смысла человеческого существования, сомнения в способности языка адекватно отразить действительность и, как следствие этого, невозможность коммуникации — продолжали существовать в литературе и после второй мировой войны. Способы.
26 Андреев. Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век М.: Московский рабочий. 1994.
С. 39. его выражения остались по большому счету теми же, за одним небольшим исключением: писателям, сформировавшимся в подобной атмосфере уже незачем было объяснять, что такое абсурд, в их творчестве он присутствует как данность. Парадоксальным образом, несмотря на то, что драматургия сравнительно поздно откликается на новые веяния, именно театру абсурда, поставившему эти проблемы в предельно заостренном, шокирующем виде, было суждено привлечь к нему всеобщее внимание.
Являясь то ощущением, то болезнью, то модой, абсурд на всем протяжении XX века остается одной из его ключевых проблем, и вместе с тем крайняя разобщенность, подчас маргинальное положение произведений литературы абсурда не позволяет говорить о единой, целостной художественной школе абсурдизма. Абсурд во всем многообразии своих проявлений как бы пронизывает литературу и в то же время, при всей своей узнаваемости и очевидности остается на уровне некой трудно определяемой, размытой в своих границах культурной атмосферы, редко позволяющей установить однозначные, жесткие и прямые связи между произведениями, бесспорно относящимися к данной категории, что сильно затрудняет какие бы то ни было обобщения.
Однако, при сравнительно небольшом количестве работ общего характера, что во многом обусловлено вышеуказанными трудностями, нельзя не отметить, что само по себе творчество многих авторов, относящихся к литературе абсурда, изучено достаточно хорошо. Классиком этого жанра по праву считается Л. Кэрролл, произведения которого являются превосходным материалом для применения самых.
21 Камю. А. Бунтуюший человек. М., 1990. С. 40.
28 Hinchliff. Arnold P. The absurd Harmondsworth. 1968. P. 97. различных методов исследования29 от чисто стилистического анализа до психоаналитического истолкования образов и даже построения новой философской теории смысла0.
Из авторов начала XX века наибольшим вниманием исследователей заслуженно пользуется Ф. Кафка, раньше других писателей-абсурдистов этого периода получивший широкое признание. А. Бретон включил его в свою «Антологию черного юмора» (1940). Значительный опыт исследований творчества Кафки накоплен и в нашем литературоведении." 31 Можно сказать, что по отношению к Л. Кэрроллу Кафка находится на противоположном полюсе абсурда. Аскетичный стиль, нарочитая обыденность его фантасмагорий, окрашенных в мрачные тона, далеки от сказочных оживших метафор Страны Чудес, и в то же время сопоставление произведений этих двух писателей делает особенно очевидными приемы, общие для всей литературы абсурда: алогизм, замену здравого смысла логикой сна, доведение до абсурда всякого рода банальностей.
Направления, намеченные при изучении творчества Л. Кэрролла и Ф. Кафки, 'стали основными и при исследовании других литературных явлений, связанных с понятием абсурда. Однако в силу того, что возникали они в разное время и в различных национальных литературах часто без всякой очевидной связи между собой, их принято сопоставлять прежде всего со сходными явлениями, близкими по времени возникновения и ограниченными рамками той.
29 Различные интерпретации самых известных произведений Л. Кэрролла можно найти, в частности, в кн.: Aspects of Alice. Lewis Carroll’s dreamchild as seen through the critics' looking-glasses 1865−1971. London. 1972.
30 См.: Дедез. Ж. Логика смысла М., 1995.
3! Отметим работы: Д. В. Затонский «Франц Кафка и проблемы модернизма» М. 1972: В.Иодорога. Конструкция сновидения/УПодорога. В. Выражение н смысл. Мл Ad Marginem. 1995. С. 376−426. Из. зарубежных исследований од ной из наиболее авторитетных признана работа МБланпю «От Кафки к Кафке» (1981), недавно вышедшая и на русском языке.
1 о же национальной литературы или хотя бы одного и того же языка: творчество Кэрролла и нонсенс, Ф. Кафка и экспрессионизм, Д. Хармс и русский авангард.
Значительный материал для сопоставлений и обобщений представляет собой творчество Даниила Хармса — один из немногих случаев, когда писатель-абсурдист был непосредственным образом связан с авангардистской группой ОБЭРИУ и, таким образом, с традициями русского авангарда. Ж.-Ф. Жаккар в работе «Даниил Хармс и конец русского авангарда» характеризует «прогрессивный переход» Хармса к «типу литературы, предпосылки которой были близки к литературе абсурда», как «тяжелый экзистенциальный кризис», вызванный крахом его попытки, «выработать мировоззрение и одновременно поэтическую систему, способные не только познать,.
32 г, но и выразить мир во всей его целостности". В четвертой главе этой работы, анализируя пьесу Хармса «Елизавета Бам», он проводит прямые параллели с пьесами Ионеско и Беккета, находя в них немало общего и прежде всего «трагедию языка», часто выраженную одними.
33 и теми же средствами.
В то время как о каком-либо непосредственном влиянии творчества Д. Хармса на драматургию театра абсурда говорить достаточно сложно, аналогичные явления в румынской литературе, оказываются связанными с театром абсурда напрямую. Для истории мировой литературы эта малоизученная за рубежом часть румынской литературы представляет особенный интерес, так как именно в Румынии в 30-е годы начинает свою литературную деятельность Эжен Ионеско. Несмотря на то, что его ранние произведения были переведены на французский язык, в силу объективных причин эта.
32 Жаккар, Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб. 1995. С. 10−11. 53 Там же. С. 218−230.
1 а область оставалась закрытой для большинства исследователей, так как вне контекста, в котором они были написаны, они не могли передать ни культурную атмосферу, вызвавшую их появление, ни свое место в ней.
Француз по матери, румын по отцу, Ионеско вырос на стыке двух культур, и трудно определить какая из них является для него более родной. К нему во многом применимо парадоксальное определение, которое он сам когда-то дал одному из символов румынской литературы Василе Александри, часто приезжавшему во Францию и прекрасно владевшему французским языком: «У В. Александри есть небольшой недостаток: он румын во Франции и француз в Румынии и думает во Франции по-румынски, а в Румынии — по-французски». 34.
Формирование будущего «классика авангарда» пришлось на один из самых плодотворных периодов в истории румынской культуры, который совпал с небывалым расцветом литературной теории и критики. Т. Аргези, И. Барбу, К. Петреску, творчество которых становится предметом анализа начинающего автора, являются в * румынской культуре фигурами первой величины. Дебют Ионеско происходит на фоне первой волны публикаций об Урмузе и усиления позиций авангардистов^ напрямую связанных со своими единомышленниками по всему миру.
Период в истории румынской литературы, о котором пойдет речь в настоящей работе, является одним из наиболее качественно важных для нее. В многом это связано со значительными изменениями в социальной и политической жизни страны. Ключевым словом, определяющим атмосферу румынского общества в этот промежуток времени, может служить многообразие, так как несмотря на краткость этого периода он вмещает в себя огромное количество разнородных, часто полярных по своему значению явлений и событий. Участие Румынии в первой мировой войне привело к временной оккупации немецкими войсками половины территории страны, включая Бухарест. Однако после ее окончания по территории и населению Румыния оказалась в два раза больше довоенной. Присоединение в 1919 году Трансильвании, Буковины и Бессарабии на некоторое время воплотило в жизнь мечту многих поколении о так называемой Romania Mare — Великой Румынии/3 И в то же время нельзя не отметить, что общее чувство беспокойства, надвигающейся катастрофы, охватившее все человечество после окончания первой мировой войны, не обошло и Румынию.
Всеобщее избирательное право, введенное в 19−21 году и сделавшее участниками «предвыборногомаскарада» миллионы крестьян, стало дополнительным импульсом для проникновения новых идей в общественное сознание. Но в то же время сами понятия нации, национальной особенности оставались достаточно размытыми, так как возникшая после распада габсбургской империи объединенная Румыния оказалась многонациональным государством, большинство населения которого было сельским и проживало вдали от культурных центров36.
Воссоединение нации имеет не только политическое, но и большое культурное значение. Ряды румынских литераторов существенно увеличиваются, контакты с другими литературами становятся более тесными" 7. Расцвет культурной жизни страны.
34 lonescu. G. Anatomia unei negatii. Bucurecti. 1991. P. 87.
35 Фридман. M.В. Идейно-эстетические течения в румынской литературе XIX — XX вв. К проблеме преемственности. М&bdquo- 1989. С. 128.
3® Rotara. L О istorie, а iiteraturii romane. VU Bucurecti. 1979. P. 288.
3' Crohmalniceanu. Ov. S. Literatura romana irare cele doua razboaie mondiale. V. 1. Bucurecti. 1972. P.
10.
— 4 1 совпадает с ростом национального самосознания, поиском национальной идеи, способной объединить весь народ. Выдающийся румынский политический и культурный деятель той эпохи Николае Иорга всвоей «Истории современной румынской литературы» определил период 1890—1934 гг. как «поиск содержания», продолжение «эпохи великих классиков» 1867−1890 гг., главной задачей которой было «создание формы"jS.
При беглом взгляде на организацию материала в самых разнообразных историях румынской литературы может сложиться впечатление^ что если до первой мировой войны в румынской литературе за исключением символизма, уже самим своим названием вызывающего ассоциации с чуждым исконной румынской культуре иностранным влиянием, господствовали в основном традиционалистские течения, прославлявшие героическое прошлое и идеализированное сельское настоящее, то после нее начинается расцвет модернистских направлений. Реальная ситуация оказывается гораздо сложнее и интереснее. Деятельность большинства периодических изданий традиционалистской ориентации, равно как и группирующихся вокруг них художественных объединений — и прежде всего журнала «Viata romaneasca» — главного рупора попоранизма — продолжалась. Несмотря на то, что первая мировая война совпала по времени со своего рода сменой поколений в румынской литературе^ как до, так и после войны национальная и сельская проблемы продолжали оставаться главными для румынской культуры, в значительной мере определяя «суть патриотизма и прогрессивной гражданственности"д9. Вместе с этим политическая.
38 Именно-так это-его сочинение разделенона тома: lorga. К. Isieria uteraturit rofflaaesfr contemporane. V.l. Crearea formeH18 € 7-i"9Q-y: Y.2. kcauiafeafeRdaM.
Культурная жизнь Румынии этого периода характеризуется огромным многообразием форм и направлений, не сводимым к простому перечислению имен, журналов и течений. Сосредоточенная в крупных городах, она быстро воспринимала все новое, приходившее из-за рубежа, обогащая его национальной спецификой. В период с 1920 по 1935 г. «все значительные течения европейской литературы можно найти и в Румынии"41 Вместо трех столпов — Эминеску, Крянгэ, Караджале, принадлежавших к обществу «Жунимя» в течение многих лет являвшемуся законодателем мод в румынской литературе, новый этап принес с собой многообразие имен и течений самого разного толка от сэмэнэтористов, воспевающих патриархальные крестьянские ценности, до авангарда, с яростью опровергающего все ценности прошлого вообще. Активная внутренняя культурная жизнь способствует тому, что деятели румынской культуры получают.
40 Там же. С. 132.
41 ктеэси, & Апа1: огша ипе1 пе§ аШ. Висиге§ й, 1991. Р. 115. известность и за рубежом: Брынкуш «в скульптуре, Энеску в музыке, основатели дадаизма Т. Тцара и МЛнку. Окрыленная этими успехами, к 30-м годам румынская культура начала постепенно избавляться от «комплекса начала» — так определил ситуацию в одной из своих ранних работ будущий первооткрыватель театра абсурда Э. Ионеско: «Мы все время находимся на начальной стадии, на этой вечной начальной стадии, которую никак не можем перешагнуть» ^.
Увеличение страны и связанное с этим возрастание роли литературы при водит к тому, что в румынской литературе начинает все ярче проявляться тенденция к преодолению провинциального духа, который ранее сдерживал наиболее смелые начинания. Эта тенденция предполагает подчеркнутое стремление к европеизации вместе с переосмыслением и уточнением понятия национальной самобытности: совокупность этих внешне противоположных.
44 -г> тенденции и составила главную особенность данного периода. Б 1955 году в небольшой брошюре «Румынская литература», вошедшей в состав «Энциклопедии современности», вышедшей в Париже в 18 томах, Э. Ионеско так сформулировал основной вопрос, стоявший перед румынскими писателями в 20−30-е годы: «Быть или не быть румыном? Отдаться ли на милость иностранным влияниям или отойти от них и замкнуться в себе самомно если невозможно не обращать внимания на то, что происходит в мире и нужно овладеть определенными достижениями мировой культуры, то как их ~ 45 ассимилировать так, чтооы при этом остаться самим сооои.».
42 В российском искусствоведении можно встретить и французскую транскрипцию имениБранкузи.
43 Ionescu. G. Anatomia unei negatii. Bucuresti, 1991. P. 81.
44 Crohmalniceanu. Ov. S. Literatura romana intre cele doua ruzboaie mondiale. V. 1. Bucuresti. 1972. P. 11.
45 Ionescu. G. Anatomia unei negatii. Bucuresti, 1991. P. 114.
Позднее, уже будучи известным драматургом, Ионеско приложил немало усилий, чтобы привлечь внимание к особой атмосфере, сложившейся в румынской литературе в 20-е — 30-е годы XX века, предпринимал попытки опубликовать некоторые статьи и переводы, выбирая при этом наиболее близкиесебе явления. Б 1965 году в журнале «Les Lettres nouvelles» появляется статья Ионеско «Les precurseurs roumains et le surrealisme». Среди имен, упомянутых в ней, Т. Тцара, М. Янку, И. Виня, а также история Дж. Чиприана, литературные кружки, группировавпшеся вокруг журналов «Simbolttl» («Символ») и Chemarea («Зов») и т. д. Наиболее значительное внимание уделено Урмузу, к творчеству которого Ионеско неоднократно обращался на протяжении своей жизни.
Румынская литература рубежа веков и, особенно, периода между двумя мировыми войнами с ее разнообразием жанров, имен, и школ представляет собой богатейший материал для исследований. Десятки литературных объединений, интенсивная критическая деятельность, множество периодических изданий. Почти в каждом жанре есть шедевры, являющиеся классикой мировой литературы. Стремление даль исчерпывающую картину культурной жизни Румынии этого времени предполагает углубленное, детальное рассмотрение, значительно превышающее как по своей сложности, так и по объему границы темы данной диссертации. В широкой панораме румынской литературы прекрасно освещено творчество крупнейших прозаиков этого периода: М. Садовяну, Л. Ребряну, К. Петреску, Г. Пападат-Бенджеску, Ч.Петреску., поэзия Т-Аргези, Л. Благи, И. Барбу, драматургия М. Себасгааяа, поиски новых способов выражения в творчестве писателей-авангардистов Т. Тцара,.
И.Вини, Б. Фундояну, М. Космы46., вклад в развитие теории и истории литературы Н. Йорги, Э. Ловинеску, Дж. Кэлинеску, Т. Виану 47.
В качестве темы данной. диссертации выбран сравнительно узкий аспект румынской литературы этого периода. Целью настоящей работы является исследование различных проявлений поэтики абсурда в румынской литературе первой трети XX века начиная с самого чистого и радикального ее выражения в творчестве Урмуза, автора далекого от официальной литературной жизни, и преломление ее в различных жанрах, в частности, в драматургии Чиприана и литературной критике. То, что одним из объектов исследования становится раннее творчество будущего «классика авангарда» Э. йонеско, придает ему дополнительный интерес и широкие перспективы.
Однако, беглый обзор истории данного вопроса в румынском литературоведении позволяет отметить все ту же характерную черту: проблема абсурда в румынской литературе, неоднократно поднимавшаяся в связи с творчеством отдельных авторов, очень редко ставилась в комплексе и еще более редко рассматривалась в общеевропейском контексте. Н. Балотэ в «Борьбе с абсурдом» лишь косвенно ссылается на румынскую литературу в главе, посвященной дадаизму и затем в разделе о раннем творчестве Ионеско, фактически оставляя за рамками своего исследования факты румынской литературной жизни, в значительной степени способствовавшие формированию будущего классика театра абсурда.
Настоящая работа посвящена анализу произведений Урмуза, Чиприана и Ионеско — трех представителей румынской литературы.
46 Б. Фундояну и МКосма впоследствии переехали во Франпию, где известны как. соответственно. Б. Фонлан и К.Серне.
47 Благодаря работам. Ю.Кожевникова. МФридмана. К Азерниковой многие аспекты румынской литературы достаточно полно изучены в российском литературоведении. у первой трети XX века, в творчестве которых отразились некоторые ключевые моменты в развитии абсурдистской литературы. Круг явлений, рассматриваемых в настоящей работе сознательно ограничен, так как проявления поэтики абсурда в румынской литературе этого периода далеко не исчерпывается вышеуказанными авторами. Для своего анализа мы выбрали писателей-одиночек, не принадлежавших к каким-либо литературным течениям, оставив в стороне различные проявления поэтики абсурда в творчестве крупных писателей этого периода, самым ярким примером чего мог бы послужить Тудор Аргези, а также такое значительное художественное направление, как румынский авангард. Однако, рассмотрение лишь одного, причем не самого центрального аспекта вне системного анализа этих явлений могло бы создать ошибочное впечатление, что исключительно абсурд представляет собой их основу и содержание. Исследование своеобразного преломления концепции абсурда в румынском авангарде, равно как и некоторых аспектов творчества ТАргези, непосредственно связанных с абсурдом, поднимает множество дополнительных вопросов, что с одной стороны, существенно расширяет предмет исследования, делает его более комплексным, но в тоже время таит в себе опасность сделать его чересчур расплывчатым. С этой точки зрения произведения Урмуза, Чиприана и раннее творчество Ионеско предоставляют автору диссертации более компактный, цельный материал, позволяющий и четко сформулировать проблему, и проследить ее развитие.
Следует признать, что литературные фигуры, творчество которых является предметом изучения в настоящей работе, сами по-своему абсурдны, в творческой судьбе каждого из них есть как будто некий изъян, не соответствующий традиционному представлению о писателе, достойном серьезного исследования. Все они в момент своего появления в румынской литературе представляли собой casul limila — «пограничный случай», балансирующий на грани между литературой и нелитературой. Тот факт, что они были практически неизвестны за пределами Румынии, а в мировом масштабе остаются неизвестными и сейчас, едва не сводит их на уровень курьезат чему отчасти поспособствовал и сам Э. Ионеско, в свойственнойему афористичной манере описавший Урмуза как «писателя без литературной жизни», а себя: самого в юношеский период как «автора без творчества». Г. Чиприан, несмотря на то, что его пьесы, рассматриваемые в настоящей работе, стали классикой румынской драматургии, так и не смог до конца избавиться от обвинений в плагиате произведений своего близкого друга Урмуза, и его существование как самостоятельного драматурга продолжает ставиться под сомнение. Все эти хитросплетения, многократно разъясненные в рамках румынской литературной критики, за пределами Румынии часто кажутся неправдоподобными. Немецкий журнал Akzenta, поместивший в 196? году обширную статью о Урмузе, задался вопросом, не является ли Урмуз выдумкой Э. Ионеско, темболее, что в статье Ионеско настаивал, что дадаизм Тристана Тцара должен был бы называться «урмузианизм», так как Тцара лишь скопировал технику Урмуза, который был «великим.
48 предшественником мирового авангарда".
Опираясь на узловые фигуры румынской литературы абсурда, можно проследить непосредственную связь традиции абсурда как ла комического алогизма, существовавшей с незапамятных времен" ' и в практически нетронутом виде сохранившейся в произведениях.
48 lonescu. G. Anatomia unei negatii. Buctire^tL 1991. R 106−107.
49 Берущая свое начало в фольклоре самобытная традиция абсурдного юмора существует и в румынской литературе. Ее характерные особенности выражены особенно ярко в творчестве А. Панна и И.-Л.Караджаде.
Урмуза, и атмосферы абсурда XX века от авангардистских течений начала века (Т.Тдара) до театра абсурда 50-х — 60-х годов (ЭЛонеско). Фигура Урмуза в данном контексте бесспорно является ключевой. С одной стороны, тотальное отрицание традиций было во многом в читано в «Причудливые страницы» румынскими авангардистами. С другой — нельзя не признать, что секретарь суда Деметрееку-Бузэу, не претендовавший, создавая свои истории, на философские глубины, не только прекрасно осознавал «изначальную абсурдность», но и чувствовал родство своих произведений с новейшими течениями европейского авангарда.
Временной отрезок, условно определенный в теме работы как первая треть XX века, охватывает период, началом которого можно считать 1908;1910 годы — примерная датировка первых произведений Урмуза, а концом — конец 30-х — начало 40-х годов — премьера «Головы селезня» Чиприана и отъезд Ионеско иа Румынии. Структура работы помогает проследить развитие поэтики абсурда в различных жанрах румынской литературы того времени. Работа состоит из^ трех глав. Первая глава посвящена творчеству Урмуза, вторая 9 драматургии Чиприана, использовавшего в своих пьесах многие черты, характерные для произведений Урмуза, и в некотором роде предвосхитившего театр абсурда второй половины XX века. Третья глава, в которой рассматривается раннее творчество Э. Ионеско, дает представление о возможности применения абсурда в литературной критике.
Заключение
.
Румынская литература первой трети XX века в силу особенностей своего развития может служить прекрасной иллюстрацией того, что теперь принято называть «атмосферой», «настроением» абсурда. Интересно и то, что подобная целостная по своей сути система сложилась в румынской литературе вполне самостоятельно и раньше, чем этому явлению, в различной степени затронувшему все национальные литературы, было дано адекватное философское осмысление. Естественно, в каждом отдельном случае хможно и нужно говорить о влиянии на того или иного румынского автора каких-либо зарубежных писателей, но все-таки прежде всего истоки поэтики Урмуза, Чиприана, раннего Ионеско следует искать в румынской литературе. Ее непосредственная связь с фольклором и, что особенно важно, с традициями, заложенными И.-Л.Караджале, делает творчество этих авторов вполне закономерным, равно как в русской литературе связь художественных приемов, свойственных Хармсу, с традициями гоголевской прозы подтверждает, что его 9 появление «не было случайностью и еще менее — маргинальным явлением».1 Более того, непосредственная причастность румын по происхождению к появлению дадаизма, а позднее театра абсурда совершенно не случайна. При этом Тристан Тцара использовал прежде всего игровую сторону абсурда — парадокс, случайность-неожиданность, характерные и для произведений Урмуза, написанных приблизительно в то же время. Абсурд Э. Ионеско, родившийся в тот момент, когда чувство отчужденности человеческой личности оформилось и начало укрепляться, и вышедший на первый план, когда это чувство более не требовало объяснений и стало восприниматься как данность, несет более сложную философскую нагрузку.
В техническом смысле абсурд явился способом достижения новой образности и в этом смысле затронул и прозу, и поэзию этого периода, стал существенным фактором в развитии румынского языка. Кроме того, поиск новых средств выражения совпал в румынской культуре с необходимостью постановки глобальных проблем человеческого бытия, до этого остававшихся в Румынии в тени национально-освободительной тематики. Совокупность этих факторов и создала атмосферу, способствовавшую превращению абсурда в самых разнообразных его проявлениях в некую философско-художественную идею, которая не будучи связанной с каким-либо одним литературным направлением вместе с тем в том или ином виде присутствует в каждом из них.
Можно с уверенностью утверждать, что абсурд становится одним из первых ощущений, переживаемых Румынией в XX столетии совместно и одновременно с остальной Европой. Простое перечисление относящихся к абсурду явлений румынской литературы может создать впечатление наличия единого течения, охватывающего различные жанры и имеющего своих теоретиков, однако уже при минимальном углублении становится понятно, что это не так. И в то же время их общность достаточно очевидна для того, чтобы можно было говорить о некой единой атмосфере, вызвавшей их появление. Гамма проявлений поэтики абсурда в Румынии необычайно широка и охватывает самые разнообразные жанры, включающие в себя и прозу, и поэзию, и драматургию, и критику. Не образовывая собственной школы, абсурд в румынской литературе тем не менее представляет собой достаточно стройную систему, все части которой вполне.
1 Жакхар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995. С. 187. узнаваемы, хотя связи между ними далеко не всегда очевидны. Находясь несколько в стороне от магистральных путей развития литературы, румынский абсурд первой трети XX века вместе с творчеством Хармса, Кафки, и некоторыми аспектами общеевропейских авангардистских течений образует «значительное явление, показательное для одного из этапов эволюции литературы XX века в целом"2.
Развитая и многообразная «система» абсурда, сложившаяся в румынской литературе перед П мировой войной, не могла исчезнуть бесследно, хотя ей пришлось существенно видоизмениться сначала в условиях фашистской диктатуры, а затем в рамках социалистического лагеря. Многие деятели румынского авангарда, в частности Дж. Богза, С. Панэ, сохранили необычную образность, присущую их ранним произведениям, и в более позднем творчестве. Но наиболее близким традициям абсурда оказалось их творчество в рамках детской литературы, оставлявшей в силу своей специфики гораздо больше свободы для самовыражения. Часто иллюстраторами этих книг выступали бывшие художники-авангардисты. Приведем в качестве примера сотрудничество художника Жюля Перахима и писателя Джеллу Наума, одинаково плодотворное и в издании авангардистских ранних произведений3, и в создании сказок о «пингвине-путешественнике» или «настоящем льве"4. Описав широкий крут, абсурд вернулся к своим истокам — зыбкому ирреальному.
2 Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб. 1995. С. 11.
3 К примеру: Naum G. Soarele calm. Poeme. П. Jules Perahim. В.: Ed. pentru lit. 1961. 99 p. Или Naum G. Poem despre tineretea noastra. В., 1960. 41p.
4 Naum G. Apolodor. un pinguin calator. В.: Ed. Ion Creanga. 1988. 32 p.: Naum. G. A doua carte cu Apolodor. В.: Ed. tineretului. 1964. 44 p.- Naum. G. Amedeu: Cel mai cumsecade leu. В.: Ed. I.Creanga. 1988. 32 p. пространству сказки, где возможны любые, самые фантастические превращения.3.
Абсурд первой половины нашего столетия «оказывается на пересечении двух модернизмов, причем второй во многих аспектах представляет собой механизацию (слово Тынянова) первого, который отныне становится традицией». Таким образом, его следует представлять в двух планах: с одной стороны это «мистико-структуральный поиск авангарда» и, с другой стороны, «огромное экзистенциальное течение, охватившее всю европейскую литературу"6. И эта сторона развития абсурда связана для Румынии прежде всего с Т. Тцара и Э. Ионеско — писателями, решившими продолжить свое творчество за ее пределами.
Никак не связанные между собой, часто не подозревавшие о существовании друг друга писатели-абсурдисты первой половины века, многие из которых писали, не рассчитывая на интерес широкой публики, а иногда и вообще без намерения публиковать свои произведения, приняли участие в «огромном сдвиге, который захватил евро-американские литературы и культуры в целом. Эту большую переходную эпоху принято называть постмодерном».7 Постмодернизм, одним из направлений которого считается и театр абсурда, вобрал в себя все основные черты поэтики абсурда первой половины века, положив в основу своей эстетики извращение постулатов нормальной коммуникации и игру с общими местами,.
5 Дань детской литературе отдавали и признанные абсурдисты. Достаточно отметить детские произведения Д.Хармса. долгое время остававшиеся единственной сравнительно широко доступной частью его творчества. Перу Ионеско также принадлежат четыре чудесных детских истории, помешенные им в качестве интерлюдий в издание своих дневников и. кстати, во многом перекликающиеся с произведениями для детей Т. Аргези.
6 Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда СПб., 1995. С. 187.
7 Кукулин И. Рождение постмодернистского героя по дороге из Санкт-Петербурга через Ленинград и дальше// Вопросы литературы. Июль-август 1997. С. 89. расширив ее до «игры авторского сознания с готовыми мифологемами"8.
Раскрытое и объясненное в творчестве Камю и Сартра понятие абсурда стало одним из наиболее употребительных во второй половине нашего века, но вместе с тем так и не родилось того, что можно было бы назвать сложившейся школой или единым направлением. Несколько драматургов, объединенных критиками под общим термином «театр абсурда» стали единственным исключением из этого правила, но и это определение очень условно, так как при внешней схожести приемов каждый из них пришел к этому результату по своему особенному пути. Вслед за Сартром повторяя мысль, что постановка проблемы абсурда является «продуктом ясного, лаконичного, пытливого — сугубо французского разума"9, Ионеско утверждает, что «Беккет не является «членом» семьи «абсурдистов»: его юмор принадлежит другой традиции, другому фольклору, ирландскому"10.
Но вряд ли можно в этом случае согласиться с мэтром театрального авангарда. Собственно юмор, принадлежащий не только французскому разуму, тем не менее причастен к абсурду. Потому, несмотря на различные национальные традиции, принадлежность к разным литературным периодам и направлениям, все произведения литературы абсурда легко узнаваемы. Границы абсурда, определенные Сартром как «смерть, неустранимое разнообразие человеческих истин и человеческих существований,.
3 Кукулин И. Рождение постмодернистского героя по дороге из Санкт-Петербурга через Ленишрад и дальше// Вопросы литературы. Июль-август 1997. С. 90.
9 Сартр. Ж. П. Объяснение «Постороннего"//Называть вепш своими именами. Программные выступления мастеров Западно-Европейской литературы XX века. М.: Издательство «Прогресс». 198б! С. 93.
10 Ионеско. Э. Противоядия. М. 1992. С. 365. неинтеллигибельность действительности, случайность"11, расширенные за счет различных национальных традиций комического алогизма, позволяют вместить огромное количество литературных явлений.
Думается, что речь не должна идти (и не шла в настоящей работе) о борьбе за национальный (например, румынский) приоритет в сфере рождения литературы абсурда. Важно лишь то, что абсурд — в такой же мере порождение человеческого разума (и, как видно, не только французского), в какой и плод времени, эпохи, обстоятельств, всей социокультурной ситуации, которая определяет разнообразие и целостность XX столетия.
11 Сартр. Ж. П. Объяснение «Постороннего"//Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров Западно-Европейской литературы XX века. М.: Издательство „Прогресс“. 198б» С. 93.
Список литературы
- Ионеско Э. Лысая певица. М., 1991. 221 с.
- Театр парадокса (Ионеско, Беккет и другие): Сборник. М., 1991. 298 с.
- Чиприан Дж. Человек с клячей. Пер. М. Малобородской. //"8 румынских комедий". М.: Искусство, 1970. С. 11−97.
- Avangarda iiterara romaneasca. В., 1983. 693 p.
- Ciprian G. Serien. Bucure§ ti, 1965.
- V.l. Amintiri. Mascarici § i mizgalici. ХХШ, 349 p. V.2. Teatru. 319 p.
- Ionesco E. Theatre. 1−4. Paris: Gallimard, 1964−1966.7. lonescu E. Elegii pentru fiinte mici. Bucure§ ti, 1990. 30 p.
- Pana, Sa§ a. Antologia literaturii romane de avangarda. В., 1969. 484 p.
- Urmuz, Pagini bizare. В., 1970.
- Английская абсурдная поэзия. M., 1995. 224 p.
- Камю А. Посторонний- Чума: Романы. Харьков: Фолио, 1998. 399 с.
- З.Кафка Ф. Замок: Роман- Новеллы и притчи- Письмо отцу- Письма Милене. М.: Политиздат, 1991. 574 с.
- Сартр, Жан-Поль. Тошнота: Роман- Стена: Новеллы. Харьков: Фолио, 1998. 335 с.
- Хармс Д. T. 1,2. M., 1994.
- Хармс Д. Горло бредит бритвою. M.: Глагол, 1991. 240 с.
- Хармс Д. Полет в небеса. Ленинград: Сов. писатель, 1991. 560 с.
- Breton Andre. Antologie de l’humour noir. Paris: Pauvert, 1966. 591 p.
- Carroll L. Alice in Wonderland. Wordsworth Editions, 1995. 254 p.
- Lacote Rene et Haldas George. Tristan Tzara. Presentation par Rene Lacote et George Haldas. Choix de textes, bibliogr., des., portr., facs., poemes inedits. Paris, Seghers, 1960. 230 p. b) Философские работы, эссгистика, манифесты:
- Антология французского сюрреализма. М.: Гитис, 1994. 392 с.
- Бергсон Анри. Смех. М.: Искусство, 1992. 127 с.
- Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М., 1994. 612 с.
- Делез Ж. Логика смысла. М., 1995. 299 с.
- Ионеско Э. Противоядия. М., 1992. 477 с.
- Как всегда об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М., 1992. 288 с.
- Камю А. Бунтующий человек. Философия, Политика, Искусство. М.: Политиздат, 1990. 415 с. 2 8. Камю А. Творчество и свобода: Статьи, эссе, записные книжки/Пер. с франц. В. Великовского и др. М.: Радуга, 1990. 602 с.
- Французская философия и эстетика XX в. М.: Искусство, 1995. 269 с.
- Ionesco Е. Entre la vie et la reve. Entretiens avec Claude Bonnefoy. Paris: Gallimard, 1996. 228 p.
- Ionesco E. Hugoliade. Postf. De Gelu Ionescu. Trad. Du roum. Par Dragomir Costineanu avec la partecipacion de Marie-France Ionesco. Paris: Gallimard, 1982. 152 p.
- Ionesco E. Non. Trad. Du roum. Et annot. Par Marie-France Ionesco. Paris: Gallimard, 1986. 308 p.
- Ionesco E. Notes et Contre-notes. Gallimard, Paris, 1962. IX, 248 p.
- Ionesco E. Prezent trecut, trecut prezent. Bucure§ ti, 1993. 235 p.
- Ionesco E. Sub semnul intrebarii. Bucure§ ti, 1994. 214 p.
- Ionescu E. Nu. Bucure§ ti: Humanitas, 1991. 223 p.
- Авангард, остановленный на бегу. Л.: Аврора, 1989. 284 с.
- Адорно Теодор. Заметки о Кафке/УЗвезда, 1996, № 12. С. 120−139.
- Азерникова Е. Драма и театр Румынии. Караджале, Петреску, Себастиан. М., 1983. 174 с.
- Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М.: Московский рабочий, 1994. 333 с.
- Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., «Высшая школа», 1972. 232 с.
- Великовский В. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
- Вермо А. и О. Мэтры мирового сюрреализма. СПб., 1996. 288 с.
- Голов А. Сизифов камень// «Мысль изреченная.» Сб. научных статей под ред. В. А. Кругликова. М., 1991. С. 159−166.
- Давыдов, Ю.Н. Эстетика нигилизма. (Искусство и «новые левые»). М.: Искусство, 1975. 271 с.
- Жаккар Ж.-Ф. Д. Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995. 471 с.•
- Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М.: Высш. школа, 1972. 136 с.
- Затонский Д.В. Художественные ориентиры XX в. М.: Сов. писатель, 1988. 413 с.
- Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Берн, 1991. 448 с.
- Зверев A.M. Дворец на острие иглы: Из художественного опыта XX в. М.: Сов. писатель, 1989. 407 с.
- Кобринский A.A. «Вольный каменщик бессмыслицы», или Был ли граф Хвостов предтечей обэриутов?//Лит. обозрение. М., 1994, № 9/10. С. 64−63.
- История зарубежного театра. Часть 3. Театр Западной Европы и США (1917−1945). М., 1986. 254 с.
- Кондюкова Е.С. Феномен абсурда: проблемы эстетико-философского анализа: Автореф. дис. .канд. филос. наук / Урал, гос. ун-т им. А. М. Горького, Екатеринбург, 1995. 19 с.
- Кулик И. Театр в культуре ДадаУ/Вопр. искусствознания. М., 1995, № ½. С. 540−574.
- Куликова И.С. Сюрреализм в искусстве. М., 1995. 176 с.
- Ломан З.Я. Агошя CMixy. «Ком1чне», «трапчне», «гер01'чне» в лггератур1 модернизму. К., 1969. 395 с.
- Лотман Ю. Внутри мыслящих миров: Человек Текст -Семиосфера. — История. Тартуск. ун-т. — М.: Языки русской культуры, 1996. XIV, 447 с.
- Марков П. Современная экспрессионистическая драма в Германии. М., 1923 (Оттиск из журнала «Искусство» за 1923 г., № 1).
- Мейлах М. ОБЭРИУ: диалог постфутуризма с традицией/'/Oeiî- = Око, Saint-Ptersbourg, 1994, № 1. С. 17−19.
- Можнягун С.Е. О модернизме. Этюд первый. Истина и антиистина в эстетике модернизма. М.: Искусство, 1970. 279 с.
- Падни Джон. Льюис Кэрролл и его мир. М., 1982. 142 с.
- Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 1920−1930-х гг. М.: Наука, 1993. 493 с.
- Подгаецкая И.Ю. Поэтика сюрреализмаУ/Критический реализм XX века и модернизм. М.: Наука, 1967. С. 177−193.
- Подорога В. Выражение и смысл. М.: А (1 Матует, 1995. 426 с.
- Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. СПб., 1997. 288 с.
- Русский авангард в кругу европейской культуры: Междунар. конф.: Тез. и материалы. М., 1993. 197 с.
- Славов И. Иронията в структурата на модернизма. София: Наука и Изкуство, 1979. 291 с.
- Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М.: Искусство, 1985. .
- Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977. 201 с.
- Сокулер З.А. Л.Витгенштейн и его место в философии XX века. Курс лекций. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994. 173 с.
- Сретенский H.H. Историческое введение в поэтику комического. 4.1. Учение Жан-Поля о комическом. Ростов на Дону, 1926. 60 с.
- Стафецкая М. Феноменология абсурда/'/ «Мысль изреченная.» Сб. научных статей под ред. В. А. Кругликова. М., 1991. С. 139−146.
- Сучков Б.Л. Лики времени. Ф. Кафка и др. М.: Худ. лит., 1969. 444 с.
- Сучков, Б.Л. Творчество Кафки в свете действительности. М., 1964. 31 с.
- Толемата авантура: францускиот надреализам. Скоп|е, Макед. книга, 1993. 284,6. с.
- Турчин, B.C. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 246 с.
- Урнов, Д.М. Как возникла страна чудес. М., 1969. 77 с.
- ХейзингаЙ. Homo ludens. М.: Прогресс, 1992. 459 с.
- Шолтысек, А. Культурное пространство как пространство абсурда/Философия культуры: Межвуз. сб. науч. ст. Самара, 1995. С. 34−40.
- Якимович, А. О лучах просвещения и других световых явлениях: Культурная парадигма авангарда и постмодерна /7 Иностр. лит. М., 1994. — № 1. С. 241−248.
- Якимович, Т.К. Драматургия и театр современной Франции. Киев: Изд-во Киев, ун-та, 1968. 303 с.
- Якобсон, Роман. Письма с Запада. Дада// Якобсон, Роман. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 430−439.
- Якобсон, Роман. Футуризм//Якобсон, Роман. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 414−420.
- Absurde et renouveaux romanesques, 1960−1980. Paris, 1986.
- Alberes, Rene Marill. L’Aventure intellectuelle du XX-e siecle. Panorama des literatures europennes 1900−1970. Paris, 1969. 505 p.
- Apolionio, Umbro. Futurismo. Milano, 1970. 291 p.
- Aspects of Alice. Lewis Carroll’s dreamchild as seen through the critics looking-glasses 1865−1971. London, 1972. XXVII, 450 p.
- Baconsky, A.E. Meridiane. Bucurecti, 1965.
- Balakian, Anna. Surrealism the road to the absolute. Toronto-Vancouver, Clarke, Irwin & co cop. 1970. 256 p.
- Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford New York: Oxford Univ. Press, 1990.
- Balota, N. De la Ion la loanide: Prozatori romani ai s. XX. Bucure§ ti, 1974. 539 p.
- Balota, N. Lupta eu absurdul. Bucurecti, 1971.
- Blanchot, Maurice. De Kafka a Kafka. Paris, Gallimard, 1981. 248 p.
- Bowra, C.M. The creative experiment. Lnd., Macmillan, 1949. VII, 255 p.
- Bradateanu, Virgil. Comedia in dramaturgia romaneasca. Bucurecti, 1970. 444 p.
- Bradateanu, Virgil. Istoria literaturii dramatice romanecti § i a artei spectacolului. Bucurecti, 1982. 286 p.
- Braescu, Ion. Perspective § i confluence ieterare romano-franceze.1. Bucurecti, 1980. 382 p. #
- Bucur, Marin. L’ambiance litteraire du debut romaine de Tristan Tzara.//Cahiers romaines d’etudes litteraires. 1976. N.l. P. 28−36.
- Cazimir, Ctefan. Caragiale Universul comic. Bucurecti, 1967. 265 P
- Calinescu, G. Istoria literaturii romane de la origini pina in prezent. Bucurecti: Minerva, 1982. XVI, 1058 p.
- Calinescu, G. Universul poeziei. Bucuresti, 1973. 374 p.
- Calinescu, M. Avangarda literara in Romani ay'/rana, S. Antologia literaturii romane de avangarda. Bucure§ ti, 1969. r. 5−33-.
- Calinescu, M. Eseuri despre literatura modema. Bucure§ ti, 1970.
- Calinescu, M. Limbajul ironiei.//Romania literara, 1970, 29/X, N.44. P.5.
- Calinescu, M. Ma§ tile ironiei./7Romania literara, 1970, 9/VII, N.28. P.55.A
- Ciopraga, C. Intre Ulisse § i Don Quijote: Reflectii despre literatura. Iaci, 1978.299 p.
- Ciopraga, C. Literatura romana intre 1900 ci 1918. Iaci, 1971. 778 p.
- Constantinescu, Ileana. Caragiale § i inceputurile teatrului european modern. Bucure§ ti, 1974. 353 p.
- Constantinescu, Pompiliu. Serien. V. 1−4. Bucure§ ti, 1967−1970.
- Crohmalniceanu, Ovid S. Literatura romana intre cele doua razboaie mondiale.
- V.l.Bucurecti, 1972. 661 p. V.2. Bucure§ ti, 1974. 668 p. V.3. Bucurecti, 1975. 480 p.
- Cublecan, C. Teatru: Istorie § i actualitate. Cluj-Napoca: Dacia, 1979. 304 p.
- Dan, S.P. Proza fantastica romaneasca. Bucuresti, 1975. 353 p.•
- Danto, Arthur Coleman. The transfiguration of the commonplace: A philosophy of art. Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1981. X, 212 p.
- Dentan, Michel. Humour et creation litteraire dans l’oevre de Kafka. These presentee a. L’Univ. de Lausanne pour l’obtention du grade de docteur es lettres par Nuchel Dentan. Geneve, 1961. 202 p.
- Dima, Al. Aspecte nationale aie curentelor internationale. Studii sintetice. Bucurecti: Cartea romanaesca, 1973. 175 p.
- Din presa literara romaneasca (1918−1944). Bucuresti, 1986. 368 p.
- Enescu, Radu. Franz Kafka. Bucurecti, 1968. 203 p.
- Esslin, M. The Theatre of the absurd. Harmondsworth, 1968. 462 p.
- Fauchereau, Serge. Expressionisme, dada, surrealisme et autres ismes 1−2. Paris, Denoel, 1976.
- V.l Domaine etranger, 1976. 266 p. V.2 Domaine francaise, 1976. 285 p.
- Fokkema, Douwe W. Literary history, modernism and postmodernism. Amsterdam- Philadelphia, Indiana univ. press, 1984. Vm, 63 p.
- Fokkema, D.- Ibsch, E. Modernist conjectures: A mainstream in Europ. Lit, 1910−1940. L.: Hurst, 1987. XII, 330 p.
- Fritsch, Rudolf. Absurd der grotesk? Francfurt, 1990.
- Goth, Maya. Franz Kafta et les lettres francaises (1928−1955). P., 1957. 284 p.
- Gray, Richard T. Constructive distinction: Kafka’s aphorismes: lit. tradition and lit. trasformation. Tubingen: Niemeyer, 1987. VI, 308 p.
- Greenberg, M. The terror of art: Kafka and modem literature, London: Deutsch, 1971. 241 p.
- Grigirescu, Dan. Istoria unei generatii pierdute: expresioni§ tii. Bucurecti, 1980. 494 p.
- Grossman, Manuel L. Dada. Paradox, mystification and ambiguity in European litterature. N.Y., 1971. 192 p.
- Harries, Karsten. The meaning of modern art. A philosophical interpretation. Evanston, 1968. XIV, 166 p.
- Heistein, Josef. Decatentisme, symbolisme, avant-gardee dans les litteratures europeennes: Recuil d’etudes. Wroclaw: Wyd-wo univ. WrocGawskiego- Paris: Nizet, 1987. 214 p.
- Hinchliff, Arnold P. The absurd. Harmondworth, 1968. XH, 105 p.
- Hutcheon, L. Ironie et parodie: strategie et structure.//Poetique, Paris, 1978, Nov., № 36. P. 467−477.
- Huxley, Francis. The raven and the writing desk. London, /cop. 1976/. 191 p.
- Ionescu, G. Romanui lecturii. Bucure§ ti, 1976. 186 p.
- Iorga, N. Istoria literaturii romanecti contemporane.
- V. I. Crearea formei (1867−1890). Bucurecti, 1934. 372 p. V. H. In cautarea fondului (1890−1934). Bucuresti, 1934. 322 p.
- Istoria teatrului in Romania. V.3. 1919−1944. Bucurecti, 1973. 623 p.
- Kaplan, H. The Passive Voice. An approach to modern fiction. Athens (o.) — Ohio univ. press, 1966. 239 p.
- Kay ser, Wolfgang. The grotesque in art and literature. New York, 1981.224 p.
- L’arte moderna. V. 19−20. Metafisica, Dada, Surrealismo. Milano, 1967. 240 p.
- L’Humour europeen. V. 1−2. Lublin Sevres, 1993.
- Les avant-gardes litteraires au XX-e s. V. 1,2. Budapest, 1984.
- Les jeux surrealistes, mais 1921-sept. 1962. Paris: Gallimard, 1995. 311 p.
- Literature' and plastic arts. 1880−1930. Seven essays. Ed. by J. Higgins. Edinburgh London, 1973. X, 120 p.
- Lovinescu, E. Istoria literaturii romane contemporane 1900−1937. Bucure§ ti, 1975. 348 p.
- Maciuca, C. Viziuni § i forme teatrale. Bucurecti: Ed. Meridiane, 1983. 271 p.
- Manolescu, N. Area lui Noe. Eseul despre romanui romanese. V. 13. Bucuresti, 1983.
- Manu, Emii. Sensuri moderne § i contemporane. Bucure§ ti, 1982. 307 p.
- Marino, A. Modern, modernism, modernitate. B., 1969. 135 p.
- Massof, loan. Teatrul Romanese. Privire istorica. V.5. 1913−1925. Bucure§ ti, 1974. 566 p.
- V.6. 1925−1931. Bucurecti, 1976. 555 p. V.7. 1931−1940. Bucurecti, 1978. 748 p.
- Mattews, John H. Theatre in Dada and surrealism. Siracuse, Univ. press, 1974. XI, 286 p.
- Mauriac, Claude. L’alitterature contemporaine. P., Michel, 1958.
- Micu, Dimitru. Scurta istorie a literaturii romane. 2. Perioada interbelica. B., 1995. 455 p.
- Mincu, Marin. Ion Barbu: Eseul despre textualizare poetica. Bucurecti, 1981. 303 p.
- Mincu, Marin. Introducere in avangarda literara romaneasca/ZAvangarda literara romaneasca. Bucure§ ti, 1983. P.5−55.181. «Modernismul» in literatura romana. Bucure§ ti, 1968.
- Munteanu, George. Istoria literaturii romane. Galati, 1994.
- Oates, Joyce Carol The edge of impossibility. New York, 1972. 259 P
- Ornea, Z.'Traditionalismul § i modernitate ta deceniul al treilea. Bucure§ ti, 1980. 665 p.
- Pearce, R. Stages of the clown. Perspectives on modem fiction from Dostozevsky to Beckett. Carbondale-Edwardsville, Southern Illinois univ. press: London Amsterdam, Feffer & Simons, ins.: cop. 1970. XIV, 166 p.
- Peterson, Elmer. Tristan Tzara: Dada and surrational theorist. New Brunswick (N.Y.) Rutgers univ. press, 1971. XXVI, 259 p.
- Petrescu, Camil. Comentari § i delimitari in teatru. Bucurecti, 1983. t^t tt n 1 a «1. JSJL.11, / 1H- p.
- Phillips, D.Z. Through a darkening glass: Philosophy, literature and cultural change. Oxford: 1982. X, 196 p.
- Pica, Vittorio. All’avanguardia. Manziana (Roma), 1993.
- Piru, Al. Istoria literaturii romane de la inceput pina in azi. Bucurecti: Univers, 1981. 582 p.
- Pop, Ion. Avangarda in literatura romana. Bucure§ ti, 1990. 448 p.
- Pop, Ion. Avangardismul poetic romanesc. Bucure§ ti, 1969. 285 p.
- Pop, Ion. Transcrieri. Cluj-Napoca: Dacia, 1976. 227 p.
- Raicu, L. Critica forma de viata. Bucurecti, 1976. 475 p.
- Rapeanu, Valeriu. Interference spirituale. Bucurecti, 1970. 260 p.
- Reviste literare romane§ ti de la inceputui secolului ai XX-lea. Bucurecti, 1976. 168 p.
- Ricard, Francois. La litterature contre elle-meme: Essais/Avec une pref de M. Kundera. Montreal: Boreal express, cop. 1985. 195 p.
- Rose, M. Parody. Ancient, Modem and Postmodern. Cambridge University Press, 1993. 116 p.
- Rotaru, Ion. O istorie a literaturii romane. V.2. Bucurecti, 1972. 839 P
- Sagi, A. Is the absurd the problem or the solution? «The myth of Sisiphus» reconsidered /7 Philosophy today. Celina, 1994. — Vol. 38, N 3.-P. 278−284.
- Sangsue, D. La Parodie. Paris: Hachette, 1994. 106 p.
- Sebastian, M. Opere alese. V. 1 -2. Bucurecti, 1962.203. § ora, Mariana. Unde § i interferente. Studii, eseuri, articole. Bucure§ ti, 1969. 440 p.
- Spender, S. The destructive element. A studz of modern writers and beliefs. London, 1935. 284 p.
- Stvan, J.R. Modern drama in theory and practice 1. Realism and naturalism. Cambridge University Press, 1981. 208 p.
- Surrealism and language: Seven essays/Ed. By Ian Higgins. Repr. With corr. a. add. material. Edinburgh: Scott, acad. press, 1986. VIII, 94 P
- Sutherland, Robert D. Language and Lewis Carroll. The Hague-Paris, Mouton, 1970. 245 p.
- Tisdall C., Bozzolla A. Futurism. London: Thames and Hudson Ltd., 1993. 216 p.
- Vianu T. Scrieri. V. 4. Bucure§ ti, 1975.
- West, Paul. The wine of absurdity. Essays on literature and consolation. Univ. Park and London, Pennsylvania state univ. press, 1966. XIV, 249 p.
- White K.S. Savage comedy since King Ubu. A tangent to «the absurd». Washington: Univ. press of America, cop. 1977. 94 p.
- Winblad D.G. wnnat might not be nonsense // Philosophy. -Cambridge- N.Y., 1993. Vol. 68, N 266. P. 549−557.
- W’inters, Ivor. In defence of reason. Primitivism and decadence. Maule’s curse. The anatomy of nonsense. The significance of the Bridge by H-Crane, or what are we to think of proffessor X. Denver, Swallow, cop. 1947. VIH, 611 p.
- Нави, Патрис. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. 481 с.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1998. 381 с.
- Эстетика: Словарь/Под общ. Ред. А. А. Блинова и др. М.: Политиздат, 1989. 447 с.
- Dictionar de literatura romana: Scriitori, reviste, curente./r.Cornea, 9 J ' J
- F.Manolescu, P. Marcea §.a. Bucure§ ti, 1979. 432 p.
- Encyclopedia of world literature in the 20th century: in 3 vol. New-York: Ungar, 1974.
- Le grand atlas des litteratures. Paris: Encyclopedia universalis, 1994. 435 p.
- Scott A.r. Current literary terms. A concise dictionary. London and Basigstoke. The Macmillan Press Ltd., 1980.
- Bak, Maria. Strategies discursives humour. dans l’oeuvere d’Umrnz //L'Humour europeen. Lublin-Sevres, 1993. P. 205−212.
- Balota N. Urmuz. Cluj, 1970.
- Balota N. Post-scriptum urmuzian.//Balota, N. De la Ion la Ioanide. Bucure§ ti, 1974. P. 379−403.
- Balota N. De la misterul Urmuz la un cuit Urmuz./TRomania literara, 1970,16/Vn, N. 29. P.3.
- Balota N. Urmuz. (Spre infinitul mic.)/7Steaua, 1970, N.7. P. 62−75.
- Bogza G. Urmuz premergatorul. В. кн.: Avangarda literara romaneasca. Bucuresti, 1983. P. 585.
- Bogza G. Urmuz sau destinul a deveni classic.//Contemporanul, Bucurecti, 1973, 30/XI, N.49. P.l.
- Bratescu G, Bercu§ C.I. Urmuziana.//Lucafarul, 1968, 23/XI, N.47. P.7.
- Calinescu M. Urmuz in engiese§ te.//Romama literara, 1969, 16/1, N.3.P.19.
- Calinescu M. Urmuz si comicul absurdului (scriitori § i curente)./7 Viata romaneasca, 19, № 6, VI, 1966.
- Cristea D. Urmuz — adecvari § i corespondente.//Romania literara, 1973, 22/XI, N.47. P.18.
- Cristea V. Urmuz.// Luceafarul, 1968, 13/VII, № 28. P.6.
- Crohmalniceanu Ov. S. Urmuz (Antiproza).// Contemporanul, 1967, 13/1, № 2. P.3.
- Cruceanu M. Ratacit intr-un tirg.//Luceafarul, 1972, 18/XI, N.47.P.3.
- Foarta S. Fabula lui Urmuz. Z/Onzont, 1968, N.3. P. 37−41.
- George Al. O legenda: Urmuz.//Romania literara, 1970, 19/XI, N.47. P. 9−13.
- Hryhorowisz, Zdzislaw. Demetru Demetrescu-Urmuz. Miedzy dadaizmem a surrealizmem. Poznan: Wydawnictwo naukowe UAM, 1995. 141 p.
- Ionescu E. Acesia a fost Urmuz.// Viata romaneasca, 1968, № 4. P.69−75.
- Ionescu G. Amagitorul (Teze despre Urmuz) // Luceafarul. Bucuresti, 1973,15/XII. № 50. P.6.
- Jebeleanu E. Urmuz vazut de Eugen IonescuZ/Contemporanul, 1968, 17/V, N. 20. P. 1,9.
- Manolescu N. Pretext pentru o analiza sociologicaZ/Luceafarul, 1970, 18/VH, N. 29. P.2.
- Mihailescu F. Urmuz intre supralicitare § i negatie./rviata romaneasca, 1971, N.3. P. 95−99.
- Necula D. Straniul cotidian sau caricatur a la Urmuz.//Viata romaneasca, 1970, N.2. P. 135−136.
- Negoitescu I. Urmuz//Negoitescu I. Analize § i sinteze. Bucure§ ti: Ed. Albatros,'l976. P. 233−237. ««
- Pana S. Comentariu./'/Gazeta literara, 1967, 7/IX, N.36. P.3.
- Pana S. Urmuz./TLuceaiarul, Bucure§ ti, 1973, 17/XI, N.46. P.6.
- Piru Al. Exegeza urmuziana./7 Romania literara, 1970, 15/X, N.42. P.13.
- Pop I. Premergatorul. B kh.: Pop, I. Avangardismul poetic romanese. Bucure§ ti, 1969. P. 139−150.
- Pop I. Urmuz § i avangarda literara.//Tribima, 1967, 12/X, N.41. P. 3.
- Pruteanu G. Despre Urmuz.// Romania literara, 1970, 21/V, N.21. P.14.
- Raicu L. Urmuz acest mare anonim./V Romania literara, 1973, 22/XI, N.47. P. 16−17.
- Sorescu M. Patimile dupa Urmuz.//Luceafarul, 1968, 7/iX, N.36. P.4- 14/IX, N.37. P.3- 21/IX, N.38. P.3- 19/X, N.42. P .3.
- Tanasescu A. Ma§ tile lui Urmuz.//Contemporanul, 1970, 24/IV, N.17.P.3.
- Vianu I. O disonanta (Teze despre Urmuz).//Luceaiarul, 1973, 15/Xn, N.50. P. 6.
- Vintila P. Urmuz. Fals tratat de istorie literara//'Luceafarul, 1970, 21/11, N. 8. P.6.
- Voda-Capu§ an M. lonescu § i Urmuz./VTribuna, 1970, 30/VII, N.31. P.10.bj yunpuan:
- Banu G. Un memoralist si dramature al autencitatii umane./7 Teatral, 1. W J J1966, N.8. P.94−95.
- Calendoli G. Testa di anatra.//Dramma, 1967, ott. N. 373. P. 46.
- Ciprian G. loachim fiul poporului. Comedie in 3 acte. -Manuscriptum, Bucure§ ti, 1973, № 3. r. 64−33.
- Calinescu M. G. Ciptian § i Urmuz intr-o editie comuna.//Ia§ ul literar, (Iaci), 1966, N. 5. P. 49−51.
- Cristescu L. G.Ciprian.//Contemporanul, 1965, 5/XI, N. 45. P.4.
- Crohmainiceanu Ov.S. Note la teatrul lui G. CiprianV/Luceafarui, 1971, 20/П, N.8.P.8.
- Cuibu§ G. Cu G. Ciprian la 80 de ani.//Tribuna, 1963, 3/X, N. 40. P.9.
- Mu§ atescu T. Gh. Ciprian octogenar./'/Gazeta literara, 1963, Il/TV, N.15.P.7.
- Popovici I. О romanta de altadata. (Teatru de comedie)//Contemporanul, 1966, i3/V, N.19. P.4.
- Solomon D. Strania poezia a neconformismului./'/Gazeta literara, 1965, 4Ш, N. 45. P.6.
- Tanasescu M. G. Ciprian Dramaturgia unui actor./'/TVianuscriptum, Bucure§ ti, 1973, N3. P. 62−63.с) Ионеско:
- Дюшен й. Театр парадокса // Театр парадокса (Ионеско, Беккет и другие): Сборник. М., 1991. С. 5−21.
- Зверев А. Памяти новатора/ЛГеатр. М., 1994, № 3. С. 139−140.
- Михеева А.Н. Когда по сцене ходят носороги. Театр абсурда Эжена Ионеско. М.: Искусство, 1967. 174 с.
- Benmussa, Simone. Eugene Ionesco. Teztes et propos de Ionesco.-Documents de mise en scene.- Points de vue critique.- Temoignages.-Cronoiogie. Paris: Seghers, 1966. 192 p.
- Сое, Richard N. Ionesco. Edinburgh-London, Oliver and Boyd, 1961.120 p.
- Сое, Richard N. Eugene Ionesco: The meaning of unmeaning'7Aspects of drama and the theatre. Sydney, 1965. P. 1−32.
- Constantinescu P. Eugen lonescu: «Elegii pentru fiinte mici'7/Constantinescu P. Serien. Y.3. Bucure§ ti, 1969. P. 206−207.
- Constantinescu P. Eugen lonescu sau marioneta propriei vanitati.// Constantinescu P. Scrieri. V.3. Bucurecti, 1969. P. 208−212.
- Crohmalniceanu Ov. S. Cum se face cariera in critica literara//Luceafarul, 1972, 19/01, N.8. P.3.
- Crohmalniceanu Ov. S. Eugen lonescu, critic literar/VSteaua, 1967, N.7. P. 47−54.
- Donnard, Jean-Herve. Ionesco dramaturge ou l’artisan et le demon. Paris, Minard, Lettres modernes, 1966. 195 p.
- Duckworth, Colin. Angels of darness. Dramatic effect in Samuel Beckett with special reference to Eugene Ionesco. London, 1972. 153 p.
- Eugen lonescu § i Urmuz. Scrisori inedite/YRomania literara, 1969, 4/Xn, N. 49. P. 13.
- Falambrino, Gian Luigi. Ionesco. Firenze, 1967. 154 p.
- Florescu N. Eugen lonescu sau teribilismele unui sentimental timid//Manuscriptum, Bucurecti, 1973, N.2. P. 151−156.
- Frickx, Robert. Ionesco. Lettre-pref. d’Eugene Ionesco. Paris, Nathan- Bruxelles, Labor, 1974. 251 p.
- Hayman, Ronald. Eugene Ionesco. London, Heinemann, 1972. XIV, 114 p.
- Jacquart, Emmanuel C. Emmanuel Jacquart presente «Rhinoceros» d’Eugene Ionesco. Paris: Gallimard, 1995. 148 p.
- Jacquart, Emmanuel C. Le theatre de derision. Beckett, Ionesco, Adamov. Paris, Gallimard, 1974. 313 p.
- Lewis, Allan. Ionesco. New York, 1972. 119 p.
- Manu E. Eusen lonescu, critic literar. ZZTribuna, 1965, 28ZX, 4/XI. P. 1,8.
- Manu E. Eugen lonescu, poetZZIacul literar, № 7, VII, 1966. P.73−76.
- Manu E. Eugen lonescu, cronicar plasticZ/Tribuna, 1968, 8/VII. P. 7.
- Pop I. Avangardismul tmarului Eugen Ionescu/ZTribuna, Cluj, 1990, 1/H, N.5. P. 5.
- Pop I. Eugen lonescu, romancier. Tribuna, Cluj, 1973, 19/VTII, N. 29. P. 16.
- Prin telefon eu Eugen Ionescu/ZContemporanul, 1965, 10/XII, N. 50. P. 10.
- Pronco, Leonard Cabell. Eugene Ionesco. N.Y.-London, Columbia univ. press, 1965. 47 p.0300. § ora M. Eugen lonescu altadata § i azi/7Tribuna, 1963, 9/V, N. 19. P.8.301. Cora M. Eugen lonescu fata eu criticaZZTribuna, 1967, 24/VIII, N.34. P. 8.
- Sorianu V. Pasiunea negatiei in critica lui Eugen Ionescu/ZTribuna, 1968, 30/V, N. 22. P. 1,3.
- Sterian M. Eugen lonescu la Academia francezaZZRomania literara, 1970, 29/1, N. 5. P. 21.
- Streinu VI. Eugen lonescu/ZSecolul 20, 1969, N. 11−12. P. 236.
- Tobi, Saint. Eugene Ionesco, ou A la recherche du paradis perdu. Anti-essai en 12 episodes dont la creation du monde, en guise, de prologue, et l’apocalypse, en guise d’epilogue precede de Discours de la metode. Paris, Gallimard, 1973. 218 p.
- Vianu, Elena. Oameni § i idei. Bucurecti, 1968. 219 p.
- Vianu E. Preludii ionesciene/ZGazeta literara, 1965, 7/1, N. 2. P.8.
- Vianu E. Teatrul lui Eugen Ionescu/VViata romaneasca, 1964, N. 7. P. 123−134.
- Vidra§ cu E. Eugen Ionescu la Sfintul Sava//Gazeta literara, 1968, 28/111, N. 13. P.5.