Формирование индивидуальной и коллективной идентичности в контексте неофициального праздника: На примере празднования Дня рождения в России советского и постсоветского периодов
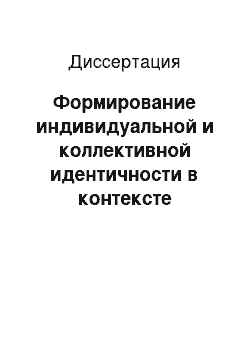
В данной диссертационной работе также было важно сохранить возможность осмысления празднования Дня рождения в терминах «институционализация» и «социальный институт», но эти понятия трактовались в рамках иной теоретической перспективы. Под социальным институтом нами понимается исторически сложившийся набор устойчивых и распространенных социальных практик45. В социологических теориях более принято… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. МЕСТО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНОЙ ИЕРАРХИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ В СОВЕТСКОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
- 1. 1. День ангела и День рождения в дореволюционной праздничной культуре
- 1. 2. Новые праздники советского государства (1 920-е годы)
- 1. 3. Сталинская индивидуация и формирование дискурса личного праздника
- 1. 4. Институционализация празднования Дня рождения (1950−80-е годы)
- 1. 5. «Коллективизация» личных праздников (постсоветский период)
- Выводы
- ГЛАВА 2. ПРАКТИКИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
- 2. 1. Подготовка празднования
- 2. 1. 1. Подготовка сцены: актуализация индивидуальной идентичности
- 2. 1. 2. Подготовка праздничного сообщества: актуализация коллективной идентичности
- 2. 2. Поздравления как кодификация социальных отношений
- 2. 2. 1. Подарок и дар: их различия и роль
- 2. 2. 2. Поздравительный текст
- 2. 2. 3. Тосты
- 2. 3. Практики формирования солидарности
- 2. 1. Подготовка празднования
- Выводы
- ГЛАВА 3. ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
- 3. 1. Интерпретации именинника
- 3. 1. 1. Детский праздник
- I. 3.1.2. Личный праздник
- 3. 1. 3. Повод для встречи
- 3. 1. 4. Юбилей
- 3. 1. 5. Ненужный праздник
- 3. 2. Интерпретации сообщества
- 3. 2. 1. Родительский день
- 3. 2. 2. Поиск компании
- 3. 2. 3. Подтверждение дружбы
- 3. 2. 4. Повод для встречи
- 3. 2. 5. Долг
- 3. 3. Практики празднования как механизмы формирования идентичности
- 3. 1. Интерпретации именинника
Формирование индивидуальной и коллективной идентичности в контексте неофициального праздника: На примере празднования Дня рождения в России советского и постсоветского периодов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность исследования. Исследование социальных изменений является одним из ведущих направлений социологии. Политические, экономические и социальные преобразования в российском обществе последнего десятилетия сопровождаются изменением системы ценностей. Этот процесс находит свое выражение и в изменении календаря праздников и праздничной иерархии. Для установления и существования праздника необходимо, чтобы вовлеченная в праздник группа имела общие разделяемые ценности, в то время как утрата интереса к данному празднику служит признаком того, что эти ценности теряют свое значение. Поскольку празднование носит всегда коллективный характер, изменения в праздничном календаре оказывают влияние на механизмы формирования социальной идентичности. Поэтому социологический анализ празднования позволяет выявить особенности формирования идентичности в данном обществе и выступает как значимый способ исследования социальных и культурных перемен трансформирующегося общества.
Несмотря на перспективность данного исследовательского направления, феномен праздника и празднования в современном обществе остается недостаточно изученным. Немногочисленные исследования рассматривают официальные праздники как инструмент идеологического воздействия и политической социализации (например, К. Лейн, Р. Стайте, В.В. Глебкин)1. Праздники, не входящие в список государственных торжеств, до сих пор не были предметом социологического рассмотрения. В то же время в постсоветский период такой неофициальный праздник, как День рождения, приобретает в российском обществе все большее значение и конкурирует по уровню популярности с новогодними праздниками, вытесняя бывшие советские. По данным ВЦИОМ, в 1992 году ноябрьские и первомайские.
1 Lane С. The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society — the Soviet case. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981; Stites R. Bolshevik Ritual Building in the 1920s // Russia in the Era of NEP / Eds. Sh. Fitzpatrick, A. Rabinowitch, R. Stites. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1991. P. 295—309- Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К, 1998. государственные торжества «по-настоящему праздничными днями» считали в среднем 10% респондентов. В то же время собственный День рождения и Дни рождения близких людей воспринимали таким образом соответственно 44 и 38% опрошенных2. Представляемое диссертационное исследование, в котором анализируется генезис и динамика развития традиции празднования Дня рождения, призвано привлечь внимание к этому празднику как к одному из значимых социокультурных контекстов формирования идентичности.
Таким образом, актуальность предлагаемой работы определяется, с одной стороны, важностью изучения и социологического осмысления роли неофициальных праздничных ритуалов как способов конструирования устойчивого образа «Я», а с другой — изучением и описанием процесса индивидуализации российского человека в советский и постсоветский периоды, когда центральным личностным праздником постепенно становился День рождения.
Проблема исследования. Широкое распространение празднования Дня рождения приходится на период доминирования государственной идеологии, основанной на коллективных ценностях и нивелировании индивидуальных различий. Здесь наблюдается определенный парадокс: как в рамках советской цивилизации с ее коллективистскими лозунгами мог появиться и сформироваться праздник, в основе которого лежит акцентированное внимание к личности отдельного человека? До сих пор оставалось неисследованным, какие составляющие празднования обусловили включение Дня рождения в советскую культуру и позволили ему сохранить статус значительного события в постсоветский период. В данной работе предпринята попытка рассмотреть переплетение коллективизирующих и индивидуализирующих механизмов, включенных в празднование Дня рождения, с целью понять особенности формирования идентичности в российской культуре.
2 Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х / Отв. ред. Ю. А. Левада. М.: Мировой океан, 1993. С. 37.
Степень разработанности проблемы. Исследование находится на стыке тем, связанных с изучением праздников и ритуалов, формирования личности и коллектива, а также повседневной жизни. В связи с этим степень разработанности исследовательской проблемы во многом определяется разработанностью указанных предметных областей в социологии, социальной антропологии, социальной психологии и социальной истории.
Работы по социальной истории Дж. Гиллиса3, Э. Плек4 и X. Чудакоффа5, затрагивающие вопросы конструирования возрастных различий и непосредственно упоминающие празднование Дня рождения, позволили осмыслить значение этого феномена в широком контексте эпохи модернизации.
Первые единичные упоминания о праздновании Дней рождения, прежде всего детей, как о заслуживающем внимания событии относятся к XIX веку, что было следствием новых представлений эпохи модернизации, отражающих новую концептуализацию времени, индивида и его возраста. Время, по которому жили до XIX века, было временем церковным. Жизнь человека виделась как набор циклов, определенный от рождения до смерти божественной волей. Время было неподвластно человеку, и любые попытки присвоить его рассматривались как вызов Богу и церкви. Вероятно, поэтому время, измеряемое годами, месяцами, неделями и днями, не имело большого значения для индивида и общества. Большинство людей в недавнем прошлом не знали точной даты своего рождения, а иногда и точного возраста. По словам Томаса Коля, «вечная жизнь значила много больше, чем вечная юность"6. Кроме того, следствием территориальной разъединенности в доиндустриальном обществе было отсутствие стандартной системы времяисчисления7.
3 Gillis Jh.R. A World of Their Own Making. A History of Myth and Ritual in Family Life. Oxford: Oxford University Press, 1997.
4 Pleck E. Celebrating the Family. Ethnicity, Consumer Culture, and Family Rituals. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
55 Chudakoff H. How old are you? Age Consciousness in American Culture. Princeton: Princeton University Press, 1990.
6 Cole T. The Journey of Life: A Cultural History of Aging in America. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 8.
7 Gillis Jh.R. A World of Their Own Making. P. 45−48.
В индустриальном обществе возрастное измерение жизни человека начинает приобретать особое значение. На фоне процесса индивидуализации и роста самосознания жизнь начинает рассматриваться как последовательное прохождение определенных возрастных этапов. Осмысление процесса взросления становится важной частью «рефлексивного проекта» личности8 и приводит к возникновению традиции обозначать наступление нового года жизни определенной праздничной церемонией. Эта традиция западноевропейской культуры с момента своего становления складывалась как «праздник детства».
Описывая историю традиции праздновать День рождения, американская исследовательница Элизабет Плек отмечает, что ее истоки связываются с протестантской культурой9. Первые зарегистрированные случаи празднования описывают домашние праздники и приемы по случаю Дня рождения детей из семей английской и немецкой элит. Детские Дни рождения помогали родителям привить ребенку правила поведения и этикетаважные критерии социальной компетентности в светском обществе. Среди бедных слоев эта традиция не была распространена.
Более широкое распространение празднования Дня рождения в 1870—1920 годах связывается с европейской образовательной реформой. С 1850-х годов в городских школах стали практиковать разделение учеников по возрасту, что способствовало осознанию возрастных различий и объединению сверстников10. В этот период детские Дни рождения предоставляли возможность ребенку самому формировать свои социальные сети. И уже в начале XX века Дни рождения становятся в англосаксонской культуре неотъемлемой частью детства и отмечаются во всех социальных слоях" .
В середине XX века в связи с ростом женской занятости они приобретают новую форму празднования — вне дома. Сервисные центры, сети кафе и ресторанов предлагают.
8 Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991.
9 Pleck E. Celebrating the Family. P. 143−147.
10 Ibid. P. 151. Chudakoff H. How old are you?. P. 130. свое пространство для организации детского праздника, освобождая родителей от хлопот по подготовке и уборке дома после приема гостей. В современной американской культуре, по наблюдению Э. Плек, родители, как правило, признают важность Дня рождения для ребенка и ежегодно организуют его12. В то же время существуют заметные различия в том, как это делается, что обусловлено доходами родителей и другими социальными различиями. День рождения ребенка все чаще и чаще становится демонстрацией социального статуса семьи.
Как же в современной западной культуре свои Дни рождения воспринимают взрослые люди? Американский антрополог С. Брендес выяснила, что в 1970;80-е годы меняются представления о зрелом возрасте. Если в послевоенное время сорокалетний рубеж обозначал начало старения человека, то в 1970 году значение этого возраста изменилось и стало обозначать начало зрелости. Изменения в продолжительности жизни, развитии профессиональной карьеры, семейных отношениях стали причиной того, что мужчины и женщины стали искать символы, которые наполнили бы значением их средний возраст. Следствием этого было распространение празднования юбилеев среди взрослых людей. Д. Гиллис считает, что если раньше большинство взрослых могли бы забыть дату своего рождения, то в 1980;е годы они начинают обращать внимание на такие даты, как 40 лет, и придавать этому большее значение13. Вероятно, ритуалы и символы взросления, связанные ранее с началом жизни и детством, постепенно стали перемещаться к более старшим возрастным группам. Элизабет Колсон приводит пример празднования коллективных ежемесячных Дней рождения для пожилых людей, которые организовываются специализированными центрами социальной работы14. Эти мероприятия, делает вывод исследовательница, играют важную роль в возрастной адаптации участников: они носят выраженный коллективный характер и делают центром внимания возраст как таковой, а не.
12 Pleck Е. Celebrating the Family. P. 160.
13 Gillis Jh.R. A World of Their Own Making. P. 230−231.
14 Colson E. The Least Common Denominator // Secular Ritual / Eds. S. Moore, B. Myerhoff. Assen: Van Gorcum, 1977. P. 189−98. наступление нового года жизни отдельного человека15. Такая трактовка Дня рождения как повода для рефлексии прослеживается во всех немногочисленных свидетельствах о Днях рождения взрослых людей.
Единственное описание Дня рождения как приватного и интимного праздника в виде научной публикации дает американский антрополог Теодор Хамфри, вспоминая семейное празднование Дня рождения своей 24-летней дочери16. За столом собрались только близкие члены семьи — именинница, ее родители и бабушка. Ужин несколько раз прерывался звонками близких родственников и друзей дочери, которые, будучи занятыми на работе, не смогли поздравить её лично. Праздничная трапеза закончилась главным блюдом и традиционным символом Дня рождения — шоколадным пирогом. После чего за дочерью зашел один из друзей, и они ушли, чтобы продолжить вечер в компании сверстников. Описание Дня рождения такого рода — скорее исключение.
Линн Виссон, переводчик-синхронист, американка русского происхождения, в равной степени хорошо знающая американскую и русскую культуру, отмечает разницу между русской и американской традицией празднования Дня рождения. Различие состоит в том, что, по наблюдениям Виссон, в Америке к этому празднику взрослые люди относятся с меньшим вниманием: «Взрослые американцы по большей части уделяют своим дням рождения гораздо меньше внимания, чем русские. Обычно отмечаются лишь круглые даты — и тогда устраивается праздник, приглашают гостей и т. д. С некруглой датой поздравляют только близких друзей. Кроме того, у американцев нет потребности использовать день рождения как хороший повод повидаться с родными и друзьями, посидеть вместе за праздничным столом. Порой «виновник торжества» идет с супругой или с парой близких людей в ресторан"17. В своем оригинальном исследовании взаимодействия американской и русской культур в сфере брака и семьи Виссон неоднократно упоминает об этих различиях в.
15 Там же. Р. 189.
16 Humphrey Т. A Family Celebrates a Birthday: Of Life and Cakes // «We Gather Together»: Food and Festival in American Life / Eds. T.C. Humphrey, L.T. Humphrey. Ann Arbor: UMI Research Press, 1988. P. 19—26.
17 Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. М.: Р. Талант, 2003. С. 103. 8 отношении к Дню рождения, которые проявляются и осознаются супругами, состоящими в русско-американских браках. Во-первых, для русских «дни рождения — это такое событие,.
• когда ни перед какими расходами не останавливаются"18. Во-вторых, празднование Дня рождения в кругу друзей состоится вне зависимости от того, было ли перед этим формальное приглашениев этой связи одна из собеседниц Виссон, американка, делится своим опытом семейной жизни с русским мужем: «Я всегда приглашаю друзей Федора на его дни рождения, потому что если я этого не сделаю, они, скорее всего, все равно придут, ожидая, что их будут поить и кормить"19.
Вследствие возрастных различий по отношению к празднованию даты своего рождения, приоритетным значением для западных исследователей также обладают детские Дни рождения. Отметим статью С. Отнес и М. Макграф20, посвященную исследованию социализирующих факторов, которые оказывают влияние на формирование тендерных различий в процессе празднования Дня рождения в американской культуре. Работы.
J1. Шамгар-Хандельман и Хандельман, а также Ш. Вайль22 рассматривают празднование Дня рождения в израильских детских садах и анализируют его символическое значение. Р. Сирот анализирует социализирующую роль детских Дней рождения во Франции23.
Приведенные свидетельства позволяют поставить вопрос о специфике празднования Дня рождения в российском контексте, которая, прежде всего, заключается в широком распространении и значимости этого праздника для представителей всех возрастов. При этом российский День рождения является не просто ритуалом или поводом для рефлексии о прошедших годах, но, в большинстве случаев, одним из наиболее часто празднуемых и.
• —. I ——.
18 Виссон J1. Чужие и близкие в русско-американских браках. М.: Валент, 1999. С. 163.
19 Там же.
20 Otnes С., McGrath М. Ritual Socialization and the Children’s Birthday Party: the Early Emergence of Gender Differences//Journal of Ritual Studies. 1994. V. 8. N 1. P. 73−93.
21 Shamgar-Handelman L., Handelman D. Celebration of Bureaucracy: Birthday Parties in Israeli Kindergartens // Ethnology. 1991. № 30. P. 293—312- Handelman D. Models and Mirrors: towards an anthropology of public events. NY.: Berghahn Books, 1998. P. 162−189.
22 Weil Sh. The Language and Ritual of Socialization: Birthday Parties in a Kindergarten Context // Man. 1986. V. 21. Issue 2. P. 329−341.
23 Sirota R. Processus de socialisation et apprentissage des civilit6s, & propos d’un rituel: i’anniversaire // Myths, rites, значимых праздников24. Для того чтобы понять происхождение, распространение и изменение Дня рождения в советской и постсоветской действительности, были важны исследования, посвященные изучению повседневной жизни в Советском Союзе и изучению системы советских ритуалов. Важное место среди работ о советской повседневности, раскрывающих особенности взаимодействия советских людей и государственной идеологии, занимают исследования В. В. Волкова, В. Данэм, Е. Ю. Зубковой, Н. Н. Козловой, С. Коткина, Н. Б. Лебиной, Ш. Фитцпатрик, О. В. Хархордина.
Исследования праздников в советское время связаны с изучением государственных официальных торжеств и их роли в политической системе и политической культуре советского общества. Негосударственные, приватные праздники до настоящего время не были предметом научного рассмотрения. Для советских исследователей возможности изучения праздничного феномена в значительной степени определялись государственной трактовкой, игнорирующей популярность личных праздников. Для западных ученых в советский период были в значительной степени ограничены доступ к материалам и возможность изучения частной жизни и неофициальных традиций23.
Между тем данное исследование опиралось на результаты и выводы, опубликованные в ряде работ. Среди исследований советских государственных праздников и ритуалов отметим работы Р. Стайтса о становлении советской ритуальной системы в 192 030;е годы и К. Биннса о развитии этой системы в хрущевский и брежневский периоды, а также монографию К. Лейн, в которой предлагается рассмотрение советских праздников и ритуалов как инструмента политического управления26. Историко-культурологический symboles dans la societe contemporaine / Ed. L’Harmatan. Paris, 1997. P. 151—166.
24 Анализ соответствующих данных приведен в 1 главе настоящей работы.
25 См. исследовательские заметки К. Лейн: Lane С. The Rites of Rulers.С. 6—7.
26 Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. N.Y.: Oxford University Press, 1989; Stites R. Bolshevik Ritual Building in the 1920s.- Binns Chr. The Changing Face of Power: Revolution and Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System: Part 1 // Man. 1979. V. 14. Issue 4 (Dec.). P. 583—606- Binns Chr. The changing Face of Power: Revolution and Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System: Part П // Man. 1980. Issue 1 (Mar.). P. 170−187- Lane C. The Rites of Rulers. анализ ритуальных процессов в советской культуре дается в монографии В. В. Глебкина. В статье Е. А. Здравомысловой и А. А. Темкиной рассматривается изменение ритуальных форм Октябрьских демонстраций и фиксируется момент окончания санкционированного празднования советских праздников, обозначивший новый этап в развитии российской.
28 1-х праздничной культуры. Этот этап до сих пор остается малоисследованным.
Из социологических публикаций, где бы поднимался вопрос о значении неофициальных праздников постсоветского периода, можно назвать лишь одну статью финской исследовательницы А.-М.Салми29. В этой работе на основе вторичного анализа структурированных дневников петербургских учителей отмечается заметная роль празднования Дня рождения в построении и поддержании социальных сетей, а также в формировании отношений неформального обмена товарами и услугами. Салми делает вывод о более значимой роли этого праздника в построении социальных взаимодействий для российской культуры по сравнению с финской. Однако в связи с ограничениями метода сбора данных и узко заданными возрастными и профессиональными характеристиками информантов полученные результаты не раскрывают особенностей и значимых характеристик празднования Дня рождения в целом. Так, за рамками анализа остаются праздничное устройство и приписываемые его составляющим субъективные значения, влияние возрастных и тендерных характеристик — аспекты, которые являются центральными в представляемой диссертационной работе.
Для уточнения и формулировки гипотез данного исследования была значима монография О. В. Хархордина, в которой представлен анализ субъективирующих и объективирующих практик становления личности и коллектива в советском обществе30.
27 Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре.
28 Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Октябрьские демонстрации в России: от государственного праздника к акции протеста // Сфинкс, Петербург, филос. журн. 1994. № 2. С. 76—98.
29 Salmi А.-М. Bonds, Bottles, Blat and Banquets. Birthdays and Networks in Russia // Ethnologia Europaea. 2000. N30. P. 31−44.
30 Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices. Berkeley: University of California Press, 1999. (Русский перевод: Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия русской личности. СПб.- М.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-ПетербургеЛетний сад, 2002. Книга вышла в рамках издания трудов.
Автор на основе анализа исторических источников и партийных инструкций показывает, как партийный дискурс в 1930;х, отражающий необходимость «индивидуального подхода» к членам партии, применяемого в партийных чистках, приводит к возникновению нового принципа оценки сознательности индивида — по его делам. При этом большевики использовали, возродив и видоизменив, православную «практику обличения» — то есть явление значимому коллективу героической личности посредством публичного обсуждения ее поступков и проступков. Однако личностью — подконтрольной и управляемой — должен был стать не только каждый коммунист, но и каждый простой советский человек. Поэтому эта практика «обличения себя» делами, ставшая средством сталинской «индивидуации"31, начала постепенно распространяться среди всего населения и принимать более «мирные формы» обсуждения человека коллективом (например, прием на работу, отчетно-перевыборные собрания и т. д.) Для представляемого диссертационного исследования было важно предположение, что эта практика обличения в поздний советский период начинает переходить в неформальную сферу, и мы можем выделить ее как составляющую празднования Дня рождения. Таким образом, предполагалось, что практика обличения определяет центральную роль Дня рождения в формировании личности советского и постсоветского человека.
В рассматриваемой работе была предложена также интересная интерпретация факта, подмеченного наблюдательными исследователями: в России, считающейся коллективистской страной, сразу после смены властного режима оказалось множество людей, демонстрирующих приверженность ценностям индивидуализма. Хархордин предлагает этому следующее объяснение. Часть советского населения была не только способна понять, но и готова принять ценности индивидуализма потому, что практики ф-та политических наук и социологии, вып. 5).
31 О. В. Хархордин предлагает различать «индивидуацию» и «индивидуализацию». Целью индивидуации является выделение индивида из первичной группы, вследствие чего появляется возможность каждому отдельному человеку приписывать ответственность за его собственные индивидуальные поступки. Этот процесс является основой индивидуализации, когда индивиды становятся способны на независимое поведение, включая работу по самосовершенствованию. См.: там же. Р. 164. индивидуализации уже подготовили для этого почву. Оригинальность исследовательской позиции состоит в том, что в работе анализируется не то, как и что люди говорили, а то, как Ф они делали себя личностью посредством тех же речевых актов и практик обличения и проявления себя в делах.
Выводы, полученные в рамках проведения опросов общественного мнения и осуществления академических программ по изучению социальных процессов в постперестроечный период и тенденций социальной идентификации личности в условиях общественного кризиса, дали возможность для сопоставления результатов диссертационного исследования, тем самым повышая их надежность и достоверность32.
Таким образом, несмотря на достаточно широкий спектр теорий и исследований, позволяющих научно осмыслить феномен праздника и формирование идентичности в праздничном контексте, социологическая перспектива в исследованиях неофициального праздника практически не была представлена. В данной работе предпринята попытка рассмотреть празднование Дня рождения — одного из наиболее популярных и значимых праздников постсоветского общества и в то же время наименее исследованного — как значимый фактор процесса формирования индивидуальной и коллективной идентичности в период трансформации российского общества.
Теоретические и методологические основания исследования.
Праздничный порядок — ожидание и подготовка к празднику и сам процесс празднования — рассматривается как квинтэссенция социальных отношений и социальных структур общества. Как следствие, праздничный порядок создает условия для «институциональной.
32 Социальная идентификация личности / Под ред. В. А. Ядова. М.: ИСРАН, 1993; Социальная идентификация личности — 2 / Под ред. В. А. Ядова. Книги 1, 2. М.: ИСРАН, 1994; Клямкин И. М. Историческая незавершенность советского человека // Этика успеха. Вып. I. ТюменьМосква: Центр прикл. этики, 1994. С. 27−32. рефлексивности"33 и является значимым фактором формирования представлений о себе и значимом коллективе. Празднование рассматривается как основанное на ритуале, под которым понимается последовательность и сочетание определенных закрепленных в культуре способов обращения с другими людьми, вещами, символами, своим телом, языком, временем и пространством, иначе практик?*. При этом в фокусе исследовательского внимания прежде всего находилось то, что люди делают и, затем, как они интерпретируют свои действия.
В диссертации был реализован комплексный подход, объединяющий теоретические и методологические достижения социологии, социальной антропологии, истории, социолингвистики. Организация такого рода исследования требует четкого представления о месте собственной дисциплины — социологии — в системе наук. Прежде всего, социология дает возможность посмотреть на явление как социально обусловленное, проследить взаимовлияние различных общественных процессов. В данной работе становление и развитие празднование Дня рождения рассматривается как один из таких социальных процессов. Смежные дисциплины дают возможность более глубокого понимания контекста изучаемого явления, изучить его отражения в языке, предлагают свой понятийный аппарат.
Очевидно, что праздник и ритуал как объект исследования наибольший интерес должен был вызвать и вызвал у исследователей-антропологов/этнографов, в связи с чем представляется уместным небольшой комментарий. Как отмечает С. В. Соколовский, опираясь на тематический анализ публикаций в центральном журнале советских/российских этнографов «Советская этнография» (с 1992 г. — «Этнографическое обозрение» с 1975 по 2000 г., «исследование праздников и праздничной обрядности всегда оставалось одной из центральных тем журнала"35. При этом большая часть статей была посвящена традиционной.
Понятие «институциональной рефлексивности» было предложено И. Гоффманом для анализа интерпретативных схем, формирующих тендер: Goffman Е. Frame Analysis of Gender // The Goffman Reader / Eds. Ch. Lemert, A. Branaman. Blackwell Publication, 1997. P. 201.
34 О концепции практик см.: Волков В. В. О концепции практик (и) в социальных науках // Социолог, исслед. 1997. № 6. С. 9−24.
35 Соколовский С. В. Стигматы архаизации: анализ праздника и анализ текста // Этнографическое обозрение.
14 обрядности, изучаемой в рамках структуралистского подхода36, который в таком «классическом варианте» плохо сочетается с конструктивистским подходом, выбранным автором в качестве методологической основы37. Поэтому, принимая во внимание достижения отечественных этнографов и исследователей традиционной культуры, в рамках диссертационной работы, защищаемой по социологической специальности, автор делает гыбор в пользу концепций праздника, разработанных в рамках социологии и социальной 4 антропологии в ее западном варианте. Для теоретической основы понимания социального значения рЙтуала, праздника и празднования были важны работы Р. Бокока, А. ван Геннепа, Э. Дюркгейма, К. Жигульского, Э. Лича, М. Мосса, В. Тернера. В структурно-функционалистской трактовке ритуала Дюркгейма подчеркивается, что в процессе празднования или совершения ритуала происходит установление и воспроизводство группы (клана), а также чувства принадлежности к ней. Из этого следует, что ритуалы могут быть лишены религиозного значения. В основе их сакральности — усиление чувства социальной идентификации38. Ранняя структурно-функционалистская трактовка ритуала была оспорена Э. Личем, предложившим рассмотрение ритуала из перспективы, центрированной на агенте и оставляющей возможность для внесения субъективных смыслов в ритуальный контекст39.
Предложенная Виктором Тэрнером концепция ритуального символизма соединяет функционалистские и герменевтические подходы и дает возможность для понимания того, как в ритуальном контексте формируется не только коллективная идентичность, но и индивидуальная. Эта концепция позволяет объяснить широкое распространение Дня рождения среди различных социальных групп. Ее ключевое положение заключается в том, что для объединения различных людей необходимо, чтобы ритуал и его центральные.
2002. № 2. С. 47.
36 Цит соч.- см. также: Соколовский С. В. Российская этнография в конце XX в. (библиометрическое исследование) // Этнографическое обозрение. 2003. № 1. С. 6−7.
37 В частности, этим обстоятельством обусловлен отказ от использования в работе понятия «традиция».
38 Эта теоретическая трактовка, предоставляющая возможность для исследования ритуалов в светской жизни, открыла в 1960;70-е годы новое предметное поле для антропологов. См.: Secular Ritual / Ed. by S. Moore, В. Myerhoff. Assen: Van Gorcum, 1977; Bocock R. Ritual in Industrial Society. A Sociological Analysis of Ritualism in Modern England. London: George Allen&Unwin Ltd, 1974.
39 Leach E. Ritual//International Encyclopedia of the Social Sciences /Ed. D. Sills. V.13. P. 520−526.
15 символы могли обозначать различные идеи и значения — как коллективные, так и субъективные40. > *.
Одним из важных концептуальных понятий в этом отношении является «ритуал перехода» (rite of passage) — термин, используемый А. ван Геннепом для описания ритуалов, которые маркируют изменение статусного положения индивида в группе и влияют на его самосознание41. Понятие «ритуал перехода» является релевантным для понимания того, как в современной культуре в процессе социализации и взросления происходит переход от одного статуса к другому, сопровождаемый трансформацией личности и обозначаемый празднованием Дня рождения.
Тэрнер, следуя за ван Геннепом, выделяет три последовательных стадии прохождения ритуала перехода: отделение, лиминальность и реинтеграция42. Отделение' подразумевает символическую смерть индивида или группы, вызванную началом движения от одного фиксированного положения в социальной структуре к другому. Когда разрыв совершен, индивид вступает в лиминальную стадию — промежуточное неопределенное состояние, необходимое, чтобы «очистить», освободить индивида от прежних статусных характеристик и приготовить его к перерождению в новую личность. На последней стадия — реинтеграции — индивид «возвращается» в общество в новом статусе.
Большой интерес, с точки зрения исследуемой темы, в том числе и методологический, представляет книга известного польского социолога, министра культуры ПНР К. Жигульского «Праздник и культура"43, в которой дан социологический анализ праздника и праздничной культуры и подчеркивается значение этого анализа «для развития научной дисциплины — как в целом, так и для специализированной социологии культуры"44. Праздник рассматривается автором как институт или механизм культуры. Как следствие, значительное место в книге занимают вопросы исторического изменения функций.
40 Turner V. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca, NJ: Cornell University Press, 1967.
41 van Gennepp A. The Rites of Passage. London: Routledge & Kegan Paul, 1960.
42 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983.
43 Жигульский К. Праздник и культура. М.: Прогресс, 1985. праздника и отражение этих изменений в его содержании и культуре. Изучение этих вопросов применительно к Дню рождения было важным и для данного исследования. Между тем в силу ограниченности функционалистского подхода в концепции праздника Жигульского не остается места человеку и его влиянию на характер празднования, личность рассматривается только в контексте участия в коллективной жизни.
В данной диссертационной работе также было важно сохранить возможность осмысления празднования Дня рождения в терминах «институционализация» и «социальный институт», но эти понятия трактовались в рамках иной теоретической перспективы. Под социальным институтом нами понимается исторически сложившийся набор устойчивых и распространенных социальных практик45. В социологических теориях более принято иное определение, например: «Институт — устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и статусов"46. Как представляется автору работы, эти определения не противоречат, а лишь дополняют друг друга. Понимание института как совокупности практик дает возможность для изучения того, как складываются «правила, принципы, нормы и установки» и как они воспроизводятся на уровне повседневности, что было важно в целях настоящего исследования. Тогда институционализация — это процесс «кристаллизации», объединения социальных практик в институт. Известный английский социолог Э. Гидденс выделяет следующие необходимые для этого условия: становление набора поддающихся артикуляции правил и наличие набора стратифицирующих ресурсов складывающегося института47. И правила, и ресурсы являются одновременно результатами и условиями воспроизводства института через типичные ситуации взаимодействия.
44 Там же. С. 20.
45 Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория. Новосибирск, 1995. С. 4072.
46 Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 21.
47 Гидденс Э. Элементы теории структурации. С. 54.
Более глубокое понимание того, как происходит этот процесс на микроуровне, как идентичность человека формируется в контексте праздничных взаимодействий, дает применение драматургического подхода И. Гоффмана48. Для того чтобы сформировать у своих партнеров по взаимодействию желаемое впечатление, человек, или «актер», использует различные средства и тем самым «исполняет» себя. При этом происходит манифестация идентичности человека. «Исполнение», включающее в себя установленный набор действий и подразумевающее использование связанных с данной ситуацией прав и обязанностей, Гоффман называет социальной ролью49. Роль именинника является на праздновании Дня рождения центральной и предоставляющей приоритет в формировании общего определения ситуации. Это находит свое выражение в негласном правиле российской культуры: «У меня сегодня День рождения, мне все можно». Гости должны быть готовы поддержать такую интерпретацию, создавая атмосферу принятия личности именинника. Поэтому подготовке слаженной команды «зрителей» — участников в праздновании Дня рождения — придается особое значение. При этом выборе значимого сообщества задействуются механизмы социальной идентификации личности.
Принимая социально заданный репертуар действий и приемов, актер (агент) может привносить в празднование субъективные смыслы. Общее понимание и согласованность социального взаимодействия основывается, прежде всего, на неявных интерпретативных схемах, или фреймах, которые имеют дело с нетрансформируемым опытом50. Но, с другой стороны, интеракция относительно автономна, ситуационные соглашения могут ослаблять структурные. Такое взаимосочетание объективных и субъективных структур объясняет возможность существования различных интерпретаций празднования, которые при этом остаются интерсубъективными, понятными всем.
48 Goffman Е. The Presentation of Self in Everyday Life. Harmondsworth: Penguin, 1990; русский перевод: Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Конон-Пресс-И, Кучково Поле, 2000.
49 Goffman Е. The Presentation of Self. P. 26−27.
50 Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row, 1974. P. 24.
Отношение человека к празднованию и участие в нем является как фактором, так и следствием формирования идентичности. Анализ этих процессов занимает важное место в представляемой диссертации. В эмпирических исследованиях, посвященных изучению идентичности, можно выделить два основных подхода. В центр внимания первого попадает формирование общностей и коллективов. Элементы такого осмысления идентичности преимущественно сохраняются в культуральной антропологии и в тех направлениях социологии, которые подчеркивают вопросы нормативной интеграции общества, например в работах теоретиков структурного функционализма Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. Как следствие, для этого подхода основополагающее понятие — «коллективная идентичность», под которой понимается осознание всеми членами группы принадлежности к данному сообществу и выстраивание на этой основе внутренних символических границ.
Второй подход, в рамках которого интерпретировалась и исследовалась идентичность в данной работе, также исходит из положения о конституирующей социальности человека. Однако в этом случае эта посылка не ведет к исследованию коллективной идентичности в соответствии с формами социализации. В центр рассмотрения здесь ставится индивидуальная идентичность — установление значимых ориентаций в жизни отдельного человека и осознание их в условиях индустриального общества. И уже как результат, во вторую очередь, рассматривается формирование социальных общностей. Действительно, если современность (modernity) понимать как отрицание всех определенностей, распространение скептицизма и сомнений в истинности знаний о мире, изменение значений социальных институтов, тогда сразу же встает вопрос о месте человека в этом мире и стабильности личности и, как следствие, проблема идентичности51. Точка зрения, в соответствии с которой человек должен сам конструировать свою идентичность, может быть также рассмотрена как характеристика современности.
51 Это положение подробно развивается Э. Гидденсом: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991.
В некоторых работах в рамках данного подхода идея непрерывности и согласованности личности начинает подвергаться сомнению. Личность трактуется как постоянно меняющаяся и нестабильная, что позволяет современному человеку приспособиться к новым жизненным ориентирам. Д. Келлнер указал на значимые различия между формами личности, зафиксированными в 1960;е гг. и в 1990;е гг. В более ранний период «нормативной целью современной (modern) личности была стабильная идентичность, при этом выбранная осознанно и свободно». В 1990;е гг. идентичность «становится свободно выбранной игрой, театральной представлением, в котором человек может играть различные роли, образы и выполнять различные действия, оставаясь относительно спокойным при смене декораций и драматических изменениях"52. Эта цитата, отсылающая к драматургической метафоре в работах И. Гоффмана53 и нашедшая свое подтверждение в эмпирических исследованиях54, позволяет предположить, что в современном социальном мире сосуществуют различные личностные формы и уровни идентичности.
Для изучения этих форм и уровней была полезна диспозиционная теория личности, представленная в работах В.А. Ядова55. В основу диспозиционной теории положено понятие «установки», состоящей из трех компонентов: когнитивного, который определяет представления и мнения об объекте (явлении) — аффективного, определяющего положительное или отрицательное отношение к объектуи поведенческого, обуславливающего готовность к определенному образу действий по отношению к объекту. В то же время установки личности складываются в определенную иерархическую «систему диспозиций», состоящую из четырех уровней. Первый уровень образуют элементарные.
52 Kellner D. Popular Culture and the Construction of Postmodern Identities // Modernity and Identity / Eds. S. Lash, J. Friedman Oxford: Blackwell, 1992. P. 157−158.
53 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000.
54 Например, исследование этнической идентичности и ее места в ряду других социальных идентичностей: Конструирование этничности / Под ред. В. Воронкова и И. Освальд. СПб: Дмитрий Буланин, 1998.
55 Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. М.: Наука, 1975. С. 89—105- Саморегулирование и прогнозирование социального поведения личности. JI.: Наука, 1979. установки, которые формируются на основе базовых потребностей и в простых ситуациях. Они усваиваются и закрепляются на основе предыдущего опыта, а также через подражание, в связи с чем часто не осознаются. Второй уровень представлен системой социальных установок, которые включают все три вышеназванных компонента. Социальные установки формируются на базе оценки отдельных социальных объектов и ситуаций, что уже предполагает осознанность индивидом своего отношения. Третий уровень — это базовые социальные установки, определяющие общую направленность активности личности. В то ' время как четвертый уровень представляет собой систему ценностных ориентации на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей, определенные социальными условиями жизни данного индивида.
Понимание «образа Я» как социальной установочной системы позволяет представить его структуру не как случайный набор компонентов, а как некоторую систему когнитивных, эмоциональных и поведенческих признаков, доступных эмпирическому изучению. Диспозиционная теория личности позволила перейти от описания интерпретаций информантов к анализу того, с каким уровнем социальных установок связано то или иное отношение к празднованию, как отношение к празднованию отражает формирование индивидуальной идентичности — иными словами, перейти от повседневного дискурса к аналитическому обобщению.
В работе также используются понятия субъективирующих и объективирующих практик, разработанные О. В. Хархординым для анализа становления личности и коллектива в советский период. В уже упоминавшейся выше книге Хархордин проводит различение между объективирующими и субъективирующими практиками формирования личности и коллектива. Так, например, в формировании личности субъективирующими практиками является то, как индивид делает себя субъектом познания и действия, а объективирующими практиками — то, как индивид становится объектом познания и воздействия. При этом в основе методологической позиции была ориентация на анализ действий людей, что также определяло дизайн и стратегию данного исследования.
Интерпретация данных диссертационного исследования основывается также на работах по социологии личности и социальной психологии (И.С. Кон, Г. М. Андреева)56, возрастной психологии и психологии развития (Г.С. Абрамова, Л. И. Божович, И. С. Кон, Г. Крайг, Э. Эриксон)57.
Целью исследования является изучение феномена празднования Дня рождения и его значения для формирования индивидуальной и коллективной идентичности в советской и постсоветской российской действительности. Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
— реконструировать социальную историю становления и развития празднования Дня рождения в России;
— представить анализ ритуала празднования через составляющие его субъективирующие и объективирующие практики и их роли в формировании идентичности;
— выделить и представить аналитическое описание интерпретаций празднования Дня рождения, разделяемых представителями исследуемого сообщества.
Объектом исследования являются практики празднования Дня рождения, предметом — формирование индивидуальной и коллективной идентичности.
Методы исследования. Стратегия исследования состояла в том, чтобы сосредоточить внимание на процессе появления и развития Дня рождения. Такая поисковая стратегия потребовала изучения субъективной стороны указанных процессов и раскрытия.
56 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2001; Кон И. С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967; Кон И. С. Открытие «Я». М.: Политиздат, 1978.
57 Абрамова Г. С. Возрастная психология. М.: Академический проект, 2001; Кон И. С. Психология ранней юностиКрейг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2002. скрытых субъективных смыслов и механизмов функционирования практик, составляющих ритуал празднования. Поэтому исследование проводилось в рамках качественной методологии с применением следующих основных методов сбора информации и анализа данных: метод интервью, метод включенного наблюдения и дискурсивный анализ. Сочетание различных методов позволило сопоставить полученные из разных источников данные, тем самым увеличивая их достоверность.
Метод интервью. В рамках диссертационного проекта исследовательницей было проведено 27 лейтмотивных полу структурированных интервью с информантами разного возраста (19−87 лет) и разного образовательного статуса (с преобладанием информантов с высшим образованием).
Поиск информантов осуществлялся через сеть знакомых и информантов. Значимыми критериями для выбора информантов были следующие характеристики: возраст, пол, образование, семейный статус, характер профессиональной деятельности. Формирование качественной выборки производилось согласно принципу теоретического насыщения58. Это означает, что исследователь проводит интервью с информантами, обладающими значимыми для исследования характеристиками (пол, возраст, образование, семейное положение, профессия), до тех пор, пока новый материал не начинает повторять уже собранный. Иными словами, до того момента, когда на время проведения исследования в теоретически интересующем образце зафиксированы все важнейшие варианты. Для того чтобы обеспечить максимальную вариацию случаев, транскрипция и интерпретация материала проводилась в несколько этапов по ходу сбора интервью.
Интервью проводились в форме биографического повествования, так как именно такая форма делает наиболее доступным изучение «процессуальности социальной жизни"59 — того, как в зависимости от различных социальных условий происходило изменение.
58 Glaser В., Strauss A.L. The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. New York: AldineBertaux D. Note on the Use of the Life-History Approach to Study a Whole Sector of Production: The Artisanal Bakery in France (цит. по: Фукс-Хайнритц В. Биографический метод // Биографический метод: история, методология, практика. М.: ИСАН, 1994. С. 23—24. мнений и отношения к празднованию Дня рождения. Лейтмотивом повествования было описание опыта участия в праздновании Дня рождения. С целью сопоставления полученных данных интервью были полуструктурированными. Информантам предлагалось ответить на ряд вопросов путеводителя, разработанного на основе пяти пилотажных неструктурированных интервью, в то же время формулировка многих вопросов и их последовательность оставались свободными. Путеводитель включал следующие тематические блоки: биографическая частьвопросы о семейных традициях, организации и правилах празднованиявопросы, раскрывающие отношение к празднованию своего Дня рождения и Дня рождения других людейсравнение отношения к празднику в различные периоды жизненного циклавопросы о характере изменений в праздновании за последние десять лет. Длительность каждого интервью составляла в среднем 1,5 часа. В большинстве случаев интервью проводились дома у информантов и зачастую сопровождались показом иллюстрирующих рассказ фотографий, при наличии таковых.
Надежность и достоверность информации обеспечивалась посредством сопоставления высказываний с реальными фактами и документальными свидетельствами, касающимися биографической ситуации информантавыявления противоречий в высказываниях одного и того же информанта или разных источников информациисравнения полученных данных с данными количественных исследований и другими источниками информации, позволяющими выявить те культурологические особенности социализации информанта, которые могли бы повлиять на интерпретацию фактов60.
Анализ интервью позволил дополнить информацию, необходимую для реконструкции социальной истории становления и развития празднования Дня рождения, а также позволил получить нарративные описания практик празднования и раскрыть их значения.
59 Фукс-Хайнритц В. Биографический метод. С. 18.
60 Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998. С. 190−191.
Метод наблюдения был важен на подготовительной стадии исследования, во время которой велись заметки об участии в некоторых празднованиях и осмыслялся свой собственный повседневный опыт. Впоследствии метод наблюдения был использован как дополнительный, позволяющий получить более корректную интерпретацию данных. В качестве основного метод не применялся по этическим соображениям: быть наблюдателем, пусть даже участвующим, на Днях рождения у близких людей показалось автору задачей тяжелой, безрадостной и несколько циничной. В то же время осознание подобного отношения помогло осмыслить опыт предыдущих празднований (который присущ автору как исследователю своей же культуры) и свои интерпретации, чтобы по возможности не накладывать их на интерпретации информантов.
Метод дискурсивного анализа применялся для анализа текстов интервью, официальных и неофициальных документов. Анализ проводился с помощью методики Д. Силвермана, разработанной на основе методологических положений X. Сакса61. Авторы этой методики исходят из положений социального конструктивизма о том, что речь и язык являются отражением социальной реальности. Из этого следует, что, расшифровывая и анализируя текст и содержащиеся в нем описания реальности, можно понять основы социального взаимодействия. Данная методика основывается на следующих понятийных составляющих: категории, их классификация и согласованность (consistency), связанные с категорией действия и стандартизованные пары отношений.
Под категорией понимается набор приписываемых человеку или явлению на уровне повседневного знания характеристик, которые отражают восприятие этого человека или явления. Силверман приводит следующий пример62. Мы можем описать одну и ту же женщину и как красивую блондинку, имеющую пятилетнего ребенка и как 32-летнего опытного преподавателя. Таким образом, описания-характеристики людей преимущественно сводятся к той или иной социальной идентичности.
61 Silverman D. Interpreting Qualitative Date: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. SAGE Publications,.
Приписываемая идентичность может быть рассмотрена как категория, подчиненная по отношению к другой, более широкой, категории. Так, собирательная категория «праздник» может включать и празднование Нового года, и Дня рождения, и 9 Мая. В приведенном выше примере мы можем рассматривать категорию «мама» в зависимости от контекста как составляющую собирательной категории «семья». Соответственно, категория «преподаватель» из второго описания является одной из профессиональных идентичностей. Эта подчинительная связь лежит в основе классификации категорий.
Употребление категорий носит согласованный характер. Это значит, что в своем повествовании информант придерживается определенной логики и использует категории в рамках одного смыслового блока. Например, в текстах поздравительных открыток большинство категорий составляют смысловой блок «пожелания», или, в социологическом смысле, набор ценных, с точки зрения адресата, качеств и свойств личности. То есть использование категории «здоровье» в данном случае будет означать то, что автор поздравительного текста желает своему адресату хорошего самочувствия, а не оценивает его состояние здоровья и не ставит ему медицинский диагноз. Иными словами, выделение собирательной категории задает рамки интерпретации нарратива, и составляющие подчиненные категории должны соответствовать заданному смысловому пространству.
Следующий шаг анализа — выделение связанных с категориями способов действия. Мы «знаем», как обычно себя ведет и что делает человек. Мы знаем, как должен вести себя именинник (например, приготовить угощение) и что должны делать на праздновании Дня рождения гости (поздравить виновника торжества, то есть сказать хорошие слова и подарить подарок). На основании этого повседневного знания описываемой ситуации дается оценка происходящему. При анализе текста исследователь исходит из того, что информант (явно или неявно) оценивает, насколько действия тех или иных лиц соответствуют выбранным категориям и связанным с ними характеристиками. Деятельности людей, не.
1993. Р. 80−84. соответствующей их социальной идентичности, т. е. не отвечающей нормативным ожиданиям, может быть дана негативная моральная оценка. Например, если молодую девушку на словах поздравил с днем рождения «однокурсник» и ничего ей не подарил, то это может не повлечь со стороны рассказчицы негативной оценки, а даже может быть проинтерпретировано как знак внимания, если однокурсник — «просто знакомый». В случае, если этот однокурсник — «жених» этой девушки, то подобное ничем не подкрепленное поздравление может вызвать обиду и быть расценено как равнодушие со стороны молодого человека. В данном случае Сакс не рассматривает нормы как описание причин действий. Предметом его анализа становится то, как нормы используются для осмысления происходящего и придания ему некоторой упорядоченности63.
Кроме того, приведенный пример также демонстрирует, что употребляемые в нарративе категории могут использоваться для объяснения и оценки деятельности, в которую вступают люди. Описание действующих лиц в категориях «жених» — «невеста» предполагает определенный романтический характер их взаимоотношений (свидания, подчеркнутые знаки внимания друг другу и т. д.), предшествующий вступлению в брак. Такие пары категорий называются стандартизованные пары отношений.
Анализ моральных оценок, с социологической точки зрения, является самым значимым, так как позволяет выявить правила организации повседневности. Так, использование данной методики в работе позволило выявить главные этапы празднования Дня рождения и его составляющие (Глава 2).
Эмпирическую базу исследования составили три основных блока материалов: официальные документы, личные свидетельства и личные документы.
Первый блок материалов — официальные документы — составили методические рекомендации по организации и проведению праздников и опубликованные в советское.
62 Ibid. р. 81.
63 Цит. по: ibid. Р. 82. время литературные произведения с описанием празднования Дня рождения. Представленный в методических рекомендациях идеологический дискурс посредством «официальных номинаций» (П. Бурдье) задавал рамки восприятия того, какое событие можно считать праздником, а какое нет. Дискурсивный анализ этих материалов позволил реконструировать государственную версию праздника и ее изменения. Литературно-художественные произведения были отнесены к данному блоку материалов, так как их издание было возможно только при условии соответствия цензурным требованиям и канонам соцреализма. В них мы можем найти свидетельства формирования дискурса «неофициального праздника».
Второй блок — личные свидетельства — представлен преимущественно текстовыми записями интервью. Основную часть данного документального массива составляют 27 интервью, проведенные исследовательницей в 1999 — 2000 годах в рамках диссертационного проекта. Кроме того, в работе были использованы 29 интервью проектов «Формирование этнических общин в Санкт-Петербурге и Берлине"64, «Организация повседневности и воспроизводство социальной структуры в России (на примере Санкт-Петербурга)"63 и «» Старые» и «новые» ленинградцы"66. Интервью в этих проектах проводились в целях, отличных от цели данного исследования, тем не менее в них поднималась в разной степени тема праздников, что позволило дополнить собранный автором материал и проверить полноту типологии интерпретаций.
Кроме того, были использованы материалы сайта «Академия подарка» — воспоминания и рассказы о ситуациях дарения67. На сайте представлен интереснейший материал. Но, к сожалению, в большинстве случаев сложно определить возраст автора повествования и точное время, когда происходило описываемое событие, что лишает.
64 Совместный проект Центра независимых социологических исследований и Института Восточной Европы Свободного университета Берлина.
65 Совместный проект Центра независимых социологических исследований и Университета Магдебурга. Я благодарю коллег из ЦНСИ за возможность использования материалов проекта.
66 Подпроект М. Витухновской, входящий в проект «Ценности, норма и перелом в СССР в 1920 — 1950;е гг.», Ренвалл институт, Хельсинки. Избранные интервью этого проекта были опубликованы: На корме времени: материал той степени надежности и достоверности, которая требуется в социологическом исследовании, но оставляет возможность для его использования как дополнительного.
Третий блок включает личные документы — свыше 800 поздравительных открыток как из семейных архивов, так и из коллекции отдела эстампов Национальной публичной библиотеки, датированных 1907;2001 годами. Материал отбирался диссертанткой в течение 1999;2000 годов как дополнительный для диссертационного исследования. Дореволюционные открытки и тексты поздравлений (74 текста) были привлечены в качестве сравнительного материала для современных поздравительных текстов, что позволило по-новому взглянуть на имеющийся материал и отследить изменения в форме письменных поздравлений и пересылки сообщений.
Границы исследования. Исследование проводилось в традиции качественной методологии, в связи с чем полученные результаты не претендуют на выявление количественных характеристик изучаемого объекта. Выводы о широком характере празднования не могут быть распространены на все население в связи с социальными характеристиками информантов, большинство из которых имеют высшее образование. Кроме того, интервью проводились с жителями Санкт-Петербурга, что делает необходимым учитывать специфику влияния большого города. Выбор временных рамок исследования, охватывающих советский период с 1917 года и постсоветский по 2001 год, обусловлен задачей изучить генезис празднования Дня рождения и его значений. Принимая во внимание некоторые важные для работы взаимосвязи между дореволюционным Днем ангела (именины) и советским Днем рождения, в исторической части дано краткое описание праздничного дореволюционного календаря на основе интервью с представителями старшего поколения и опубликованных воспоминаний.
Интервью с ленинградцами 1930;х гг/ Под общ. ред. М.Витухновской. СПб.: Журн. «Нева», 2000.
67 www.acapod.ru.
Научная новизна диссертационной работы. К особенностям представляемого исследования, свидетельствующим о его научной новизне, можно отнести следующее:
— впервые с социологической точки зрения исследуется один из самых популярных праздников российской городской культуры — День рождения, а также обращается внимание на феномен широкого распространения его празднования среди населения современной России;
— к изучению негосударственного, личного праздника применен комплексный подход, объединяющий методологические и методические принципы социологии, антропологии, социальной истории и социолингвистики, что позволило представить становление и развитие празднования Дня рождения в социальной динамике;
— предложенный в работе анализ ритуала празднования через анализ значений составляющих его практик позволил обратиться к изучению повседневной жизни людей и выйти на этом уровне на те механизмы формирования идентичности, которые в большинстве случаев не попадают в поле зрения исследователя. В работе представлен анализ важнейших современных механизмов конструирования личностной и коллективной идентичности, которые выявляет День рождения — анализ практик коллективной оценки личности и формирования солидарности;
— на основе анализа собранных материалов построена типология интерпретации празднования со стороны именинника и гостей;
— авторское эмпирическое исследование проведено с использованием такого нетрадиционного для отечественной социологии документального массива, как поздравительные открытки и литературные произведения, которые позволили дополнить полученную из других источников информацию и реконструировать недокументированную ранее историю и основные этапы становления празднования Дня рождения;
— на примере празднования Дня рождения раскрыта специфика неофициального, личного праздника в современной городской культуре трансформирующегося российского общества, а именно — личный праздник через усиление чувства принадлежности к малым группам и коллективам способствует социальной интеграции вовлеченных в празднование людей.
Научная и практическая значимость работы. Исследование может способствовать расширению теоретико-методологической базы социологических исследований. Собранный и систематизированный в диссертации материал и основные выводы работы могут быть использованы при разработке учебных курсов и пособий по социологии культуры, социальной антропологии, социальной психологии, качественным методам социологического исследования и спецкурсов по истории и социологии повседневности советского и постсоветского общества. Анализ представленного материала, полученного качественными методами, может служить источником гипотез для количественных исследований, посвященных изучению формирования идентичности.
Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования изложены в опубликованных научных статьях автора и выступлениях на российских и международных конференциях и семинарах: аспирантские семинары факультета политический наук и социологии ЕУСПб 1999;2000 гг. (Санкт-Петербург) — «Советская и постсоветская цивилизации» (Карья, Финляндия, 2000 г.) — VI Всемирный конгресс исследований Центральной и Восточной Европы (Тампере, Финляндия, 2000 г.) — «Гендер: язык, культура, коммуникация» (Московский государственный лингвистический университет, Москва, 2001 г.) — V Региональный семинар по исследованию тендера и культуры (Будапешт, Венгрия, 2001 г.) — Международная конференция «Настоящее прошлого. Трансформация и осмысление прошлого в Восточной и Центральной Европе» (Берлин, Германия, 2002 г.).
Материалы диссертации были использованы при подготовке учебного курса «Качественные методы социологического исследования», прочитанного диссертанткой в * 1999/2000 учебном году в СПбГПУ им Герцена.
Эмпирическая часть исследования поддержана Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса, программа RSS, грант № 1615/2000).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав с изложением результатов исследования, заключения, списка использованной в работе литературы и приложений.
Выводы.
Анализ интервью показывает, что в празднование Дня рождения люди вовлекаются независимо от жизненного цикла. Однако каждый человек, празднуя День рождения, интерпретирует этот праздник по-своему. На основе анализа текстов интервью были выделены наиболее распространенные интерпретации Дня рождения.
В детстве и юности День рождения является одним из самых любимых праздников, который связывается с долгожданными подарками и особым вниманием со стороны близких и друзей. Позже появляется представление о Дне рождения как о личном празднике, когда имениннику важно знать, что о нем думают близкие люди и как они его воспринимают. Именинник/ца в этом случае лично заинтересован/а в праздновании, следствием чего является принятие на себя роли как организатора, так и инициатора.
Когда личность уже сформирована и постоянная оценка окружающих теряет значение, в то время как круг общения становится постоянным и за ним признается особая значимость, День рождения воспринимается как повод для встречи друзей или как дань коллективу. Именинник, как правило, играет роль организатора, тогда как инициатором празднования выступает группа.
Выбирая значимую для себя группу, индивид выбирает и роли, с ней связанные, например «ответственная сотрудница», «руководитель», «творческий работник» или семейные роли. Празднование юбилеев связано, прежде всего, с профессиональным коллективом и сопровождается групповым признанием успешности ролей, подводит итог достигнутому. Кроме того, группа, объединяясь в праздновании юбилея, формирует и подтверждает свои границы. Поэтому пример юбилея является яркой демонстрацией взаимозависимости формирования индивидуальной и коллективной идентичности.
В том случае, если знание о себе не меняется или если значимый коллектив распадается, День рождения теряет свою ценность, и именинник становится безынициативным участником праздника, организованного другими. Так появляется форма дня рождения, характерная для пожилых людей — День рождения по инерции.
Анализ интерпретаций со стороны именинника показывает, что за исключением только одного случая — детского Дня рождения — именинник сознательно подходит к организации празднования или отказу от него. Детский день рождения представляет собой важный контекст социализации. Он организуется родителями, которые вырабатывают у ребенка не только навыки социального поведения — как себя вести за столом, как принимать гостей, но и отношение к Дню рождения, к себе как к имениннику.
Этот процесс становления личности ребенка и сознательной смены интерпретаций празднования может быть рассмотрен в рамках концепции личности В. А. Ядова, которая может быть применена как инструмент для типологизации результатов социализации. Согласно этой концепции, диспозиционная структура личности основывается на базовом уровне обобщенных социальных установок, который опосредует высший уровень ценностных ориентаций и низший уровень ситуативных установок. Поэтому формирование уровня обобщенных социальных установок можно считать своего рода индикатором формирования личности.
Без наработки обобщенных социальных установок человек не может предложить другим свой проект определения ситуации и быть успешным в презентации себя, а значит не может выйти из-под влияния среды социализирующей его общности. Критерием развития личности у ребенка и подростка является способность преодолевать сопротивление взрослых и социума. Только наработка необходимых социальных установок может дать человеку основу для формирования самосознания, помочь ему стать субъектом социализации и сделать среду контекстом развития субъективности. Все это является характеристиками именинника, интерпретирующего свой День рождения как «личный праздник». То есть если интерпретация «детский праздник» свидетельствует о формировании системы ситуативных и общих социальных установок, то интерпретация празднования Дня рождения как «личного праздника» говорит нам о том, что процесс наработки необходимых социальных установок завершен. Если мы продолжим эти рассуждения в заданном направлении, то придем к выводу, что интерпретация Дня рождения как «встречи», необходимым условием которой является выбор именинником значимого коллектива и поддержание своей коллективной идентичности, является свидетельством взаимодействия системы социальных установок и высшего уровня ценностных ориентаций. Таким образом, интерпретация празднования Дня рождения может рассматриваться как уровень личностного развития и «состояния» диспозиционной структуры личности.
Рассмотрение интерпретаций со стороны сообщества показывает, что празднование дня рождения воспринимается также и как значимый контекст формирования коллективной идентичности. Для родителей детский День рождения является ареной воспроизводства семейной солидарности. Для друзей День рождения одного из принадлежащих к узкому кругу означает возможность встретиться, подтвердить свою коллективную идентичность. В период, когда происходит формирование личности, День рождения сверстников рассматривается как возможность найти этот узкий круг близких людей. Анализ интервью демонстрирует, что участие в праздновании Дня рождения близких или значимых людей становится нормативным и зачастую воспринимается как долг.
Иными словами, празднованию придаются различные интерсубъективные значения. Некоторые из них связаны с официальным дискурсом и закреплены социально: субъективация и объективация семейного коллектива, объективация личности через ее оценку другими, свидетельство социальной компетентности по прошествии определенного количества лет, переход в другую возрастную категорию. В любом случае, все интерпретации связаны с формированием индивидуальной или коллективной идентичности. В зависимости от того, актуализация какой идентичности более важна для именинника или сообщества, центральными становятся разные группы практик.
Заключение
.
В заключение остановимся на специфике методологического подхода, обосновании темы исследования и основных выводах. Анализируя позволяющие осмыслить социальные изменения социологические теории, известный польский социолог Петр Штомпка обращает внимание на процессуальный характер общества и рассматривает его как «многоуровневое, внутренне связанное направление процессов"206. Эмпирическое исследование определенных социальных процессов позволяет получить более полную картину развития общества. Как представляется автору работы, одним из таких ключевых процессов, отражающих становление советского общества и его изменения в постсоветский период, является становление и развитие празднования Дня рождения в России. Этот праздник явился своего рода цементирующим основанием российского общества в период быстрых социальных изменений, предоставив в качестве основы для формирования самоидентичности и солидарности пронизывающую весь год череду празднований Дней рождения — своего, членов семьи и родственников, детей и родителей, коллег по работе и друзей, одноклассников и однокурсников, знакомых и приятелей.
Для того чтобы понять особенности влияния этого празднования на человека, в работе была предпринята попытка реконструировать историю становления и развития этого празднования. Анализ интервью, методических указаний по организации советских праздников, текстов поздравительных открыток, художественной литературы позволил прийти к выводу о том, что современный российский День рождения не имеет прямой преемственности с дореволюционной традицией аналогичного праздника. Широкое распространение празднования Дня рождения в России и приписывание ему статуса значимого события является советским феноменом. До революции этот праздник был распространен преимущественно среди городской интеллигенции, в советское время День.
206 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 86. рождения праздновался во всех социальных слоях, что рассматривается в работе как следствие таких взаимосвязанных социальных процессов, как модернизация, урбанизация и индивидуализация.
Становление советской традиции празднования пришлось на 1930;е годы и было связано с социальными изменениями и становлением следующих социальных институтов: возвращение к «традиционным ценностям» и реабилитация семьи, секуляризация советской культуры и перенос значений с дореволюционных праздников на «новые», паспортизация населения и поздравительные кампании в честь лидеров страны. Распространение празднования Дня рождения, судя по материалам исследования, среди всех социальных городских слоев приходится на 1950;70-е годы как следствие объединения в ритуале празднования практик, наделяемых различными значениями. Когда процесс взросления начинает рассматриваться в советском обществе как форма социальной мобильности, а наступление определенных возрастов выделяется государством в систему регулирования жизненного цикла, начинается процесс институционализации Дня рождения, и ему придается значение ритуала перехода, маркирующего изменение статусного состояния.
При этом за исключением совершеннолетия и ритуала вручения гражданского паспорта, празднование в советское время не разрабатывалось ритуальными специалистами. То есть, в отличие от других праздников, ставших популярными в советский период (1 Мая, Новый год и т. д.), в данном случае не было государственного регулирования — разработанной символики и методических руководств по организации празднования. Популярность Дня рождения — праздника личности — сформировалась на уровне повседневности как своеобразная, скрытая форма сопротивления доминирующей коллективизирующей идеологии советского периода, которая в то же время вобрала в себя любимые многими советскими людьми солидаризирующие механизмы, связанные с праздничным застольем.
Это сочетание коллективности и акцентуации личности и обуславливает своеобразие Дня рождение в ряду других праздников советского и постсоветского периодов. В диссертации на основе анализа интервью представлена авторская типология интерпретаций празднования Дня рождения со стороны именинника и сообщества. Анализ интервью позволил также выделить основные механизмы формирования идентичности, задействованные в праздновании. Ритуал празднования в советском и постсоветском обществе включает центральные субъективирующие и объективирующие практики формирования личности и коллектива: выстраивание рефлексивного проекта личности во время подготовки, практики коллективной оценки личности и практики солидарности. В зависимости от того, формирование и подтверждение какого аспекта социальной идентичности — индивидуального или коллективного — более важно для именинника или сообщества, центральными в праздновании становятся разные группы практик. Так, в случае воспроизводства коллективной идентичности (интерпретации «встреча», «юбилей», «родительский день») прежде всего будут важны практики коллективной солидарности. А если для индивида на определенном этапе более важно формирование личности или то, как он воспринимается в глазах значимых других (интерпретации «детский праздник», «личный праздник», «юбилей»), то конституирующими празднование и задающими основы интерпретации будут объективирующие практики коллективной оценки личности, которые подводят итог и приводят в соответствие с представлениями значимого сообщества образ «Я». Кроме того, субъективные интерпретации Дня рождения могут рассматриваться как индикатор личностного развития и социальной интегрированности.
Таким образом, как было показано, празднованию придаются различные интерсубъективные значения. Некоторые из них связаны с официальным дискурсом и закреплены социально: субъективация и объективация семейного коллектива, объективация личности через ее оценку другими, свидетельство социальной компетентности по прошествии определенного количества лет, переход в другую социально-возрастную статусную группу. В любом случае, все интерпретации связаны с формированием индивидуальной или коллективной идентичности, и праздничный контекст выступает как значимый в формировании названных срезов социальной идентичности.
Широкое распространение празднования Дня рождения обусловлено тем, что оно соединяет в себе значения, закрепленные социально, и смыслы, вносимые лично. Значимость, которая придается празднованию, а также характерный для данного празднования широкий набор субъективирующих и объективирующих практик, определяет культурную устойчивость празднования Дня рождения, которая объясняет его относительную независимость от социальных трансформаций постсоветского периода.
В то же время исследование обращает внимание на роль праздников в эпоху социальных изменений. В обществах, испытывающих серьезные социальные изменения и, как следствие, кризис институциональной системы, праздники и ритуалы фактически выполняют функции социальных институтов, являются средством социальной интеграции и социальной мобильности. Неофициальные праздники приобретают в переходный постсоветский период большее значение на фоне вытеснения бывших советских праздников и еще не сложившихся представлений о новых государственных, следствием чего является «дефицит» объединяющих символов и ритуалов. Широкая, конкурирующая с государственными праздниками популярность Дня рождения в постсоветское время обусловлена тем, что празднование Дня рождения, сохраняя советский ритуал, объединяет в себе различные смыслы и значения, в том числе формирование солидарности, что характерно для бывших советских праздников.
Список литературы
- Абрамова Г. С. Возрастная психология. — М.: Академический проект, 2001. — 704 с.
- Абульханова-Славская К.А., Гордиенко Е. В. Представления личности об отношении к ней значимых других // Психол. журн. — 2001. Том 22. — № 5. — С. 38—47.
- Адоньева С.Б. История современной новогодней традиции // Мифология и повседневность. Вып.2. Материалы науч. конф. 24−26 февраля 1999 года. СПб: Ин-т рус. лит-ры РАН, 1999. — С. 368−388.
- Андреева F.M. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. — М.: Аспект Пресс, 2001. 378 с.
- Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. — 240 с.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1990. — 543 с.
- Белицкий Я. М, Глезер Л. Н. О чем поведала открытка. М.: Связь, 1978. — 104 с.
- Бекина С.И. Методические указания к проведению праздничных утренников в детском саду // Праздники в детском саду / Общ.ред. Э. В. Соболевой. М.: Просвещение, 1976.-С. 3−18.
- Беньямин В. Москва // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: МЕДИУМ, 1996. — С. 163−209.
- Ю.Бергер П., Лукман П. Социальное конструирование реальности. — М.: Медиум, 1996.-323 с.
- Блинова Г. П, Социальная роль советских гражданских обрядов. — М.: Сов. Россия, 1985.-88 с.
- Божович Л.И. Избранные психологические труды. — М.: Межд. педагог, академия, 1995.-212 с.
- Бочаров В.В. Антропология возраста. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2001. — 196 с.
- Виссон JI. Чужие и близкие в русско-американских браках. — М.: Валент, 1999. — 208 с.
- Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. Пер. с англ. М.: Р. Валент, 2003. — 192 стр.
- Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. — М.: О.Г.И., 1998.-432 с.
- Волков В.В. Концепция культурности, 1935 38 годы: Советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социол. журн. — 1996. — №½. — С. 194—214.
- Волков В.В. О концепции практик(и) в социальных науках // Социол. исслед. — 1997.-№ 6.-С. 9−24.
- Волков Ю.Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д. и др. Социология молодежи: уч. пособие. Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. — 576 с.
- Всесоюзная перепись населения 1939 г.: Основные итоги / Под ред. Ю. А. Полякова. М.: Наука, 1992. — С. 39−40.
- Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас / Пер. и ред. А. Леденовой. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. С. 40−72.
- Глебкин В. Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К, 1998. — 167 с.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. — М.: Конон-Пресс-И, Кучково Поле, 2000. 304с.
- Данилова Е.Н. Изменения в социальных идентификациях россиян // Социол. журн.- 2000. № ¾. — С. 76−86.
- Душечкина Е.В. История и мифология русской новогодней елки // Живая старина.- 1999.-№ 1 (21).-С. 14−15.
- Жигульский К. Праздник и культура. М.: Прогресс, 1985. — 336 с.
- Евгеньев Б. День рождения // Евгеньев Б. День рождения. М.: Сов. писатель, 1963.-С. 158−198.
- Евгеньев Б. Юбилей // Евгеньев Б. День рождения. М.: Сов. писатель, 1963. — С.3−43.
- Евдокимов Н. День рождения // Евдокимов Н. День рождения. М.: Сов. писатель, 1968.-С. 160−183.
- Емельянов Ю.Н. Введение в культурантропологию: уч.пособие. — СПб.: СПбГУ, 1992.-64 с.
- Задонский Н. День рождения. Комедия в 4-х действиях. Воронеж: Воронеж, обл. книгоиздательство, 1939. — 50 с.
- Здравомыслова Е.А., Темкина А. А. Октябрьские демонстрации в России: от государственного праздника к акции протеста // Сфинкс, Петерб. филос. журн. — 1994.— № 2. С. 76−98.
- Золотоносов М. Гербарий праздников советских // Новый мир искусства. — 1998. — № 1. С. 42—46.
- Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. — М.: РОССПЕН, 1999.-229 с.
- Иванов Е.В. Новый год и Рождество в открытках. — СПб.: Искусство-СПб, 2000. — 335 с.
- Иванова Т.А. День рождения, день ангела именины // Русская речь. — 1997. — № 6. — С. 27−34.
- Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ. 1917−1996 гг.: Опыт конструктивистско-структуралистского анализа. — Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, Институт социологии РАН, 1996. — 349 с.
- Ильин В.И. Подарок как социальный феномен // Рубеж. — 2001. — № 16—17. — С. 140−157.
- Ионин Л.Г. Социология культуры. — М.: Логос, 1996. 280 с.
- Исследования сознания и ценностного мира советских людей в период перестройки общества. Информационные материалы. Вып.8. — М.: ИСАИ СССР, 1990.
- Карпова Г. Г. Праздник в контексте социальных изменений. Автореферат на соискание уч. ст. кандидата социол. наук. — Саратов, 2001. 18 с.
- Касьянова К. О русском национальном характере. М.: Ин-т нац. модели экономики, 1994. — 367 с.
- Келлер Е.Э. Праздничная культура Петербурга: Очерки истории. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001. 320 с.
- Кирилина А.В. Тендер: лингвистические аспекты. М.: ИСРАН, 1999. — 190 с.
- Клямкин И.М. Историческая незавершенность советского человека // Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов, ЛПР. Вып.1. — Тюмень- Москва: Центр прикладной этики, 1994. С. 27−32.
- Клямкин И.М. Ценности профессионализма в сознании постсоветского человека // Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов, ЛПР. Вып.З. Тюмень- Москва: Центр прикладной этики, 1994. — С. 125−140.
- Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). — М.: ИФРАН, 1996.-217 с.
- Комболин Ю. Поздравительная открытка в России. — СПб.: Торговый дом Константин, 1994. 192 с.
- Кон И.С. В поисках себя. М.: Изд-во полит, лит-ры, 1984. — 335 с.
- Кон И. С. Дружба: Этико-психологический очерк. М.: Политздат, 1989. — 350 с.
- Кон И. С. Открытие «Я». М.: Политиздат, 1978. — 367 с.
- Кон И. С. Психология ранней юности. — М.: Просвещение, 1984. 255 с.
- Конструирование этничности / Под ред. В. Воронкова и И. Освальд. — СПб: Дмитрий Буланин, 1998. 303 с.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. — М.: Изд-во полит, лит-ры, 1983.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. — М.: Изд-во полит, лит-ры, 1984.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 10. — М.: Изд-во полит, лит-ры, 1986.
- Крейг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2002. — 992 с.
- Кулаева С.И., Смирнова, Э.М., Паластина, С. Я. Советские семейные обряды. — М.: Общество «Знание», 1977. 40 с.
- Лавренев Б. День рождения // Лавренев, Б. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 3. М.: Худ. лит., 1982.-С. 419−442.
- Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920−1930 годы. СПб.: Журн. «Нева» — Издат.-торгов. дом «Летний сад», 1999. — 320 с.
- Логинов К.К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. — Петрозаводск: КНЦ РАН, 1993. С. 64−65.
- Магун B.C., Литвинцева А. З. Жизненные притязания ранней юности и стратегии их реализации: 90-е и 80-е годы. М.: ИСРАН, Центр социологии образования Российской академии образования. — 61 с.
- Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. — М.: Наука, 1978. — 392 с.
- Мандельштам Н.Н. Очередные вопросы культурного строительства. Переработанная и дополненная стенограмма доклада на 1 объединенном пленуме МК и МКК ВКП (б) (апрель 1928 г.). М.-Л.: Московский рабочий, 1928. — 62 с.
- Маринии Ю.Н. Речекомплекс «поздравления» (на материале текста поздравительной открытки). Автореферат на соискание уч. ст. кандидата филол. наук. -Волгоград, 1996. 24 с.
- Массовые празднества. Сборник. — JI.: «Academia», 1926.
- Мелешко А.А. Современные советские праздники и гражданские обряды. — Минск: Общество «Знание» БССР, 1973. 20 с.
- Методические рекомендации к организации семейного праздника / Сост. Туркина Э. К. — Л.: Академия педагог, наук, 1983. 36 с.
- Методические рекомендации по внедрению в быт советских людей новых гражданских обрядов и безрелигиозных праздников. — Свердловск: Исполн. комитет свердловского Совета депутатов трудящихся, 1968. 17 с.
- На именинах. Почаев: Типография Почаево-Успенской Лавры, 1907. — 12 с.
- На корме времени: Интервью с ленинградцами 1930-х гг / Под общ. ред. М.Витухновской. СПб.: Журн. «Нева», 2000. — 384 с.
- Наши праздники. — М.: Политиздат, 1977. 168 с.
- Никифоров Н.С. Против старого быта (из блокнота партработника). — М.-Л.: Московский рабочий, 1929. 96 с.
- Новогодние праздники и рождество. 18.01.2001. www.fom.ru
- Ольшанский В.Б. Социология личности в СССР // Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. М.: «На Воробьевых» совместно с ИС РАН, 1996. — С. 423−456.
- Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Дж. Избранное. — М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. — С. 8−135.
- Попов В.П. Паспортная система в СССР (1932−1976гг.) // Социол. исслед. 1995. -№ 8.-С. 3−14.
- Попов В.П. Паспортная система в СССР (1932−1976гг.) // Социол. исслед. 1995. -№ 9.-С. 3−13.
- Петрушевская JI. День рождения Смирновой // Петрушевская JI. Три девушки в голубом. М.: Искусство, 1989. — С. 125−140.
- Плаггенборг Ш. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб.: Журн. «Нева», 2000. — 416 с.
- Праздники для детей и взрослых. Кн.2. /Авт.-сост. Н. В. Чудакова. М.: Аст, 1999. -480 с.
- Приставкин А. День рождения // А.Приставкин. Костры в тайге. — М.: Изд-во полит, лит-ры, 1964.-С. 156−170.
- Программа отделения философии и права АН СССР «Социальные процессы в условиях перестройки. Инф. материалы. Вып.З. — М., 1990.
- Радаев В.В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. М.: Аспект Пресс, 1996.-318 с.
- Руднев В.А. Советские праздники, обряды, ритуалы. JI.: Лениздат, 1979. — 208 с.
- Саморегулирование и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В. А. Ядова. Л.: Наука, 1979. — 264 с.
- Самсония А. День рождения. М.: Всесоюз. Дом народного творчества им. Н. К. Крупской, 1951.-44 с.
- Сафронов Ю. Новые праздники и обряды. — Минск: Беларусь, 1965. 52с.
- Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. — М.: Добросвет, 1998. 292 с.
- Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? Справ.пособие по произношению, ударению и словоупотреблению. М.: Знание, 1980. — С. 130—131.
- Слейд Дж. Петербург — XXI век. Портрет нового поколения / Пер. с англ. Н. В. Шабановой. СПб.: АНО НПО «Мир и Семья», 2003. — 120 с.
- Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. / Под ред. Ю. А. Левады. М.: Мировой океан, 1993. — 299 с.
- Соколов Э.В. Культура и личность. — Л.: Наука, 1972. 228 с.
- Соколовский С.В. Стигматы архаизации: анализ праздника и анализ текста // Этнографическое обозрение. — 2002. № 2. — С. 47−57.
- Соколовский С.В. Российская этнография в конце XX в. (библиометрическое исследование) // Этнографическое обозрение. — 2003. — № 1. — С. 3−54.
- Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения. — М.: Худож. лит-ра, 1939. — 311 с.
- Сталин. Сборник статей к шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина. Воронеж: Обл. книгоиздательство, 1940. — 252 с.
- Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения (Статьи и приветствия). — М.: Правда, 1940.
- Суслопарова Л.Д. Семейные традиции. М.: Знание, 1979. — 96 с.
- Тэрнер В. Символ и ритуал. — М.: Гл. редакция вост. лит-ры изд-ва «Наука», 1983.-277 с.
- Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в советской России. — СПб: Гуманит. агентство «Академический проект», 1997. — 285 с.
- Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. — М.: Высшая школа, 1989.- 159 с.
- Фукс-Хайнритц В. Биографический метод // Биографический метод: история, методология, практика / Под ред. Е. Мещеркиной и В. Семеновой. — М.: ИСАИ, 1994.-С. 11−41.
- Хромова А.В. «С Новым годом поздравляю и от всей души желаю.»: Тексты новогодних поздравительных открыток // Антропология. Фольклористика. Лингвистика: Сб. ст. Вып. 1. — СПб: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2001. -С. 100−124.
- Цветаева Н.Н. Биографический дискурс советской эпохи // Социол. журн. — 1999.-№ ½.-С. 118−132.
- Чапкина М.Я. Художественная открытка: К столетию открытки в России. Альбом. М.: Галарт, 1993. — 304 с.
- Чуйкина С. Жизненные траектории дворян в советском обществе: Ленинград 1920−1930-х годов. Диссертация на соискание уч. степени кандидата социол. наук. Санкт-Петербург, 2000.
- Чуковский К.И. Живой как жизнь: О русском языке. М.: Дет. лит-ра, 1982. — 272 с.
- Шварц Е. Живу беспокойно. Из дневников. Л.: Сов. писатель, 1990. — 752с.
- Шильштейн Е.С. Особенности презентации Я в подростковом возрасте // Вопр. психол. 2000. — № 2. — С. 69−78.
- Шкаратан О.И. Тип общества, тип социальных отношений. О современной России // Мир России. -№ 2. С. 63−108.
- Штомпка П. Социология социальных изменений. — М.: Аспект Пресс, 1996. -416с.
- Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем 1872−1887. СПб.: Наука, 1999. -715 с.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Издат. группа «Прогресс», 1996.-334 с.
- Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. — М.: Наука, 1975. С. 89−105.
- Ядов В.А. Социальные идентификации личности в условиях быстрых социальных перемен // Социальная идентификация личности — 2. Книга 2. — М.: ИС РАН, 1994.-С. 265−288.
- Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социол. журн.- 1994.-№ 1.-С. 35−52.
- Ярцев Д.В. Особенности социализации современного подростка // Вопр. психол. 1999. — № 6. — С. 54−58.
- Alford R.D. Naming and Identity: A Cross-Cultural Study of Personal Naming Practices. New Haven, Connecticut: HRAF PRESS, 1988. — 190 p.
- Binns Chr. The changing Face of Power: Revolution and Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System: Part I // Man. 1979. — V. 14. Issue 4 (Dec.). — P. 585−606.
- Binns Chr. The changing Face of Power: Revolution and Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System: Part П // Man. 1980. — V. 15. Issue 1 (Mar.). -P. 170−187.
- Bocock R. Ritual in Industrial Society. A Sociological Analysis of Ritualism in Modern England. London: George Allen & Unwin Ltd, 1974. — 209 p.
- Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press, 1991.-302 p.
- Camerer C. Gifts as Economic Signals and Social Symbols // American Journal of Sociology. 1988. — Vol. 94 (Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure). — P. 180−214.
- Caplow T. Rule Enforcement Without Visible Means: Christmas Gift Giving in Middletown // American Journal of Sociology. 1984. — V. 89. — P. 1306−1323.
- Carbaugh D. Situating Selves: the Communication of Social Identities in American Scenes. Ch.l. Albany: State University of New York Press, 1996. — P. 19−38.
- Cheal D. The Gift Economy. London: Routledge, 1988. — 240 p.
- Chudacoff H. How old are you? Age Consciousness in American Culture. -Princeton: Princeton University Press, 1990. 232 p.
- Cole T. The Journey of Life: A Cultural History of Aging in America. -Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 260 p.
- Colson E. The Least Common Denominator // Secular Ritual / eds. S. Moore, B. Myerhoff. Assen: Van Gorcum, 1977. — P. 189−198.
- Dunhem V. In Stalin’s Time. Middleclass Values in Soviet Fiction. — Durham and London: Duke University Press, 1990. 290 p.136. van Gennep A. The Rites of Passage. London: Routledge & Kegan Paul, 1960. -197 p.
- Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991. — 256 p.
- Gillis Jh.R. A World of Their Own Making. A History of Myth and Ritual in Family Life. Oxford: Oxford University Press, 1997. — 310 p.
- Glaser В., Strauss A.L. The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine, 1967. — 271 p.
- Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row, 1974. — 586 p.
- Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. — Harmondsworth: Penguin, 1990.-251 p.
- Goffman E. Frame Analysis of Gender // The Goffman Reader / Eds. Ch. Lemert, A.Branaman. Blackwell Publication, 1997. — P. 201−208.
- Handelman D. Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events. -NY.: Berghahn Books, 1998. 330 p.
- Hoffmann D. Peasants Metropolis. Social Identities in Moscow, 1929−1941. — London: Ithaca, 1994.-282 p.
- Humphrey T. A Family Celebrates a Birthday: Of Life and Cakes // «We Gather Together»: Food and Festival in American Life / eds. T.C.Humphrey, L.T.Humphrey. Ann Arbor: UMI Research Press, 1988. — P. 19−26.
- Hyde L. The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property. — London: Vintage, 1999.-327 p.
- Fitzpatrick Sh. The Great Depature: Rural-Urban Migration in the Soviet Union, 1929−33 // Social Dimensions of Soviet Industrialization / Eds. W.G. Rosenberg, L.H. Siegelbaum. Bloomington and Indianapolis: Indiana Univ. Press, 1993. — P. 15−40.
- Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism. NY: Oxford University Press, 1999. -288 p.
- Foucault M. Questions of method // The Foucault Effects: Studies in Governmentality / Eds. G. Burchell et al. Chicago: University of Chicago Press, 1991. — P. 7382.
- Fried M.N., Fried M.H. Transitions. Four Rituals in Eight Cultures. — New York: Norton, 1980.-306 p.
- Kellner D. Popular Culture and the Construction of Postmodern Identities // Modernity and Identity / Eds. S. Lash and J. Friedman. Oxford: Blackwell, 1992. — P. 141— 177.
- Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices. Berkeley: University of California Press, 1999. — 406 p.
- Lane Chr. The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society the Soviet case. -Cambridge: Cambridge University Press, 1981. — 308 p.
- Leach E. Ritual // International Encyclopedia of the Social Sciences / ed. D.Sills. V. 13. — New York: Free Press — London: Collier Macmillan, 1968. — P. 520−526.
- Ledeneva A. Russia’s Economy of Favours. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.-235 p.156. di Leonardo M. The Female World of Cards and Holidays: Women, Families, and the Work of Kinship // Signs. 1987. -N 12 (3). — P. 440−453.
- Lewin M. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. London: Methuen, 1985. — 354 p.
- Otnes C., McGrath M. Ritual Socialization and the Children’s Birthday Party // Journal of Ritual Studies. 1994. — V. 8 (Winter). — P. 73−93.
- Patico J. 'Consumption and Logic of Social Difference in Post-Soviet Russia'. Ph.D. diss. New York University, 2001.
- Pleck E. Celebrating the Family. Ethnicity, Consumer Culture, and Family Rituals. Cambridge: Harvard Unversity Press, 2000. — 328 p.
- Rittersporn G. Stalinist Simplification and Soviet Complications. Social Tensions and Political Conflicts in the USSR 1933 1953. -N.Y.: Harwood Academic Publishers, 1991. -334 p.
- Rosenthal G. Erlebte und erzaelte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographisher Selbstbeschreibungen. Frankfurt/Main- New York, 1995. — 239 s.
- Salmi A.-M. Bonds, Bottles, Blat and Banquets. Birthdays and Networks in Russia // Ethnologia Europaea. 2000. — N 30. — P. 31−44.
- Secular Ritual / S. Moore, B. Myerhoff (eds.). Assen: Van Gorcum, 1977. -293 p.
- Silverman D. Interpreting Qualitative Date: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. — London, SAGE Publications, 1993. 224 p.
- Sirota R. Processus de socialisation et apprentissage des civilites, a propos d’un rituel: 1'anniversaire // Myths, rites, symboles dans la societe contemporaine / Ed. L’Harmatan. -Paris, 1997.-P. 151−166.
- Shamgar-Handelman L., Handelman D. Celebration of Bureaucracy: Birthday Parties in Israeli Kindergartens // Ethnology. 1991. -№ 30. — P. 293−312.
- Shlapentokh V. Love, marriage, and friendship in the Soviet Union: Ideals and practices. New York: Praeger, 1984. — 276 p.
- Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. -N.Y.: Oxford University Press, 1989.-307 p.
- Stites R. Bolshevik ritual building in the 1920s // Russia in the Era of NEP / Eds. Sh. Fitzpatrick, A. Rabinowitch, R. Stites. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1991.-P. 295−309.
- Timasheff N. The Great Retreat. N.Y.: E.P.Dutton&Company, Inc., 1946. -470 p.
- Turner V. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. — Ithaca, NJ: Cornell University Press, 1967. — 405 p.
- Understanding Rituals / ed. D. de Coppet. — London: Routledge, 1992. — 119 p.
- Weil Sh. 'The Language and Ritual Socialization: Birthday Parties in a Kindergarten Context' // Man. 1986. -N 21. Issue 2. — P. 329−341.
- Zorin A. 'Are we having fun yet? Russian Holidays in the Post Communist Period'. Paper at the Stanford Conference «Russia at the End of the 20th Century» (November 1998), (unpbl).