Система субъектов и языковые средства её реализации в поэзии Булата Окуджавы
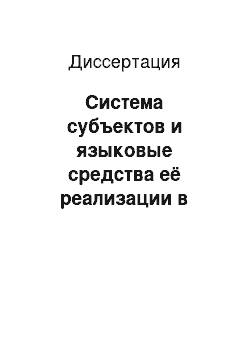
Ключевые субъекты поэзии Окуджавы — «солдат», «аристократ», «женщина» и «художник» выполняют инвариантную роль по отношению к категориям времени и пространства. Они, с одной стороны, обладают осязаемой конкретностью, существуют «здесь и сейчас», обретая значимость для сиюминутного восприятия и лирического переживания поэта (для этой цели используется репродуктивный регистр). С другой стороны, эти… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Теоретические основания лингвистического анализа поэтического текста
- 1. 1. Специфика художественного текста, требующая учета при лингвистическом анализе
- 1. 1. 1. Понятия вымышленного, фикциональиого, художественного поэтического мира и роль субъекта в этих мирах
- 1. 1. 2. «Образ автора», идиостиль и поэтический (художественный) мир автора
- 1. 2. Внешние и внутренние субъектные отношения художественного текста
- 1. 2. 1. Интертекстуальность
- 1. 2. 2. Коммуникативная рамка художественного текста
- 1. 2. 3. Роль читателя и методики анализа художественного текста «от читателя»
- 1. 3. Природа лирической поэзии и субъект как особая позиция в лирике
- 1. 3. 1. Внешняя коммуникативная рамка и внутритекстовые субъекты в лирике
- 1. 3. 2. Классификация лирических стихотворений по типам коммуникативной структуры (Ю.И. Левин)
- 1. 3. 3. Субъект — время — пространство в поэтическом тексте
- 1. 4. Комплексный линг вистический анализ поэтического текста
- 1. 5. Поэзия Б. Окуджавы как объект литературоведческого и лингвистического анализа
- 1. 1. Специфика художественного текста, требующая учета при лингвистическом анализе
- Глава 2. Система субъектов и смысловые инварианты в поэзии Б. Окуджавы
- 2. 1. Система персонажей в художественной прозе и система субъектов в лирической поэзии
- 2. 2. Лирический герой и полисубъсктная лирика
- 2. 3. Система субъектов в лирике Б. Окуджавы
- 2. 4. Имя субъекта в заглавии стихотворения
- 2. 5. Стихотворение «Король»: субъект-врсмя-пространство
- 2. 6. Стихотворение «Лриезо/сая семья фотографируется иа фойе памятника
- Пушкину»: динамическая позиция автора, но отношению к героям
- 2. 7. «Художник» как главный субъект поэзии Б. Ш. Окуджавы и музыка как доминанта его поэтики
- 2. 8. Стихотворение «Голубой шарик» и субъект «женщина»
- 2. 9. Субъект «солдат» и локусы жизни и смерти в поэтическом мире Окуджавы
- 2. 10. Отношения «свой — чужой» в системе субъектов поэзии Окуджавы
Система субъектов и языковые средства её реализации в поэзии Булата Окуджавы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Современное лингвистическое изучение произведений художественной литературы основывается на ряде ключевых идей, в разной степени реализованных по отношению к сюжетной прозе, драматургии, лирике. Центральное место среди этих идей занимают идеи антропоцентризма как основного принципа устройства и функционирования языковой системы, а следовательно и изучения всех трех ипостасей языка (языковой системы, языковой деятельности, языкового материала) — фикционалыюсти (возможных, вымышленных, художественных миров в их соотношении с реальной действительностью и творческой активностью субъекта, порождающего текст) и единства, цельности каждого отдельного произведения и литературного творчества конкретного автора в целом. В настоящей диссертации три названных идеи соединяются для изучения лирической поэзии Б. Ш. Окуджавы: решаются вопросы о роли внутритекстовых субъектов лирики Окуджавы в организации художественного мира поэта, о типологии этих субъектов, их отношениях с категориями пространства и времени, о возможности на основе системы субъектов лирики Окуджавы смоделировать инварианты художественного мира Окуджавы, описать представления поэта о человеке, о его месте в мире.
В лингвистике в конце XX в. принцип антропоцентризма был выдвинут в качестве основного принципа описания языкового материала и речевой деятельности человека, выступающего субъектом сознания и словесного творчества. Антропоцентрический характер языка определяет употребление говорящим единиц всех уровней языковой системы, которыми выражается разнообразие субъективных мнений, оценок, мыслей и т. д. говорящего в речевой ситуации. В то же время антропоцентрический характер языка проявляется в том, как в условиях различных ситуаций речевого общения человек строит коммуникативные отношения с окружающими.
Принцип антропоцентризма нашел отражение в трудах Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, Ш. Балли, Э. Бенвениста, Т. В. Булыгиной, А. Вежбицкой, В. Г. Гака, Г. Гийома, В. фон Гумбольдта, О. Есперсена, В. А. Звегинцева, Г. А. Золотовой, Ю. Н. Караулова, Н. К. Онипенко, Е. В. Падучевой, Б. А. Серебренникова, М. Ю. Сидоровой, Ю. С. Степанова и других филологов. С антропоцентрических позиций рассматриваются в современной лингвистике разные типы текстов, в том числе те, для которых важнейшей функцией является эстетическая, — художественные тексты. Антропоцентризм художественного текста определяется эгоцентрической позицией субъектов, представленных в образе автора и в образах персонажей (если они имеются), уникальным образом размещенных в фикциональном пространстве и времени текста.
О том, что стихотворные произведения Б. Ш. Окуджавы представляют интерес для лингвистического анализа через призму субъектной перспективы, говорит уже жанровая этикетка, с помощью которой характеризуется функционирование большого количества этих произведений в коммуникации, -авторская песня.
Авторская песня, зародившаяся в начале 50-х годов XX века, представлена такими именами как Б. Окуджава, М. Анчаров, Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. Галич, А. Городницкий, Ю. Ким, Н. Матвеева и другие. К середине 60-х годов XX века авторская песня сформировалась как самобытный вид искусства, особым образом реализующий взаимодействие между словом и музыкой, творением и исполнением.
К концу 60-х годов авторская песня стала объектом научного исследования. Б. Окуджава является одним из ярчайших представителей интеллигенции того времени, творчество которого характеризуется индивидуальным авторским мироощущением, воплощенным в слове. Поэт, чрезвычайно тонко чувствующий и слово и действительность, создал художественный мир, обладавший силой эстетического воздействия на современников.
Данное диссертационное исследование реализует антропоцентрический подход к поэзии Булата Окуджавы, то есть такой подход, при котором категория субъекта (модусного и диктумного) рассматривается как организующее начало каждого стихотворения и база для анализа всех других категорий: как собственно языковых (видо-временные формы глагола, стилистически окрашенная лексика и др.), так и связанных со спецификой литературного произведения (композиция, образ автора, лирический герой) и с устройством и свойствами мира, изображенного в тексте (пространство, время).
Актуальность работы определяется необходимостью разработки и проверки лингвистического метода описания художественного мира лирики отдельного поэта как единства, целостности и выявления инвариантов этого художественного мира на основе построения и анализа системы субъектов лирики поэта, а также отношений этих субъектов со временем и пространством. Поэзия Окуджавы представляет хорошую базу для разработки и проверки этого метода, поскольку Окуджава является автором, отличающимся яркой поэтической индивидуальностью и повышенным вниманием к индивидуальной точке зрения и судьбе человека.
Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации впервые в русистике используется метод моделирования художественного мира поэта на основе системы субъектов его лирики и с применением современного лингвистического инструментария даётся комплексное описание системы субъектов в лирике Булата Окуджавы как организующего компонента его художественного мира. В отличие от имеющихся литературоведческих работ, лингвистическое изучение этой темы выявляет конкретные языковые средства и принципы их «селекции и комбинации» (P.O. Якобсон), определяющие специфику субъектной организации стихов Окуджавы и смысловые инварианты (по А. К. Жолковскому, Ю.К. Щеглову) его художественного мира.
Объектом настоящего диссертационного исследования являются стихотворения Булата Окуджавы, предметом — субъектная организация этих стихотворений, воплощенная средствами языка и служащая отправной точкой для интерпретации других категорий в плане содержания и плане выражения стихотворений.
Материал диссертации составили 479 стихотворений из следующих сборников Булата Окуджавы, которые включают указание на годы создания произведений: «Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик. Лирика 50-е -70-е. Екатеринбург, 2004, «Булат Окуджава. Под управлением любви. Лирика 70-е — 90-е.», Екатеринбург, 2006.
Цель диссертации состоит в комплексном лингвистическом исследовании позиции субъекта и средств ее выражения в стихах Б. Ш. Окуджавы и выявлении на этой основе а) системы субъектов в лирике Б. Ш. Окуджавы и б) центральной организующей роли этих субъектов по отношению к времени, пространству и инвариантам художественного мира Окуджавы. В соответствии с поставленной целью работы предполагается решение следующих задач исследования:
1. Обосновать понятие «система субъектов в лирике автора» как инструмент лингвистического анализа поэтического текста и выявить систему субъектов в лирике Б. Окуджавы (компоненты системы и отношения между ними).
2. Выполнить лингвистический анализ конкретных стихотворений Б. Окуджавы, основанный на субъектной организации стихотворений, и предложить оригинальную интерпретацию этих текстов, объединяющую уровень конкретных языковых единиц с уровнем интерпретации замысла автора.
3. Установить и доказать методами лингвистического анализа взаимосвязь категорий субъекта, времени и пространства в поэзии Окуджавы. Продемонстрировать организующую роль субъекта в этом взаимодействии.
4. Определить общее и различное в важнейших категориях системы субъектов лирической поэзии Окуджавы — «солдат», «женщина», «аристократ», «художник», установить, каким образом эти общие и отличительные смыслы передаются средствами языка и композиционным построением стихотворений.
5. Охарактеризовать и интерпретировать отношения между компонентами системы субъектов в лирике Окуджавы с точки зрения их иерархичности, пересечения, контраста и т. п. Описать языковые средства выражения этих отношений.
6. Выявить инварианты поэзии Окуджавы, связанные с системой субъектов, и продемонстрировать на этой основе продуктивность подобного анализа лирики отдельного автора как единства, цельности.
7. Предложить и апробировать методику анализа художественного мира поэта на основе системы субъектов его лирики.
Решение поставленных задач потребовало обращения к различным методам исследования: структурно-семантическому, коммуникативно-грамматическому, лексикографическому. Также в работе использованы методы компонентного анализа и количественно-семантического анализа субъектов.
Теоретическую основу работы составили исследования по поэтике: 1) В. В. Виноградова, Л. Я. Гинзбурга, Б. А. Ларина, Ю. Н. Тынянова и др. (семантико-стилистический подход) — 2) Т. О. Винокура, В. П. Григорьева, И. И. Ковтуновой, H.A. Кожевниковой, H.A. Фатеевой и др. (лингвопоэтический) — 3) М. Л. Гаспарова, С. Ельницкой, А. К. Жолковского, Ю. К. Щеглова, С. Т. Золяна, Ю. М. Лотмана, О. Г. Ревзиной, P.O. Якобсона и др. (системно-структурный) — 4) Г. А. Золотовой, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидоровой, Ю. И. Левина (коммуникативный). Главными источниками послужили работы виноградовской школы изучения художественного текста и функционально-коммуникативной грамматики, с одной стороны, и теория инвариантов художественного мира А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова — с другой.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нём впервые реализован метод комплексного коммуникативно-грамматического анализа системы субъектов художественного мира поэта в связи с категориями пространства и времени и построения на этой основы инвариантов художественного мира поэта.
Практическая значимость работы заключается в том, что материал и результаты работы могут использоваться в курсах и пособиях по лингвистическому анализу художественного текста и художественному переводу. Методика и результаты настоящей диссертации могут использоваться в исследованиях художественного мира других авторов.
Апробация работы. Основные положения и отдельные выводы диссертации излагались в докладах на XVI, XVII и XVIII Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (секция «Филология», 2009, 2010, 2011 гг.), V Международной научно-практической конференции «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного» (Москва МГУ им. М. В. Ломоносова, филологический факультет, 2011).
По теме диссертации опубликовано семь научных работ, в том числе четыре статьи (из них три в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) и тезисы трёх докладов.
Структура диссертации. Исследование состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и двух приложений.
Заключение
.
Творчество любого поэта представляет собой единый поэтический мир, основными характеристиками которого являются, как в любом реальном или вымышленном мире — позиция субъекта и организованные этой позицией время и пространство. Проанализировав систему субъектов в лирике Б. Окуджавы и ее реализацию в отдельных стихотворениях, мы пришли к следующим выводам.
1) В филологической литературе, посвященной лирической поэзии, акцентируется ее моносубъектность, наличие единого авторского сознания как «центра, вокруг которого вращается этот мир» (Ф. Ницше). В то же время существует немало работ, посвященных коммуникативной структуре лирики, ее диалогичности и обнаруживающих разные типы отношения автора и читателя, автора и других внутритекстовых субъектов в пределах одного стихотворения. Направление исследования, предложенное в нашей работе, позволяет объединить оба подхода, поскольку, с одной стороны, системно рассматриваются все субъекты, присутствующие в стихотворениях поэта, с другой — из анализа системы субъектов и организованных вокруг них времени и пространства извлекаются смысловые инварианты — «любимые идеи» (по Жолковскому и Щеглову) поэта и моделируется его поэтический мир.
2) Выступая как организующий центр лирического стихотворения, автор не только сам выполняет отбор и соположение языковых единиц для реализации своего замысла. Он может делать центром стихотворения другого субъекта, организуя вокруг него время и пространство. Таким образом, весь вымышленный мир стихотворения выстраивается вокруг данного субъекта. Окуджава, как правило, дает картины этого мира в репродуктивном регистре («здесь и сейчас» субъекта автора или другого внутритекстового субъекта), а затем, используя разные языковые средства, выводит частную «зарисовку с натуры» на уровень высокого обобщения. Мы видели это на стихотворениях «Музыкант в лесу под деревом.» и «Голубой шарик». То же самое можно наблюдать во многих других произведениях Окуджавы («Ваше Величество, Женщина», «Я пишу исторический роман» и др.) Отсюда вырастает первый инвариант поэтического мира Окуджавы — единство конкретного, мимолетного и осязаемого мира и мира вечного, высокого, духовного. Шагнуть из первого во второй может любой человек, если он захочет подняться над сиюминутностью и суетой. Но взлетая (например, в творческом или любовном порыве), поднимаясь, выходя в высокие пространства и проникая в вечное течение времени, человек не должен забывать о своей человеческой сущности. Подъем над «мелочностью» не означает презрения к «мелочам». Не случайно любимый субъект-художник Окуджавы — Моцарт, а пишущий исторический роман лирический герой воображает себя всего лишь «поручиком в отставке». Не случайно автор сливается с семейством, фотографирующимся на фоне Пушкина, в конце стихотворения. Как квинтэссенцию этого инвариантного смысла можно привести стихотворение «Голубой человек», начинающееся с репродуктивной «картинки»:
Голубой человек в перчатках, в красной шапочке смешной поднимается по лестнице, говорит: — Иду домой. —.
Но этот смешной человечек, которого невидимые собеседники то и дело окликают: «Ты куда, куда, несчастный?» или «Сумасшедший, вон твой дом!», «он у неба на виду». Он даже выше неба и земли, он — на уровне мирозданья:
Вот растаяло и небомирозданья тишь да мрак, ничего почти не видно, и земля — то вся — с кулак.
Не обращая внимание на окрики «Эй, заблудишься, заблудишься!, «голубой человек» (вспомним, как значимо для Окуджавы это прилагательное) поднимается все выше. Но Окуджава не позволяет «взлетающему» никакой высокопарности, никакого пафоса, нарочито снижая стиль в последних строчках (все слова — разговорного стиля):
Он карабкается, бормочет: Не порите ерунды.
3) Это соположение разностилевых элементов в пределах одного стихотворения, одной строфы, одной строчки является, в дополнение к регистровой композиции, вторым важнейшим средством языкового воплощения указанного смыслового инварианта.
4) Ключевые субъекты поэзии Окуджавы — «солдат», «аристократ», «женщина» и «художник» выполняют инвариантную роль по отношению к категориям времени и пространства. Они, с одной стороны, обладают осязаемой конкретностью, существуют «здесь и сейчас», обретая значимость для сиюминутного восприятия и лирического переживания поэта (для этой цели используется репродуктивный регистр). С другой стороны, эти субъекты осуществляют связь времен и пространств. Их ипостаси (прошлое — настоящее — будущее) становятся предметом лирического переживания. Они «перемещаются» по желанию автора в любое реальное или вымышленное время и пространство, принося в него инвариантные идеи, с ними связанные: благородство, жизнь и смерть, любовь, творчество. В качестве языкового обеспечения этой способности ключевых субъектов поэзии Окуджавы выступают локативные и темпоральные локализаторы, темпоральные прилагательные типа вечный и их производные, неопределенные местоимения и наречия типа какой-то, один, где-то.
5) Поэзия Окуджавы полисубъектна не только в целом. Полисубъектностыо характеризуется большинство его стихотворений, что находит отражение в их диалогичности. Эта диалогичность имеет разные формы: а) диалог автора с читателем — «Песенка о малярах», «Союз друзей» и др.;
6) диалог автора с внутритекстовым субъектом (субъектами) — «Ваше Величество, Женщина», «Песенка о Моцарте», «Живописцы, окуните ваши кисти» и др.- в) диалог между внутритекстовыми субъектами — «Дерзость, или разговор перед боем», «Дежурный по апрелю». б) Для авторского субъекта в поэзии Окуджавы возможны разные позиции по отношению к другим текстовым субъектам: а) идентификация или взаимное отражение, узнавание, (Моцарт и авторхудожники, Ленька Королев и автор — солдаты) — б) соположение, со-общение (автор — субъект «женщина») — в) сотворение — субъекты, являющиеся порождением фантазии автора и населяющие вымышленный мир, в котором он «никогда не был» («В поход на чужую страну собирался король." — «Бумажный солдат» и т. п.).
Не типична для Окуджавы позиция полного отрицания, неприятия другого текстового субъекта — она встречается крайне редко, например, по отношению к Сталину. В целом позицию авторского субъекта Окуджавы по отношению к другим можно охарактеризовать как доброта, уважение к человеческой личности, независимо от ее масштаба, стремление понять другую точку зрения, скромность и отсутствие взгляда на «персонажей» своих стихотворений свысока. Окуджава — и от своего имени, и от имени ролевого субъекта — способен выразить широчайший диапазон чувств: от доброй иронии по отношению к королю, которому «королева мешок сухарей насушила», до горького упрека царю от гончара — «от обид обалдевшего раба твоего». Самые близкие по духу к авторскому субъекту — «художники» и друзья, носители арбатства, растворенного в крови". Говоря с другими «художниками» или о других художниках, Окуджава отступает в тень, выдвигая их на первый планОн либо обращается к ним с просьбой («Живописцы, окуните ваши кисти.», «Строитель, возведи мне дом.»), либо с благоговением наблюдает за ними:
Продолжается музыка возле меня.
Я играть не умею.
Я слушаю только.
Субъект «солдат» — биографически отражает одну из ипостасей Окуджавы, этап его жизненной биографии. В этом причина его близости авторскому субъекту. Субъект «женщина» для Окуджавы — это не просто мать или возлюбленная, это мерило чести и ценности мужчины. Наконец, субъект «аристократ», частотность которого связана с романтическим мироощущением Окуджавы, объединяется с автором на основе высоких духовных стремлений. «Арбатство» приравнивается к «дворянству». Таким образом, каждый из основных субъектов в системе субъектов лирики Окуджавы не просто встает в определенные отношения с автором, в нем есть частица автора.
7) Для построения системы субъектов лирической поэзии используются номинации в позиции: а) обращения: Как бы ни были вы святы, как ни праведно житье, вы с ума соиши, солдаты: это — дрянь, а не питье! б) субъекта или другого актанта основной или дополнительной, модусной или диктумной предикации: А за ним идет солдат не высок, не бородат. Он такому командиру и признателен, и рад. в) члена сравнительного оборота и относительного прилагательного с субъектной основой: Я как последний юнкер безоружен, в лакейскую затею завлечен.
Особой позицией является заголовочная (в названии стихотворения или в первой строке). Субъекты, появляющиеся в этой позиции, в стихотворении могут выступать как диктумные (предмет описания автора) или как модусные (носители точки зрения).
8) Отношения между субъектами проецируются на отношения между теми временными и пространственными локусами, с которыми они связаны. Так, музыка и война, любовь и война не совместимы в одном пространстве-времени. Переходя в локус войны, солдат выполняет приказ «Прощайся с ней, прощайся с ней!» и оставляет за спиной мать или любимую женщину. Женщина не может сопровождать любимого в локус войны, так как это локус смерти, а женщина в поэтическом мире Окуджавы несет жизнь. В военном локусе, конечно, возможна женщина военной профессии, например, медсестра. И ее появление оказывает волшебное воздействие — пространство войны и смерти перестает существовать, заменяясь пространством любви и жизни. Смысловые инварианты, связанные с данным типом субъекта (женщинажизнь, любовь) оказываются сильнее, чем изначально заданное в стихотворении пространство:
А что я сказал медсестре Марии, когда обнимал ее?
— Ты знаешь, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят.
А поле клевера было под нами, тихое, как река. И волны клевера набегали, и мы качались на них.
И Мария, раскинув руки, плыла по этой реке.
И были черными и бездонными голубые ее глаза.
И я сказал медсестре Марии, когда наступил рассвет: — Нет, ты представь: офицерские дочки на нас и глядеть не хотят.
9) Таким образом, ключевые субъекты Окуджавы обладают инвариантными свойствами, не уничтожимы при перемещениях во времени и пространстве. Таковы благородство Короля, творческая сила Музыканта, «арбатство» самого поэта, даже выселенного с Арбата, и его друзей, даже в ту эпоху, когда «правнуки забудут слово «двор». Женщина в поэзии Окуджавы может со временем утрачивать красоту и молодость, но ее свойство быть мерилом мужской жизни — постоянно.
10) Тот факт, что каждый из ключевых субъектов поэзии Окуджавы обладая набором переменных и постоянных смысловых признаков, организует вокруг себя время и пространство, будучи центром стихотворения, и вступает в художественном мире Окуджавы в смысловые отношения с другими субъектами, подтверждает наше исходное положение о системности «каталога» субъектов, населяющих художественный мир Окуджавы. Все это, в совокупности с разнообразием номинаций, которые дает Окуджава ключевым субъектам своей поэзии, определяет художественную индивидуальность поэта и может служить основанием для сопоставления системы субъектов и смысловых инвариантов, связанных с ними, у Окуджавы и других поэтов. При этом совпадения и несовпадения могут обнаружиться: на уровне набора субъектов (тот или иной субъект может присутствовать/отсутствовать у Окуджавы или у сравниваемого поэта) — на уровне значимости и отношений с другими субъектами (один и тот же субъект, присутствуя в системе у Окуджавы и сравниваемого поэта, может у одного из авторов принадлежать к ключевым, а у другого занимать скромное периферийное местона уровне смысловых инвариантов, связанных с тем или иным субъектом и со всеми ключевыми субъектами в целом (интересно было бы проверить, например, является ли женщина мерилом чести и ценности для мужчины в поэтическом мире других представителей авторской песни) — на уровне номинаций (можно предположить, что не у всех представителей советской военной поэзии номинации ключевого субъекта «солдат» будут включать номинации «аристократического толка», как в романтически ориентированном поэтическом мире Окуджавы, и что далеко не у всех «военных поэтов» будут фигурировать в лирике бумажный и оловянный солдаты).
Подобные сопоставления открывают широкую перспективу исследования.
Список литературы
- Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик. Лирика 50-е 70-е. Екатеринбург, 2004.
- Булат Окуджава. Под управлением любви. Лирика 70-е 90-е. Екатеринбург, 2006.1. Словари
- Абельская Р.Ш. «На мне костюмчик серый-серый .» // Голос надежды. Вып. I. М., 2004. С. 146- 165.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 428, 486.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Бергельсон М.Б., Кибрик А. Е. Прагматический «принцип Приоритета» и его отражение в грамматике языка // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Том 40. Вып. 4. М., 1981. С. 343−355.
- Бескровная И.А. Поэтический текст как модель автокоммуникации: типы адресантов // Филологические науки. 1998. № 5−6. С. 87 96.
- Быков Д.Л. Булат Окуджава. М., 2009.
- Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
- Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
- Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.
- Гаспаров, М. Л. Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус функциональный // Проблемы структурной лингвистики. М., 1988. С. 125- 137.
- Гаспаров 1997а Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною.»: методика анализа // Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 9 — 20.
- Гаспаров 19 976 Гаспаров М. Л. — Первочтение и перечтение. К тыняновскому понятию сукцессивности стихотворной речи // Избранные труды. Т. 2. М., 1997. С. 459 — 467.
- Гегель Г. В. Ф. Эстетика, т. 3, М., 1971.
- Гиндин С.И. Внутренняя организация текста. Элементы теории и семантический анализ. Автореферат дис.. канд. филол. наук. М., 1972.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
- URL: http://belolibrary.imwerden.de/books/litera/ginzburgolirike.htm
- Глебов И. Видение мира в духе музыки // Блок и музыка. М., — Л. 1972. С. 8−57.
- Григорьев В.П. Предисловие // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Поэтический язык и идиостиль. М., 1990. С. 3.
- Гюйо М. Происхождение идеи времени. СПб., 1899.
- Джанджакова Е.В. О поэтике заглавий // Лингвистика и поэтика / Под ред. В. П. Григорьева. М., 1979. С. 207−214.
- Ельницкая С. Поэтический мир Цветаевой. Конфликт лирического героя и действительности. Wien, 1990. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 30.
- Жан Бодрийяр Фотография, или Письмо света // Пер. работы Жана Бодрийяра «La Photographie ou l’Ecriture de la Lumiere: Litteralite de l’Image». Опубликовано в: L’Echange Impossible. Paris: Galilee, 1999. P. 175 184. URL: http://fotogu.ru/history/65
- Жолковский A.K., Щеглов Ю. К. К понятиям «тема» и «поэтический мир» // Труды по знаковым системам. 7. Вып. 365. Ученые записки Тартусского государственного университета. Тарту, 1975. С. 143 167.
- Жолковский А.К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты Тема Приемы — Текст. М., 1996.
- Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты / Отв. ред. Л. Г. Панова. М., 2005.
- Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Золотова Г. А. О принципах классификации простого предложения // Актуальные проблемы русского синтаксиса. М., 1984. С. 14 35.
- Золотова Г. А. Композиция и грамматика // Язык как творчество: Сб. науч. тр. к 70-летию В. П. Григорьева. М.: ИРЯ РАН, 1996. С. 284 296.
- Золотова Г. А. К вопросу о структуре текстов разного коммуникативного назначения // Языковая система в ее развитии во времени и пространстве. Сб. статей к юбилею К. В. Горшковой. М., 2001. С. 322 328.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 2004.
- Золян С.Т. О соотношении языкового и поэтического смыслов. Ереван, 1985.
- Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М., 1986.
- Ковтунова И.И. Принцип неполной определенности и формы его грамматического выражения в поэтическом языке XX века // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993. С. 106- 154.
- Ковтунова И.И. Поэтическая грамматика. Том I / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / И. И. Ковтунова, H.A. Николина, Е. В. Красильникова (отв. ред.) и др. М., 2006.
- Кожина H.A. Заглавие художественного произведения: онтология, функции, параметры типологии // Проблемы структурной лингвистики 1984. М., 1988. С. 167- 183.
- КофановаВ.А. Языковые особенности геопоэтики авторской песни (на материале текстов произведений Б. Ш. Окуджавы, A.A. Галича, A.M. Городницкого, Ю.И. Визбора). Автореферат дис.. канд. филол. наук. Ставрополь, 2005.
- Кржижановский С. Поэтика заглавий. М., 1931.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман (1967) // Вестник/МГУ. Серия 9. Филология. 1995. № 1. С. 99, 97.
- Кронгауз М.А. Фамилия в русском языке и ее употребление Текст. // Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию со дня рождения A.A. Реформатского. М., 2004. С. 429 434.
- Ларин Б.А. О разновидностях художественной речи // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. М., 1997. С. 149 162.
- Левин Ю.И. Лирика с коммуникативной точки зрения // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 464−480.
- Лингвокультурологический тезаурус М., 2009. URL: hltp://vww.philol.msu.ru/~tezaurus
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 2000. С. 14 285.
- Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории. Аналитический минимум. М., 2005.
- Магазаник Э. Поэтика заглавия и оглавления. «Материалы XXIII научной конференции СамГУ». Самарканд, 1966.
- Моисеева A.A. Эволюция ролевой лирики на рубеже XIX—XX вв.еков: формирование ролевого героя нового типа. Автореферат дис.. канд. филол. наук. Пермь, 2007.
- Морозова O.E. Текстообразующие функции односоставных глагольно-личных предложений в современном русском языке: Учебно-методические рекомендации. Архангельск, 1986.
- Неронова И.В. Детализация и лакунарность как принципы конструирования художественных миров в творчестве братьев Стругацких 1980-х гг. // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 4, т. 1 (Гуманитарные науки). С. 281−285.
- Николина H.A. Грамматические формы времени в свете поэтического эксперимента // Текст. Интертекст. Культура. М., 2001. С. 51 65.
- Николина H.A. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / H.A. Николина 3-е изд. стер. М., 2008.
- Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 57 156.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2007.
- Новиков Вл. И. Булат Окуджава // Авторская песня. М., 2000. С. 15 57.
- Новиков J1.A. Художественный текст и его анализ. Изд. 3-е. М., 2007.
- Окуджава: Проблемы поэтики и текстологии. М.: ГКЦМ B.C. Высоцкого, 2002.
- Онипенко Н.К. Идея субъектной перспективы в русской грамматике // Русистика сегодня. М., 1994. № 3. С. 74 83.
- Онипенко Н.К. Теория коммуникативной грамматики и проблема системного описания русского синтаксиса // Русский язык в научном освещении. М., 2001. № 2. С. 107 121.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: Референциальные аспекты семантики местоимений. М., 2008.
- Петрова З.Ю. Семантика «начала» и «конца» в двух поэтических идиостилях (Б. Окуджава и И. Бродский) // Логический анализ языка: Семантика начала и конца. М., 2002. С. 461 468.
- Потапова И.С. Авторская песня в контексте лингвокультурной ситуации 1960−1970-х годов (на материале поэтического творчества Б. Окуджавы, А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого). Автореферат дис.. канд. филол. наук. Иваново, 2009.
- Потебня A.A. Слово и миф. М., 1989.
- Ревзина О.Г. Системно-функциональный подход в лингвистической поэтике и проблемы описания поэтического идиолекта. Дис.. докт. филол. наук. М., 1998.
- Ревзина О.Г. Поэтический мир М. Цветаевой в произведениях 30-х годов (цикл «Куст» и поэма «Автобус») // Творчество и Коммуникативный процесс. № 6. Jerusalem, 1999. URL: http://www.nicomant.fils.us.edu.p1/jrn/1999/j6/6.2/rewzina.htm.
- Ревзина О.Г. Понятийный аппарат лингвистики дискурса // Русский язык: исторические судьбы и современность. II Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2004. С. 410 411.
- Роднянская И.Б. Лирический герой // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 258−262.
- Розенблюм О.М. О некоторых темах и образах книги «Лирика» // Окуджава: Проблемы поэтики и текстологии. М.: ГКЦМ B.C. Высоцкого, 2002. С. 51−67.
- Рымарь Н.Т. Еще раз о «прозрачном» и «непрозрачном» слове: к вопросу о структуре поэтического слова // Вестник Самарской Гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология.» 2007. № 2. С.185 194.
- Серов Н.В. Светоцветовая терапия. Смысл и значение цвета. СПб., 2001.
- Серов Н. В Цвет культуры. Психология, культурология, физиология. СПб., 2003.
- Сидоров Е. Смысл и форма: о стихах Давида Самойлова // День поэзии. 1971. М., 1971. С. 206−207.
- Сидорова М.Ю. Грамматическое единство художественного текста: проза и поэзия. Дис.. докт. филол. наук. М., 2000.
- Сидорова М.Ю. Художественный текст как сумма проекций // Текст. Структура и семантика: доклады XII международной конференции. Т. 1. М., 2009.
- Сильман Т.И. Синтаксико-стилистические особенности местоимений // Вопросы языкознания. 1970. № 4. С. 81−92 6.
- Смирнов A.A. Романтическая лирика A.C. Пушкина. М., 1994.
- Тростников М.В. Об одном женском образе в поздней лирике Булата Окуджавы // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 9. М., 1999. С. 154−158.
- Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. М., 1989. С. 425−467.
- Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004.
- Эли Фор Дух форм / Пер. с франц. и послесл. A.B. Шестакова. СПб., 2001.
- Хренов, Н. Фотография в контексте культуры // Фотография: проблемы поэтики. М., 2010.
- Фатеева H.A. О лингвопоэтическом и семиотическом статусе заглавий стихотворных произведений (на материале русской поэзии XX века) // Поэтика и стилистика. М., 1991.
- Фатеева H.A. Заглавие и текст в русской поэзии конца XX века: параллельная динамика // Текст. Интертекст. Культура. М., 2001. С. 395 -411.
- Федосеева E.H. Диалогическая основа русской лирики первой трети XIX века. Автореферат дис.. докт. филол. наук. М., 2009.
- Флоренский П.А. Имена. М, 1998.
- Фуко М. Жизнь: опыт и наука // Вопр. философии. 1993. № 5. С. 53.
- Шапир М.И. «Versus» vs «Prosa»: пространство-время поэтического текста // Philologica. № 2. 1995.
- Шилов JI.A. Поэт и певец//Песни Булата Окуджавы. М., 1989.
- Яковлев Е. Г. Эстетика. Художник: личность и творчество. М., 2004.
- Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk: Ein Einfuhrung in die Literaturwissenschaft. Bern, 1948. Пер. М. И. Бента, Н. С. Лейтес. http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Literat/Tamar/29.php