Маска как функция текста в романной прозе Г. Джеймса и Ф. М. Достоевского: Романы «Княгиня Казамассима» и «Бесы»
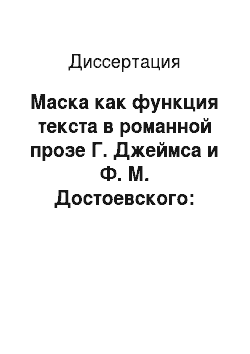
Повествовательные структуры, сопряженные с реализацией образа маски, как правило, организованы так, что поначалу смысл поступков персонажа-маски кажется. другим действуюпгим лицам вполне открытым, они не читают здесь «второго дна», а то, что ими прочитывается, вызывает, в крайнем случае, лишь мимолетные сомнения в искренности их собеседника. Поскольку на протяжении повествования маска способна… Читать ещё >
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1. Предмет исследования
Основой для аналитического диалога романов, созданных двумя разными авторами в традициях двух разных литературных сознаний, может выступить некоторый элемент, функционально равнозначный для структуры обоих текстов, короче говоря, функциональный эквивалент.1 В данном случае в качестве такового избран социально-психологический феномен (маска), интегрированный как органическая составляющая в структуру художественного текста.
Под маской понимается (здесь и далее) лицедейство как система поведения одного из персонажей, которое одновременно 1) является неотъемлемой частью структурного и сюжетного уровней текста- 2) вводит в повествовательные структуры комплекс апорий, заполнение которых становится актуальной герменевтической задачей читательского сознания- 3) определяет подъем и спад психологического напряжения внутри текста в зависимости от профиля (конструкции) апорий в конкретных фрагментах повествования- и в итоге вовлекает читателя в сферу действия указанного напряжения посредством стимулирования его герменевтической активности.
Маска рассмотрена в данной работе как одно из проявлений литературного сознания, зафиксированное пока на уровне отдельных произведений, объединен
1 Термин взят у О. Шпенглера (46) ных общей системой повествования, которую М. М. Бахтин (57) определил как «диалогический» или «полифонический» роман. Последний термин представляется мне более корректным, поскольку определение «диалогический», точно указывая на преобладающие в таком романе повествовательные структуры, тем не менее, представляется спорным с более широких, например, с философских терминологических позиций. В то же время определение «полифонический» имплицитно содержит в себе указание на множественность повествовательных «точек зрения» (термин, предложенный Генри Джеймсом) и тем самым создает возможность потенциального выхода в единое терминологическое пространство, внутри которого справедливо использование терминов, предложенных различными литературоведческими школами, — с целью дать более точное определение природе повествовательных структур в конкретном художественном тексте.
Здесь необходимо обратиться к бахшнскому пониманию термина «полифонический роман». В широко известной книге «Проблемы поэтики Достоевского» (57) М. М. Бахтин фактически не дает ему компактного толкования. По мере продвижения анализа определение «полифонического романа» как бы постоянно уточняется. Однако все говорит о том, что центром «унифицированного» определения и структурирующим ядром самого полифонического романа должен быть принцип не-объектного отношения автора к слову своего персонажа. Автор полифонического текста обладает способностью к равноправному общению с этим словом и тем самым отводит точке зрения персонажа самостоятельную позицию, внеположную его собственной. Вполне закономерно, что, выступая как равный собеседник, а не в роли всезнающего комментатора, голос повествователя в таком романе оставляет значительное место диалогу, наиболее естественному и распространенному способу человеческого общения.
Итак, свобода персонажей, сообщенная им авторским уважением к «чужому голосу», имеет своим следствием романную структуру, тяготеющую к драме. Таким образом, слово персонажа приобретает значение поступка. Это дополнительное измерение, которое приобретает функция романного слова, оказывает существенное влияние на временну ю и пространственную динамику романа:
Полифония, как событие взаимодействия полноправных и внутренне незавершенных сознаний, требует иной художественной концепции времени и пространства, употребляя выражение самого Достоевского, «неэвклидовой» концепции." (с. 303). Что же касается литературы XX века, то к продолжателям традиций полифонического романа следует, в частности, относить Уильяма Фолкнера, Габриэля Гарсиа Маркеса, Джона Фаулза.2 Среди российских последователей полифонической концепции самым значимым, на мой взгляд, является МАБулгаков.
Естественным следствием подобной концепции и одной из основных ценностей полифонического текста мне представляется множественность смыслов, при помощи которой текст вовлекает читателя в свою игру. Множественность смыслов является наиболее благоприятным контекстом для функционирования «маски» как полновесной смысловой составляющей текста. В романе, где отсутствует всезнающий повествователь, один из персонажей, «пользуясь» его отсутствием, вводит в заблуждение других действующих лиц и самого читателя, играя некую роль и, до определенного момента в тексте, скрывая свои подлинные намерения. В силу все того же отсутствия всезнающего повествователя разоблачение «актера» становится возможным, как правило, только в конце романа. Таким образом, о существовании маски в тексте можно с уверенностью судить только по См., напр., работу исследователя научного наследия Бахтина О. Е. Осовсжого (36). ее разоблачению. Поскольку маска — система поведения, а не единичный обман, то разоблачение, как уже было отмечено выше, происходит, как правило, ближе к финалу текста. При общении читателя с многоголосным текстом, основаниями для подозрения «на маску» могут быть неясные мотивы поступков персонажа, текстуальные «намеки» на возможность ''второго дна" в его характере. Такими «намеками» становятся сомнения, высказываемые от имени других персонажей- оговорки, вводимые повествователем и заставляющие читателя усомниться в однозначности сказанного, или выполняющая ту же функцию повествовательская ирония. Однако окончательное выяснение вопроса о присутствии либо отсутствии маски возможно только из полного или почти’полного контекста произведения. Применяя терминологию Ролана Барта, можно сказать, что «маска» — это загадка, которую, — пользуясь особым, если так можно выразиться, «неавторитарным» строением повествования, — полифонический текст загадывает, а читательское сознание стремится разгадать. На мой взгляд, подобного рода загадка представляет собой кульминацию тех особенных коммутажативных возможностей, которые имманентны самой природе полифонических повествовательных структур. Проследить движение этой игры с читательским сознанием, не нарушая многозначности текста, но, напротив, сохраняя ее. насколько это возможно, до момента. который выбирается самим текстом, т. е., в данном случае, до момента разоблачения маски, — это представляется мне весьма интересной и плодотворной аналитической задачей.
Здесь необходимо пояснить, во-первых, почему го всего обширного творческого наследия Генри Джеймса и Федора Достоевского выбраны только два романа. — соответственно, «Княгиня Казамассима"(6) и иБееы"(3) — и, во-вторых. почему анализ обоих романов сосредоточен не на всем их текстовом объеме, а только на той части повествования, где действуют персонажи-обмашц|1ки.
В творчестве Джеймса и Достоевского названные романы — не единственные, в которых действует лицедей. Однако, как будет ясно из анализа, представленного во второй и третьей главе настоящей работы, лицедейство персонажа в художественном тексте может существенно различаться по своему- характеру, по используемой в игре палитре красок и их оттенков. В характерах Петра Верховен-ского и Княгини Казамассима игра с корыстными мотивами получила наиболее многогранное воплощение. Кроме того, социальный аспект в тематике обоих романов сделал их более доступными для сопоставительного анализа и кстати солдат для вышеназванных персонажей дополнительные возможности разнообразить свою игровую тактику. В ходе повествования их игра переплетается не только с игрой подобных им лицедеев, но также с игрой целых лицедействующих организаций. Все указанные аспекты входят в крут вопросов, подробно рассмотренных в 1-ой главе данной работы. Однако, прежде чем излагать собственную точку зрения, необходимо обратиться к истории понятия «маски» в работах исследователей творчества Генри Джеймса и Ф. М. Достоевского.
Вопрос о лицедействе литературных персонажей (если рассматривать его в совокупности всех составляющих, т. е. со структурной и филооофско-этической точек зрения) приходится поместить между двумя фадиционнъши для науки о литературе областями интересов — собственно «формальной» и собственно идейной". Такое пограничное положение определило и ту долю внимания, которую исследователи творчества Г. Джеймса и Ф. М. Достоевского (в основном избирающие для себя какую-то одну из указанных выше областей) смогли уделить вопросу о лицедействе.
Значительное число критиков просто указывает на факт лицедейства некоторых персонажей в романах того и другого автора. Меньшее число обозначает этот способ поведения как «маску». Еще меньшее вкратце излагает свои взгляды на предполагаемые текстами социально-психологические основания этого явления. И совсем немногие рассматривают некоторые составляющие эффекта лицедейства на уровне повествовательных структур.
Однако, прежде чем перейти к обзору критических работ, необходимо сделать весьма существенную оговорку. Дело в том, что исследователи «Бесов» с легкой руки критиков-символистов теперь уже почти традиционно высказываются о «маске» Ставрогина. Здесь их поддерживает, с одной стороны, красноречивое упоминание самого этого слова в ставрогинском «портрете», представленном читателю Антоном Лаврентьичем Г-овым, «хроникером» романа- а с другой стороны, авторитет критических работ В. И. Иванова (67). Однако «маска» как определение чисто физиогномических особенностей (как, например, свойственное данному человеку выражение лица) — либо «маска» как элемент символического ряда (у В.И.Иванова), отражающего индивгтдуальные мировоззренческие принципы, имеют довольно косвенное отношение к тому кругу вопросов, который определил направление данной работы.
Довольно часто в критических работах, посвященных роману «Бесы», фигура Ставрогина в значительной мере затеняет остальных действующих шщ, и, прежде всего. Петра Верховенского. Последний же, как, впрочем, и большинство персонажей Достоевского, рассматривается прежде всего как «герой-идеолог" — к „Бесам“, в целом, особенно в последние годы, принято обращаться главным образом как к идеологическому роману. Произведение рассматривается в общекультурном контексте, и вопрос о том, из каких повествовательных структур слагаются его образы, как бы сам собой отодвигается на задний план- либо, если данный вопрос все же оказался в поле зрения исследователя, то исследовательская мысль или стремится к обобщениям, или решает задачу», исходя из узко специальных лшшвистических интересов.
Из тех работ, что не обошли своим вниманием проблему лицедейства в романах Достоевского и, в частности, в «'Бесах», стоит выделить книгу ЮАКарякина «Достоевский и канун XXI века» (1989), где образность писателя весьма ярко представлена критиком в маскарадном свете: «Все отчуждается. Все переворачивается. Все переименовывается, лишь бы не быть узнанным. Все — в масках, и маски эти уже приросли к лицам, и нельзя их уже просто снять, не сдирая вместе с кожей."(69-с.86) На существенную роль элемента маскарадности в характерах «Бесов» указывает также и Л. И. Сараскина, уже много лет занимающаяся исследованием круга философских и социально- этических вопросов, определяющих место этого произведения в отечественном культурном контексте. В последней по времени крупной работе, посвященной роману, — ««Бесы" — роман-предупреждение» (1990), — исследовательница указывает на характерный стиль лицедейства, свойственный в данном повествовании лишь Петру Верховен-скому: «Неистово рвущийся к власти самозванец и узурпатор, автор и дирижер смуты, маньяк и одержимый, Петр Верховенский вполне точно обозначил пунктиры строительства ["светлого будущего». — Е.Л.]. Под маской революционера, социалиста и демократа, прикрываясь для официального политического ханжества фразеологией «ярко-красного либерализма», он намеревается устроить «равенство в муравейнике» при условии его полного подчинения деспотической диктатуре и идолократии.» (89-с.308) Очевидно, одним из первых на «игровую» природу характера Верховенского обратил внимание известный литературовед К. Мочульский (1930-е годы), наделенный редкостно чутким «слухом» в отношении творческого метода Достоевского: «Он [Верховенсюш-младший] шут. летник, клеветник, предатель- злобно глумится над отцом. Это типичный злодей мелодрамы. Но из-под грубовато раскрашенной маски на мгновение проглядывает другое лицо, и мы вдруг понимаем, что Верховенский, разыгрывая банальную роль интригана, бережно охраняетою тайну.» (80−369) Различия виле лицедейства у персонажей «Бесов» отмечает Ю. Селезнев (1980): «У одних героев, как например, «сочиненное» лицо Петра Верховенского, лицо-маска Ставрогина — маски тесноилисьих владельцами, их трудно, почти невозможно «снять». У других, как у Степана Трофимовича, — маски действительно только «примериваются», ихово всегда проговаривается, его «сочиненность"моразоблачается.» (91- е.296) На «самозванство» и «ролевой образ» Верховенского, а также на егоособность не только лицедействоватьмому, но и режиссировать («создает ролевой образ Ставрогина" — 65,40) указывает Р. Н. Поддубная (1994). Р. Г. Назиров ватье «Петр Верховенский как эстет"(82- 1979) обращает внимание на отдельныеставляющие лицедейства — многословие, жестокость к окружающим, наличие idee Лхе. Однако Назиров, определяя присутствие «маски» в поведении Верховенского, тем не менее не указывает прямо, что перечисленные им выше поведенческие модусы являютсяставной частью «маскарадного характера». Искусствовед Б. Н. Любимов (1981) также отмечает, что в тексте романа
Бесы" тема театра прослеживается и на лексическом уровне (77−44) — он же подчеркивает «даровую, театральную природу поведения многих персонажей Достоевского» (77−43). Специальнуюатью мотивам лицедейства и актерства в художественной прозе Достоевского посвятила Р. Я. Клейнман (1985). В этой работе она также обращает внимание на отмеченное ранее Б. Н. Любимовым «введение в текст элементов „театральной“ лексики» (73−54), наособность некоторых персонажей Достоевского «не только играть, но и режиссировать целые «спектакли*.» (73−55)3 Маскарадность характеров в произведениях писателя отмечают также Н.В. и В. Н. Касаткины (1994), однакоешивая при этом особенности поведения и особенности внешности- «Сознавая неблагообразиеоей жизни, персонажи его [Достоевского. — Е.Л.]романов не хотят обнаружитьое подлинное лицо. Норываябя, они все же теммым проявляютбя. Для обозначения такого внешнего портретного обнаружения психики Достоевский употребляетово «маска». Маска — этоабюшзирующаяся и как бы материализующаяся поверхность психики, идетельствующая в то же время о глубокой, хотя и трудно раскрываемойщности человека. Лица многих героев Достоевского напоминают маску. Маскарывает человека — такова первая прямая портретная характеристика Ставрогина.» (70- 104−105) «Театрализацию прозы» Достоевского ируктурирующую роль этой театрализации в движении читательского восприятия через текст подчеркивает Т. М. Родина (1984) в работе «Достоевский. Повествование и драма»: «Сохранение «тайны», как не до конца
J Клейнман также упоминает исследователей, уже обращавшихся к теме ли цедейства у Достоевского. Однако их наблюдения носят либо частный характер (как у В. А. Туниманова, С. М. Соловьева, Д.В.Затонекого) либо ограничиваются краткими замечаниями ('Н.М.Чирков). выявленной жизненной возможности, поддерживает установку Достоевского на максимальноелижениечитателем, на то, чтобы и персонажи, и конфликты, определяющие ихществование в романе, продолжали бы вое развитие за пределами произведения, в жизни изнании читателя."(88- 181) О «затененности» и противоречивости персонажей Достоевского пишут М. Феррацци (1984- 96,41,48) и Н. В. Кашина (1986) — «.То, что говорит герой о мире, теммым квалифицируя ибя, лошь да рядом у Достоевского опровергается илиавится подмнение его поступками.» (71−97)
Это наблюдение о персонажах Достоевского вполне созвучно с критическим восприятием темы. лицедейства в романе «Княгиня Казамассима». По мнению Лео Берзани (1984), персонажам Джеймса вообще свойственно «поведение-как-изобретение-"я""(105- р. 129), а «высказыванию у Джеймса свойственно часто казаться подозрительным и, совершенно мелодраматически, оно эквивалентно лицемерию и предательству. На протяжении всего творчества Генри Джеймса (наиболее яркими примерами являются «Портрет леди» и «Крылья голубки») мы обнаруживаем, что нечестность почти необходимо следует из искусства управлять внешним выражением себя."(105- р. 136)
Этот роман чаще всего остается где-то на периферии внимания исследователей из-за своей «социальной проблематики» и достаточно раннего для творчества Джеймса времени создания (1886 год) — однако некоторые из них все же, обращаясь к роману, рассматривают не только вопрос реальных прототипов для революционно настроенных действующих лиц романа или современную его созданию политическую и социальную ситуацию. Так, Миллиеент Белл (1991), в частности, указывает на гистрионический характер поведения Кристины Казамассима- «Княгине в одинаковой степени свойственна поза как там [в замке Медли
Корт], так и на Мадейра Крисент,. где она демонстрирует свою способность создать подобие совершенно иного типа."(104- р. 117) «Театральность» характера Княгини отмечает не только Миллисент Белл (104- р.178), но и Дж.А.Уорд (1967- 118, р. 129), и Питер Брукс (1985- 106, р.200), и Марк Зельтцер (1984- 116, р.40−42). Правда, Джон Карлос Роу (1985), известный своим герменевтичесюш прочтением Джеймса, полагает, что Княгиня играет прежде всего те роли, которые навязаны ей обществом- она тяготится им и предпринимает1 своего рода восстание прошв общественного конформизма (114- р. 167). Тем не менее, он отмечает, что «оба — Дидрих Хоффендаль и Княгиня — держат Гиацинта в неведении относительно своих целей, поскольку оба нуждаются в такой преданности как в фундаменте для их авторитета.» (114- р. 179)
Маска как функция текста в романной прозе Г. Джеймса и Ф. М. Достоевского: Романы «Княгиня Казамассима» и «Бесы» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МАСКА КАК ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ. ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ И ЧИТАТЕЛЬ.
В полифонической прозе прямая речь и слово повествователя находятся почти на одном уровне раскрытия смысла, при этом не плотно * прилегая" друг к другу, не срастаясь, так, что между ними образуются смысловые апории. v>tot момент отношения слова со словом — один из существеннейших факторов психологического воздействия полифонической прозы на читателя. Читательское сознание начинает испытывать это воздействие с того момента, как вовлекается в заполнение и толкование вышеупомянутых смысловых апорий.
Герменевтическое движение читательского сознания по тексту с маской встречает на своем пути точки бифуркации — моменты, в которые читатель вынужден выбирать между тем или иным вариантом толкования. Значительная часть точек бифуркации приходится на те фрагменты повествования, где действует «маска». Сознание тех персонажей, которые общаются с маской, прохода-г чер^з подобные же точки бифуркации, где возможен выбор отношения к собеседнику-маске, в зависимости or того, какая трактовка, какое понимание его характера будет принято партнером по диалогу. Эти моменты обычно едва намечены, что объясняется прежде всего самой природой полифонического текста. Развернутое описание сомнений, возникших в сознании персонажа-собеседника маски, превратило бы полифонический текст в аналитический и сильно повлияло бы на читательское настроение, ориентируя читателя на стойкое предубеждение против потенциальной маски, вместо того, чтобы позволить ему реализовать свою возможность выбора того или иного толкования для действий этого персонажа.
Повествовательные структуры, сопряженные с реализацией образа маски, как правило, организованы так, что поначалу смысл поступков персонажа-маски кажется. другим действуюпгим лицам вполне открытым, они не читают здесь «второго дна», а то, что ими прочитывается, вызывает, в крайнем случае, лишь мимолетные сомнения в искренности их собеседника. Поскольку на протяжении повествования маска способна разнообразить тактику, менять амплуа или допускать непоследовательность (промахи) в ведении роли, — толкования, которые дают ее поступкам другие действующие лица и сам читатель, также могут уточняться или коренным образом пересматриваться в процессе герменевтического движения внутри текстовых структур. Для данного случая оказываются безусловно справедливыми положения Стэнли Фиша, высказанные относительно темпоральности. которой обладают ожидание, направленное на значение структур текста, а также уверенность в том или ином их значении. Все конституированные читательским сознанием значения, все его мнения относительно причин совершаемых маской поступков, как и относительно основ ее характера существуют во времени и скоро заменяются другими. Любое мнение спорно и любое мнение законно на крах-кий период времени — до замещения этого значения другим, а в конечном счете, до момента разоблачения маски.
Тем самым, не зная, к какому исходу приведет текст, структуры которого могут потенциально вмещать характер лицедея, читатель полифонического текста невольно оказывается в роли простодушного читателя. Для аналитической прозы желателен читатель искушенныйведомый анализирующим повествователем, он должен быть готов воспринять и оценить все тонкости анализа. Но в движении через структуры полифонического текста читательское сознание, даже самое искушенное, периодически непременно оказывается в роли обнаруживает собственное простодушного. Возможно, это одно из следствий воспитательной установки многоголосного романа. Он вынужден толковать текст в отсутствие надежного проводника и арбитра — всезнающего повествователя, и это существенно обостряет стоящую перед ним герменевтическую задачу. Фактически, здесь ожидается, что читатель проведет самостоятельный анализдля этого необходимо, чтобы его сознание двигалось через текст с должным вниманием, не упуская иногда мелкзтх деталей и вскользь оброненных намеков. Совершая подобное движение, читающее сознание поневоле становится неторопливым или, по крайней мере, осторожным в умозаключенияхтем более, что текст даже как будто подводит к подобной неторопливости, поскольку на протяжении повествования наиболее открытой для читателя точкой зрения оказывается восприятие наименее искушенного действующего лицау Джеймса это может быть Гиацинт, или Мертон Деншср в «Крыльях голубки», или Стрэзер в «Послах» — у ДостоевскогоШатав или Антон Лаврентьич, или Подросток, или Митя Карамазов. Одновременно полифонический текст выстроен так, что для читателя остается практически закрытым сознание ''деятельных" персонажей, таким образом, от читателя скрыта логика, определяющая причинность и последовательность событии. При этом темп повествования может быль задан как будто без всякой оглядки на читателяновое событие следует прежде, чем он успеет удовлетворительно объяснить себе предыдущее. Обгоняя поспешные объяснения, текст вынуждает читателя становиться чутким наблюдателем, а не торопливым интерпретатором. В ситуации неопределенности такой читатель практически непроизвольно медлил с выводами, и, похоже, само это промедление составляет для полифонического текста существенный момент эстетического воздействия на читательское сознание.
Однако разная скорость умозаключештй ожидается от искушенного читателя аналитической прозы и простодушного читателя полифонической еще и потому, что последний — не просто наблюдатель, а со-творец смысла текста, и здесь, видимо, не обошлось без авторского расчета и Генри Джеймса, и Ф. М. Достоевского на свою читательскую аудиторию, на активное восприятие, на своего рода герменевтическое сотрудничество. Стэнли Фиш (с позиций критики ''читательского отклика") утверждал, что процесс понимания текста есть «реализация авторской интенции» (47- с. 182 -183) Однако нспосредствешю отвечающими за создание тех или иных смыслов в процессечтения огг сштгал применяемые читателем шттерпретнруютщте стратегии: при этом «предрасположенность к. применению различных интенретирующих стратегий» (47- с. 188, 1 кол.), подагал Стэнли Фиш, зависит от принадлежности к тот' или иному ингерпрептрую-щему сообществу" (47- с. 188, 2 кол.).9 Исходя из сказанного, вполне правомерно сделать вывод о том, что маска как интерпретирующая стратегия, как герменевтический ключ становится реальностью читательского сознания лишь тогда, когда читатель принадлежать к такой социальной группе, в которой возможно поведение типа «маски». Читатель, способный на основании некоторых намеков, выстраиваемых для него полифоническим текстом, предположить, чго в этом тексте действует характер-маска, тем самым актуализирует в своем сознании социально-психолог-ического опыта, собственный или чужой, приобретенный в общении с лицемерами и лицедеями.
Толкование, которое читатель должен дать по-шфоничсскому тексту, имеет целью воссоздать связную психологическую карп гну (понимание мотивов, целей поступков и слов) внутреннего мира каждого персонажа в отдельности и веет") романа в целом. Герменевтическая деятельность читательского сознания как бы реконструирует целостность психологического, мошватшонного фона в произведении, и уже само по себе «отслеживание'' подобной деятельности в условиях полифонии смысла может представлять для исследователя значительный интерес.
9 Эту точку зрения вполне поддержал бы социолог Щибутаниер. его теорию коммуникации в социальных группах (43): «.Отбор и интерпретация сигналов зависят от ожидании человека, которые, в свою очередь, приобретаются в процессе участия в организованном сообществе.» (с.96) — «Система взглядов каждого человека одновременно и формируется к ограни читается сетями коммуникаций, в которые он оказался включенным.» (с.213).
Таким образом, герменевтическая задача, возникающая перед читателем полифонического текста, сама по себе оказывается фактором психологического воздействия, Причем характер этого воздействия в чем-то весьма близок к тому, которое оказывает на человеческое сознание чтение детективовнекоторые грани этого воздействия, аедентированные в текстуальном анализе (см. 1-ую главу данной работы), позволяют говорить о известной его близости к типу, обозначаемому в зарубежном искусствоведении термином suspense. Всматриваясь в шекспировского «Гамлета», Выготский писал: «.Трагедия умышленно построена как загадка,.^ если критики хотят снять загадку с трагедии, то они лишают самую трагедию ее существенной части, «(с. 158) Примененный выше метод построения анализирующего текста основан именно на желании сохранить «загадку» маски, имея в виду ее особую, психологически и герменевтически «провоцирующую» роль по отношению к читательскому сознанию, движущемуся через повествовательные структуры полифонического текста. Таким образом, напряжение внутри полифонического текста достигает своего максимума в тех повествовательных структурах, через которые «маска» осуществляет свою функцию, воздействуя на читательское сознание. Коммугожатетмый уровень, в пределах которого взаимодействие между полифоническим текстом и читателем определяется функционированием «маски», характеризуется наибольшей актуализацией эпических смыслов текста. Поэтому «маске» внутри полифонического текста трудно оставаться в пределах игры как искусстваей гораздо ближе игра как механизм корыстного лицедейства. Однако через этот «отрицательный» образ патифоштческтш текст реализует свой педагогический потенциал, а загадка, которую привносит в повествование особым образом выстроенное психологическое изображение- «мае ка», привлекает внимание читателя и способствует развитию «штательского сознания, избегая скучного морализма и назидательности. Множественность смыслов и множественность точек зрения, позволяющие * маске» функционировать при взаимодействии читательского сознания со структурами полифонического романа, — это ответ на читательские вкусы, очевидно, возникающие в эпоху «брожения умов», когда человек особенно дорожит возможностью выбора, охотнее слушает и, может быть, чуть напряженней, чем всегда, стремится былуслышанным, — и, очевидно, вследствие всего этого становится более уязвим для обмана.