Трансформация идей И. Канта в работах русских логиков конца XIX — начала XX веков
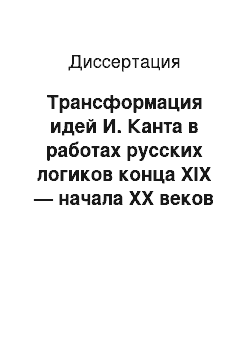
Логика отношений, зародившаяся в трудах М. И. Каринского, Л. В. Рутковского, изначально претендовавшая на статус самодостаточной системы в современной науке нашла свое применение в математической логике. Логико-гносеологическая концепция М. Каринского первоначально была связана с поисками оснований достоверного знания. Критический анализ рационального и эмпирического подходов к решению этих… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Логическое учение И. Канта и его последователи в России
- 1. Идеи априорного знания в учении И. Канта
S 2. Логико-гносеологическая паоаоигма л. м. авеоенско~ представителя ортодоксального кантианства в России конца XIX- начала XX вв. $ 3. Отношения между законами мышления и сЬоомами познания в философской системе И. И. Лапшина. $ 4. Система «чистого опыта» И. И. Лапшина и понятие «внутреннего опыта» Г. И. Челпанова как способы интерпретации проблемы априорного знания в трансцендентальной логике И. Канта.
Глава 2. Тенденция психологизма в логике отечественных неокантианцев конца XIX — начала XX вв.
§ 1 Влияние результатов экспериментальной психологии на развитие и эволюцию неокантианской философии в России конца XIX- начала XX вв.
§ 2. «Реформа логики» Н. Я. Гоота.
§ 3. Интерпретация априорных форм познания с позиции психологизма в логических исследованиях Г. И. Челпанова.
Глава 3. Формирование «логики отношений» в контексте достижений отечественных неокантианцев в области логики.
§ 1 Критический анализ природы априорных синтетических суждений в концепции М. И. Каринского.
§ 2. «Классификация суждений» М. И. Каринского как основание «логики отношений» в России.
§ 3. Развитие идей М. И. Каринского в творчестве Л. В. Рутковского.
Трансформация идей И. Канта в работах русских логиков конца XIX — начала XX веков (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
исследования. Одна из основных проблем логики и теории познания — обоснование форм и способов получения достоверного знания. Однако, развитие философии в России на рубеже XIX — XX веков имело свои особенности, отодвинувшие логико-гносеологическую тематику на второй план. Антропоцентризм русских философских исканий обеспечивал доминирование моральных и религиозных установок в смысловом поле философского знания. Исключение составили отечественные неокантианцы — представители и продолжатели рационалистической (европейской) традиции. Они первые услышали прозвучавший на западе призыв «назад к Канту» и откликнулись на него.
Формально интерес к Канту в России проявился в появлении переводов сочинений немецкого философа, а также сочинений мыслителей различных школ западно-европейского неокантианства. Содержательной стороной этого процесса было то, что почти все направления русской философской мысли выразили свое положительное или отрицательное отношение к кантианству. Активное обсуждение учения Канта объясняется потребностью философского осмысления фундаментальных мировоззренческих и методологических проблем, которые по-новому проявились в России на рубеже веков.
Немецкий классик открыл перед ними недосягаемый мир априорного, задающий контуры возможного научного знания. В изначальных априорных формах им интерпретируется и материал опытных данных. Априорные основания науки определили его исследовательскую программу — он создал универсальный образ науки, являющийся рефлексией над современным ему механистическим естествознанием.
Между научной теорией и реальностью за пределами сознания Кант обнаружил обширный пласт конструктивной деятельности субъекта. Проведя резкую грань между феноменальным бытием и сферой «вещей в себе», недоступной науки, он противопоставил трансцендентальное знание эмпирическому. В своей трансцендентальной логике немецкий философ исследует в формах мышления то, что сообщает знанию априорный, всеобщий и необходимый характер. Это отличает ее от общей логики, которая исследует формы мысли, отвлекаясь от содержания. В трансцендентальной логике речь идет не о логической форме, а о содержании понятий. Не без оснований трансцендентальная логика Канта начинает рассматриваться как логика научного познания.
Русские логики испытали на себе влияние кантовских установок. Новый I взгляд на логику вызвал стремление к переработке и нахождению новых оснований. Появляются многочисленные попытки реформы логики: «Систематическое изложение логики» В. Н. Карпова, «Логика. Обозрение индуктивных и дедуктивных приемов мышления» М. И. Владиславлева, «Логика как часть теории познания» А. И. Введенского, «Новая реформа логики» Н. Я. Грота и, наконец, нетрадиционная логика Н. А. Васильева. Попытки преодоления некоторых положений Канта есть в работах М. И. Каринского, Л. В. Рутковского, Э. Л. Радлова.
Большинство работ логического и гносеологического содержания, вышедших в России в конце XIX — начале XX вв., были написаны в русле рационалистической философии и связаны с анализом идей Канта. Работы русских неокантианцев, даже если они не выходили за рамки кантовской системы, и не содержали разработанной собственной системы, интересны для изучения, поскольку решали логико-гносеологические вопросы с разных позиций (логической, психологической) и основывались на принципе «всепонятности» философии. Отечественные философы и логики стремились упростить сложную систему Канта, устранить из нее кажущиеся им противоречия и сделать ее доступнее для понимания.
Влияние Канта на философскую мысль в России конца XIX — XX вв. еще недостаточно изучено. Современники ограничились критикой как учения самого Канта, так и его последователей-неокантианцев. В советский период в философии сложилась традиция рассматривать это направление преимущественно как противоречивое соединение идей материализма и субъективного идеализма. В современной философской литературе преобладает персоналистический подход к истории отечественного неокантианства. Исследование их логических и гносеологических концепций в контексте сравнительного анализа еще не получило должного рассмотрения. Попытка предпринять такое рассмотрение представляется актуальной для понимания значения реформ, которые произошли в логике и философии в начале минувшего столетия.
Степень разработанности проблемы. Из-за несколько одностороннего взгляда на историю русской философии конца XIX — начала XX века, который сложился в современных исследованиях — основным объектом изучения стали философы-моралисты (Вл. Соловьев, Булгаков, Бердяев), академическая философия остается еще мало изученной областью.
Анализ проблемы опирается на богатый фактический материал по изучению неокантианства, особенно имеющейся в работах таких известных философов и логиков, как: Е. В. Водзинский, Б. Т. Григорьян, С. О. Гузенберг, В. В. Зеньковский, П. С. Попов, Н. И. Стяжкин, JI. И. Филиппов. В современной литературе прослеживается персоналистический подход к истории неокантианства. Основные разрабатываемые вопросы сводятся к области этики, психологии или истории философии. Философские взгляды Г. И. Челпанова рассмотрены в работах И. В. Гладковой и Е. В. Верховцевой. В исследованиях JI. Я. Бабаевой и JI. С. Чуманова представлена эстетика и гносеология И. И. Лапшина. Современные работы, которые анализируют логико-гносеологические вопросы отечественного неокантианства, немногочисленны. Здесь можно перечислить таких авторов как А. И. Абрамов, В. Н. Белов, Б. В. Бирюков, Б. А. Грязнов, А. А. Ермичев, В. И. Кобзарь, Т. В. Наумова, А. Г. Павлова, Б. В. Шуранов.
Цели и задачи исследования. Главная цель диссертации — выяснить значение реформ, проведенных неокантианцами в логике и гносеологии. Рассмотреть специфику их самостоятельных концепций в контексте развития современной им науки и философии. Соответственно цели диссертации предполагается решить следующие конкретные задачи:
— дать критический анализ философских принципов, которыми руководствовались представители различных школ неокантианства в России и выяснить их отношение к идеям самого И. Канта;
— оценить достижения отечественных философов и логиков в исследовании мировоззренческих и методологических установок неокантианства и на этой основе дать возможную классификацию основных его направлений;
— объяснить причины становления психологического направления в неокантианстве;
— проследить специфику перехода от логического критицизма к новому направлению в логике — логике отношений;
— установить причину замены обозначений логических форм их языковыми коррелятами в концепциях А. И. Введенского, Н. Я. Грота.
Методология исследования. Компаративистский подход является методологической основой диссертационного исследования. Эвристическая ценность сравнительного анализа обнаруживается при рассмотрении содержания и принципиальных установок различных направлений русского неокантианства в их отношении к идейному наследию немецкого классика. Использование метода аналогии, методов исторического и логического анализа и логических операций — «деление понятия», «классификация» позволяет не только выявить сходство и различие в интерпретации основных положений трансцендентальной логики И. Канта, но и оценить оригинальность самостоятельных концепций отечественных философов.
Научная новизна работы. К научной новизне можно отнести следующее:
Разработана классификация основных направлений неокантианства в России:
1) академическое кантианство (А. И. Введенский, И. И. Лапшин);
2) психологизм как течение в неокантианстве (Г. И. Челпанов, Н. Я. Грот);
3) логический критицизм (М. И. Каринский, Л. В. Рутковский).
В рамках предложенной классификации основных направлений неокантианства выявляются и объединяются причины и возможности -~ехола от логического коитинизма к новому напоавлению в логикелогике отношений.
На основе сравнительного анализа устанавливаются самостоятельные теоретические достижения в логико-гносеологических исследованиях отечественных неокантианцев.
Вскрывается значение реформ, предпринятых отечественными неокантианцами в логике и теории познания.
Согласно требованиям логической семантики, проанализирована полнота выразительных средств языковых выражений, полученных в результате замены обозначений логических форм их языковыми коррелятами в логических концепциях А. И. Введенского и Н. Я. Грота. Положения и выводы, выносимые на защиту: 1. Отечественные логики-неокантианцы могут быть отнесены к трем направлениям по следующим принципам: академическое кантианство связано с гносеологической трактовкой априорности: априорное знание, обладающее свойствами достоверности, рассматривается только как логическое условие познанияпсихологизм рассматривает логику как психодинамику познавательных процессов, а самонаблюдение превращает в основной метод исследования мышлениялогический критицизм поиск оснований достоверного знания связывает с опытом: он есть та инстанция, которая убеждает, что ощущения и их взаимные отношения не зависят от внешнего произвола, а являются образами реального мира.
2. Причинами становления психологического направления в логике является стремление исследовать природу априорных форм знания и выявить способы получения достоверного знания на основе достижений в области эмпирической психологии.
3. М. И. Каринскому удается обосновать возможность описывать умозаключения в индуктивной и дедуктивной системах, используя формальнологический закон тождества.
4. Замена логических форм их языковыми коррелятами дает возможность перейти от формальной логики в область трансцендентальной логики и проанализировать содержание логических структур.
Выводы по неполной индукции русский логик ставит между выводами от единичного к общему и выводами полной индукции.
Противоположность индуктивным умозаключениям представляют умозаключения дедуктивного типа. В подобных заключениях логический процесс начинается с общих положений и заканчивается применением общей истины к тому или другому частному случаю. Так как у Рутковского обобщения могут быть двух родов: полные и приблизительные, то и дедуктивные умозаключения от делит на две категории: 1) дедукции, которые исходят из полных обобщений, 2) дедукции гипотетические.
Самым типичным видом полной дедукции является, по его мнению, первая фигура аристотелевского силлогизма.
Заключение
в подобного рода выводах координируется следующими двумя положениями: суждением о классе и суждением о принадлежности предмета к данному классу. Задача умозаключения в такого рода выводах состоит в том, чтобы отыскать предметы, удовлетворяющие указанному условию.
Традукции, индукции и дедукции в логике объема соответствуют продукция, едукция и субдукция в логике содержания.
В случае продукции сказуемые основного и выводного суждений представляют собою отдельные свойства предмета. При замещении одного отдельного определения другим отдельным определением наша мысль как бы идет вперед, переходит от познанного уже определения к еще непознанному. Приставка «про» показывает поступательное движение вперед. Схему вывода согласно процессу продукции Рутковский формулирует следующим образом: «усмотрев в предмете наблюдения какой-либо признак или вообще получив какое-либо определение данного предмета, мы без дальнейшего опыта приписываем этому предмету новое определение в силу того, что ему присуще данное в основном суждении определение."''0. К этой категории русский логик относит и разделительный силлогизм. Формула его такова: усмотрев в предмете «А» признак «В» и зная, что это определение несовместимо с определением признака «С», мы в выводе утверждаем, что предмет «А» должен быть определен как не имеющий свойства «С».
В умозаключения субдуктивного типа данные в опыте признаки подводятся под включающее их в себя более общее определение. Под эти умозаключения Рутковский подводит те «случаи выводов, где усмотрев в предмете известный признак или совокупность известных признаков, мы позволяем себе охарактеризовать этот предмет таким определением, которое содержит в себе, в качестве своих составных частей, признаки данные опытом"4'. Такими умозаключениями мы пользуемся при объяснении наблюдаемых фактов или явлений. Он различает выводы насубстанциональные и генетические. Когда к данному определению подыскивается конкретный предмет, то это будет субстанциональное объяснение, а когда указываются условия и способ происхождения фактов, то это будет генетическое объяснение.
В традиционной логике подобные выводы признаются дедуктивными, но Рутковский не согласен с таким взглядом. Он показывает, что в дедуктивном умозаключении исходным пунктом рассуждения служит известный закон, из закона выводятся конкретные факты и объясняются. В.
48 Л. В. Рутковский. Основные типы умозаключений // Избранные труды русских логиков XIX века. М.: Изд-во АН ССР, 1956. С. 311.
49 Там же. С. 322. действительности, при объяснении новых фактов уже знакомым законом наша мысль идет вовсе не этим путем. Приступая к объяснению нового факта, мы не знаем, какой именно из открытых нами ранее законов, может быть законом его объясняющим. На самом же деле умозаключение начинается с факта, а выводом является объясняющий закон. Следовательно, это процесс не дедуктивный.
Субдуктивным выводам противоположны выводы едуктивные. При едукции сказуемое основного суждения составляет часть сказуемого выводного суждения. При субдукции мы идем от менее широкого определения к определению более широкому, в едукции мы идем обратным ходом. Основное суждение этого умозаключения выражает данный предмет как член известного класса. Обосновывающее суждение в таком процессе заключает в себе утверждение, что данный класс характеризуется такими-то свойствами. В результате мы получаем вывод, что, предмет рассуждения определяется одним из признаков, входящих в содержание данного класса. Вывод такого типа основан на аксиоме: все, что есть признак какого-либо предмета, есть признак того, что обладает этим последним признаком. По мнению Рутковского, сфера едукции, получаемая из данного классифицирующего суждения, зависит от богатства того содержания, которое входит в состав нашего понятия о соответствующем классе.
Суждения разделительные могут нам служить в качестве обосновывающих суждений в выводах едуктивного типа, и тогда получаются такие едуктивные умозаключения, в которых вывод есть суждение разделительное. То есть, можно сказать, что к этой области выводов относятся заключения вероятности. Это, по мнению Рутковского, является наиболее важным видом едукции, под которым он понимает те случаи логических выводов, задача которых состоит в определении ожидаемых событий.
Группы субдукции и едукции нельзя назвать искусственно выведенными с целью совмещения логики объема и логики содержания. В них нашли свое место такие логические формы, которые обычно не учитывались в классификациях выводов. Во-первых, заключение вероятности — вывод особого типа. Далее — заключения как математической, так и статистической вероятности, нашли свое место в группе едуктивных выводов. То же самое можно сказать об операции классификации. В ней есть момент умозаключения. Классификация вошла в группу субдуктивных выводов.
Исходя из рассмотренной классификации суждений можно сказать, что логика Рутковского является более полной по объему и содержанию, чем работа М. И. Каринского. У Рутковского классификация отношений между суждениями получила более точное определение.
В дальнейшем классификация отношений получила свое развитие в логике отношений С. И. Поварнина, оригинального философа и логика середины XX века. Его уже нельзя отнести к неокантианству или к представителям математической логики. В своих работах «Логика отношений. Ее сущность и значение» (1917), «Логика. Общее учение о доказательстве» (1916) С. И. Поварнин исходит из категории знания, а логику считает частью науки о знании. Логика отношений Поварнина исходит из того, что нельзя свести все отношения к одному типу, а надо признать все отношения, которые только мыслятся. Сколько отношений может утверждаться и отрицаться в суждениях, столько должно быть и типов отношений вообще. Теория «сложного предиката» и «теория логических рядов» Поварнина дала возможность разработать теорию несиллогистических выводов.
136 Заключение.
Идеи по реформе логике, предложенные в трудах таких выдающихся философов-логиков как А. И. Введенский, И. И. Лапшин, Н. Я. Грот, Г. И. Челпанов, М. И. Каринский, Л. В. Рутковский дали толчок к переосмыслению подходов к проблемам трансцендентальной логики И. Канта, а также позволили выработать неклассические идеи. Под неклассичностью здесь понимается либо ослабление одного из логических законов, либо отступление от принципов двухзначности высказывания, а также пересмотр некоторых устоявшихся представлений математико-логического характера, мысль о применимости логики к психологии.
Ортодоксальный кантианец А. И. Введенский, профессор Санкт-Петербургского университета, своей заинтересованностью и стремлением сделать систему Канта «всепонятной» стал преемником М. И. Владиславлева и своеобразным «рупором» философии Канта в России. Он разделял философские взгляды Канта, лишь внося уточнения в его концепцию, а именно: предложив собственное доказательство критицизма — логицизм. Его ученик и последователь И. И. Лапшин также полностью перенял схему познания у Канта и стремился «завершить» кантианство путем слияния форм познания с законами мышления. Введенский и Лапшин считали, что в мире «вещей в себе» могут не действовать закон противоречия и исключенного третьего. Эти взгляды оказали влияние на русского реформатора логики Н. А. Васильева.
Течение психологизма, охватившего логику на Западе, отразилось и в концепциях логиков в России. И. Кант, обозначив область априорного знания, применил его формы и для интерпретации материала опытных данных. Это послужило основанием для представителей психологизма в логике искать объяснение априорных форм познания в контексте психологии или даже физиологии. Априорными оказываются психофизические условия познания и восприятия. Психологизм, как одно из направлений, рассматривает логику как психодинамику познавательных процессов, а самонаблюдение у Н. Я. Грота и Г. И. Челпанова становится основным методом исследования когнитивных процессов.
Логика отношений, зародившаяся в трудах М. И. Каринского, Л. В. Рутковского, изначально претендовавшая на статус самодостаточной системы в современной науке нашла свое применение в математической логике. Логико-гносеологическая концепция М. Каринского первоначально была связана с поисками оснований достоверного знания. Критический анализ рационального и эмпирического подходов к решению этих проблем позволил русскому логику найти возможность соединить основы кантовской философии с установками эмпиризма. Каринский считает, что, признавая суждение всеобщим и необходимым, мы должны иметь на это такие основания. Убедится, что наши ощущения и их отношения не зависят от произвола, нам помогает опыт. А чтобы признать положение за достоверное и очевидное, должны быть соблюдены требования для представления объекта в сознании — объект должен быть конструируем. Далее, чтобы из правильных посылок строить правильные выводы, Каринский разрабатывает классификацию суждений, которая позволяет описывать умозаключения в индуктивной и дедуктивной системах, с помощью закона тождества.
Л. В. Рутковский, следуя тому же принципу, развивает более общий подход к классификации, что приводит к большему числу форм логических выводов. Логика Рутковского, в отличие от интерпретации логических отношений Кантом, не предписывает своих правил мысли, а извлекает их из уже сложившейся мысли.
В советский период идеи развитые М. И. Каринским и Л. В. Рутковским получили развитие в трудах С. И. Поварнина.
Образование понятия в концепции А. И. Введенского задается как общее представление и является основой суждения. Для познавательного процесса особое значение имеют общие суждения. Они могут быть аналитическими и синтетическими. Различие суждений основано не на происхождении, а на их составе. В логике Н. Я. Грота происходит выводимость понятий из родов суждений, предположив, что все идеи происходят из интеграции и ассоциации ощущений он снимает проблему неоднородности мышления и представления. Такая замена логических форм их языковыми коррелятами позволяет проанализировать содержание логических структур. Перспектива дальнейших исследований проблемы лежит в области современной семантики, лингвистики. Анализ содержания логический структур очень актуален и рассматривается, например, в работах Ю. С. Степанова, С. Д. Кацнельсона.
Список литературы
- Абрамов А. И. Кант в русской духовно-академической философии // Кант и философия в России. -М.: Наука, 1994. — С. 114−151.
- Батракова И. А. Отношение опыта и разума в философии И. Канта: автореф. дис. канд. философ, наук / СПб., 2003. 20 с.
- Безродный М. В. Из истории русского неокантианства: Журнал «Логос» и его редакторы // Лица. М.: СПб., 1992. — № 1. — С. 37226.
- Белов В. Н. «Новый либерализм» русских неокантианцев // Европейское просвещение и развитие цивилизации в России. -Саратов, 2001.-С. 12−16.
- Белов В. Н. Философия Германа Когена и русское неокантианство // Историко-философский ежегодник-2003. М., «Наука». 2004. — С. 333 351.
- Бердяев Н. А. А. Ланге и критическая философия // Мир Божий. 1900. — № 7. — С. 224−254.
- Бехтерев В. Теория образования наших представлений о пространстве. -СПб., 1884.- 47с.
- Бирюков Б. В. О судьбах логики и психологии в России периода «войн и революций» // Вестник Международного славянского университета. -1998.-№ 3.-С. 14−21.
- Ю.Бойко В. Н. Пространство и время у И. Канта и А. Энштейна. 2001. -262 с.
- Богомолов А. С. Кант, кантианство и европейская традиция // Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. М.: Наука, 1978.-С. 97−155.
- Вахтомин Н. К. Теория научного знания Иммануила Канта: Опыт современного прочтения. М.: Наука, 1986. — 207 с.
- Введенский А. И. Логика как часть теории познания. СПб., 1909. -349 с.
- Введенский А. И. О Канте действительном и воображаемом // Вопросы философии и психологии. — 1894. кн.25. — С. 621 — 660. — По поводу кн. г. Каринского «Об истинах самоочевидных».
- Введенский А. И. Опыт построения теории материи на принципах критической философии. Ч. 1. — СПб., 1888. — 340 с.
- Верховцева Е. В. Г. И. Челпанов как философ и его курс «Введение в философию»: автореф. дис. канд. философ, наук / Моск. гос. ун-т им. И. М. Ломоносова. М., 2002. 20 с.
- Водзинский Е. И. Русское неокантианство конца XIX начала XX вв. -Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1966. — 79 с.
- Гайденко П. П. Проблема времени у Канта: время как априорная форма чувственности // Вопросы философии. 2003. — № 9. — С. 134 151.
- Гельмгольц Г. О зрении человека: Лекция в Кенигсберге в пользу памятника Эммануилу Канту // Заграничные вести. СПб., 1864. — № 3. -С. 192−221.
- Гносеология в системе философского мировоззрения / Под общей ред. В. А. Лекторского. М.: Наука, 1983. — 383 с.
- Голованова О. В. Проблема априорного знания в философии И. Канта и в современной науке: автореф. дис. канд. философ, наук / СПб., 2002. 22 с.
- Григорян Б. Т. Неокантианство. М.: Высшая школа, 1962. — 89 с.
- Григорян М. М. Вопросы теории познания и логики в трудах И. М. Сеченова: автореф. дис. канд. филос. наук / Л., 1954. 22 с.
- Грот Н. Я. Задачи философии в связи с учением Дж. Бруно. Одесса, 1885.- 38 с.
- Грот Н. Я. Значение Канта // Вопросы философии и психологии. -1893.-Кн. 5.- С. 77−93.
- Грот Н. Я. К вопросу о реформе логики: Опыт новой теории умственных процессов. Лейпциг: Изд-во ин-та Ф. А. Брокгауза, 1882. -349 с.
- Грот Н. Я. О времени // Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 3. — С. 248 — 330- Кн. 4. — С. 381 — 490- Кн. 5. — С. 445 — 493.
- Грот Н.Я. Психология чувствований в ее истории и главных основах. -СПб., 1879−1880.-551 с.
- Грязнов Б. С. Логика. Рациональность. Творчество. М., Наука, 1982. -256 с.
- Грязнов Ю. А. Методология физики и априоризм Канта // Вопросы философии. 2000. — № 8. — С. 9−116.
- Гузенберг С. О. Очерки современной русской философии. СПб., 1911.-78 с.
- Гулыга А. В. Кант: К 200-летию избрания Канта русским академиком. — М.: Саратник, б/г. 303 с.
- Длугач Т. Б. И. Кант: от ранних произведений к «Критике чистого разума». М.: Наука, 1987. — 272 с.
- Дмитриев Ю. Я. Учение И. Канта о категориях // Категории. 1997. -№ 1.-С. 113−118.
- Ермичев А. А. Александр Иванович Введенский — русский философ-кантианец // Александр Иванович Введенский. Статьи по философии. -СПб., 1996.-С. 3−12.
- Ермичев А. А. О том, как поссорились два ученых мужа. Очерк истории нравов университетской профессуры в России начала XX в. // Вопросы философии. 2003. № 5 — С. 124−134.
- Ермичев А. А., Никулин А. Г. А. И. Введенский и Н. О. Лосский: критицизм и интуитивизм в Санкт-Петербургском университете //
- Философия в Санкт-Петербурге. Справочно-энциклопедическое издание. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. -С. 103−119.
- Жучков В. А. Система кантовской философии и ее трансформация в неокантианстве // Кант и кантианцы. Критический очерк одной философской традиции. М.: Наука, 1978. — С. 10−97.
- Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии. Учеб. пособие по курсу истории философии. — Екатеринбург: УрГУ, 1996. 326 с.
- Зеньковский В. В. История русской философии. М.: Академический проект, 2001. — 878 с.
- Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. — М.: Республика, 1997. 368 с.
- Ивановский В. Н. Ассоциационизм психологический и гносеологический. Историко-критическое исследование. Казань, 1909. -535 с.
- Избранные труды русских логиков XIX века. Сост., подготовка к печати и послесловие Н. И. Кондаков. — М.: Изд-во АН ССР, 1956. -404 с.
- Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 3. М.: Мысль, 1964. — 799 с.
- Кант И. Критика чистого разума / И. Кант- пер. Н. О. Лосского с вариантами перевода на рус. и европ. языки. М.: Наука, 1998. — 654 с.
- Кант И. Критика практического разума // И. Кант Собрание сочинений в 8-ми томах. Т. 4. М.: Чоро, 1994. — 629 с.
- Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. — 709 с.
- Каменский 3. А. Кант в русской философии начала XIX века // Вестник мировой культуры. 1960. — № 1. — С. 49−64.
- Каринский М. И. К вопросу о позитивизме // Православное обозрение. -1875.-С. 125−215.
- Каринский М. И. Классификация выводов. СПб., 1880. — 312 с.
- Каринский М. И. Критический обзор последнего периода германской философии. СПб., 1873. — 387 с.
- Каринский М. И. Об истинах самоочевидных // Журнал Министерства народного просвещения. 1893. Ч. 285. С. 295 — 354- ч. 286. С. 450 -498- ч. 288. С 431−516.
- Каринский М. И. Отрывок из литографированного курса «Логика» (1884 1885) // Вопросы философии. — 1947. — № 2. — С. 387 — 396.
- Каринский М. И. По поводу полемики г. Введенского против моей книги «Об истинах самоочевидных» // Журнал Министерства Народного Просвещения, 1887.
- Каринский М. И. Явление и действительность // Православное обозрение. 1878. — № 4. Апрель.
- Кедров Б. М. Единство диалектики, логики и теории познания. — М.: Госполитиздат, 1963 -295 с.
- Кобзарь В. И. Кафедра логики Санкт-Петербургского университета и история преподавания логики в России // Вече: Альманах русской философии и культуры. СПб., 1996. Вып. 7. С. 56 76.
- Кобзарь В. И. К истории логики в России // Международная конференция «Развитие логики в России: итоги и перспективы». М., 1997.-С. 19−21.
- Кобзарь В. И. Логика М. И. Владиславлева // Я (А. Слинин) и Мы. -СПб., 2002. С. 265−279.
- Кобзарь В. И. С. И. Поварнин // Философия в Санкт-Петербурге. Справочно-энциклопедическое издание. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. — С. 200−224.
- Круглов А. Н. О происхождении априорных представлений у Канта // Вопросы философии. 1998. — № 10. — С. 126−132.
- Кучеренко А. В. Анализ форм чувственности и отношение чувственности к рассудку (по работе И. Канта «Критика чистого разума»): автореф. дис. канд. филос. наук / СПб., 2001. 20 с.
- Лапшин И. И. Законы мышления и формы познания. СПб., 1892. -287 с.
- Лапшин И. И. Логика отношений и силлогизм. Петроград, 1917. -215 с.
- Лопатин Л. М. Учение Канта о познании // Философские характеристики и речи. М, 1911. — С. 56 — 69.
- Лосский Н. О. История русской философии. М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. — 460 с.
- Малахов В. С. Русская духовность и немецкая ученость // Вопросы философии. 1993. — № 5. — С. 111 — ИЗ.
- Мамардашвили М. К. Кантианские вариации. — М.: «Аграф», 1997. — 320 с.
- Миртов Д. П. М. И. Каринский и его философские воззрения // Мысль и слово.- 1918.-Т. 2.4. 1.- С. 3−75.
- Михайлов К. А. Логические идеи И. Канта: автореф. дис. канд. философ, наук / М., 2003. 22 с.
- Москаленко Ф. Я. Учение об индуктивных выводах в истории русской логики. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1955. — 219 с.
- Назаренко П. А. К вопросу о роли Иммануила Канта в развитии формально-логического учения о понятии // Материалы V Общероссийской научной конференции «Современная логика: Проблемы теории, истории и применения в науке». СПб., 1998. -С. 247 -249.
- Назаренко П. А. Психологическое направление в трудах немецких логиков второй половины XIX века // Первый Российский философский конгресс «Человек-Философия-Гуманизм». Т. 3.
- Онтология, гносеология, логика и аналитическая философия. СПб., 1997.-С. 218−223.
- Наумова Т. В. Русское неокантианство конца XIX начала XX вв. // Русская философия XX века: национальные особенности, течения и школы, политические судьбы. — Екатеринбург. — С. 134−137.
- Нижников С. А. К специфике русского неокантианства (заметки о философии веры Введенского) // Вестник Рос. Ун-та дружбы народов. Философия. М., 1998. — № 1. С. 59 — 65.
- Никоненко В. С. М. И. Владиславлев // Философия в Санкт-Петербурге. Справочно-энциклопедическое издание. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С. 83 — 93.
- Никулин О. В. Неокантианство в Германии: истоки, направления, имена // Немецкая философия конца XIX — первой половины XX века. Екатеринбург, 2002. — С. 42 — 69.
- Никулина О. В. Философия И. И. Лапшина: проблема классификации русского неокантианства // Русская философия между Западом и Востоком: материалы V Всерос. заочной конференции. — Екатеринбург, 2001.-С. 168- 172.
- Оников В. И. Критический анализ философии Г. И. Челпанова: автореф. дис. канд. филос. наук / М.: Изд-во МГУ, 1983. 18 с.
- Павлов А. Г. Николай Яковлевич Грот, его место в истории русской философии // Вопросы философии. 2003. — № 10. — С. 114 — 123.
- Печурчик Ю. Ю. Учение Канта о рефлектирующей способности суждения: автореф. дис. канд. филос. наук / СПб., 1996. 21 с.
- Попов П. С. О курсе логики М. И. Каринского // Вопросы философии. -1947.-№ 2-С. 386−387.
- Попов П. С. Учение Л. В. Рутковского об умозаключениях и их классификации // Очерки по истории логики в России. М., 1962. С. 171−190.
- Радлов Э. Каринский. Творец русской критической философии. -Петроград, 1917. 38 с.
- Райнов Т. И. М. И. Каринский (1840−1917) // Вестник Европы. 1917 -№ 9. С. 419−421.
- Сеченов И. М. О предметном мышлении с физиологической точки зрения // Русская мысль. 1894. № 1. — С. 255−262.
- Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга. М., 1952. — 232 с.
- Серебренников В. Новая книга о философии Канта // Вопросы философии и психологии. 1894. — Кн. 23. — С. 407−423. — Рец. На кн.: Об истинах самоочевидных / М. И. Каринский. — СПб., 1893.
- Синельников Д. П. О возможности актуализации методологического опыта русских историков-неокантианцев // Вестник Омского университета, 1996. Вып. 2. — С. 71−75.
- Смирнов В. А. Иммануил Кант и современная логика // Кантовский сборник. Калининград. 1989. Вып. 14. С. 51 — 58.
- Смирнова Е. Д. Логика и философия. М.: Россиэн, 1996. — 299 с.
- Соболева Е. А. Психологические аспекты критицизма И. Канта // Философские науки. 2004. — № 5. — С. 28−40.
- Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1886. — 385 с.
- Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка // Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998. С. 175−464.
- Стяжкин Н. И., Силаков В. Д. Краткий очерк истории общей и математической логики в России. М., «Высшая школа», 1962. — 8 7 с.
- Суслова Л. А. К вопросу о месте и значении трансцендентальной логики в философской системе Канта // Материалы V общероссийскойнаучной конференции «Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке». — СПб., 1998. С. 347 — 350.
- Филиппов Л. И. Неокантианство в России // Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. — М., 1978. — С. 286−316.
- Тоноян Л. Г. Учение о понятии в неокантианстве // Кантовский сборник. Калининград, 1988.-С. 133−141.
- Челпанов Г. И. Психология. Философия. Образование: Избранные психологические труды. Москва-Воронеж, 1999. — 520 с.
- Челпанов Г. И. К вопросу об априорности и врожденности в современной философии // Известия Киевского университета. — 1892. -№ 10.-С. 1−14.
- Челпанов Г. И. Об априорных элементах познания // Вопросы философии и психологии. 1901. — Кн. 59. — С. 529−559.
- Челпанов Г. И. Об отношении психологии к философии // Вопросы философии и психологии. — 1906. Кн. 83. — С. 311— 325.
- Челпанов Г. И. Основные направления в современной теории познания // Мир Божий. 1904. — № 9. — С. 1−16.
- Челпанов Г. И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. Киев, 1896. Ч. 2. — 318 с.
- Челпанов Г. И. Учебник логики. — М.: Прогресс, 1994. 241 с.
- Челпанов Г. И. Философия Канта // Мир Божий. 1903. — № 3. — С. 124.
- Чуманов Л. С. Гносеология и логика в философской системе И. И. Лапшина: автореф. дис. канд. филос. наук. М., 2000. — 22 с.
- Чупахин И. Я. Вопросы теории понятия. Л.: Изд-во Ленинград, унта, 1961.-140 с.
- Чупахин И. Я. Методологические проблемы теории понятий. — Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1973. 104 с.
- Шатилов Д. А. Неокантианство в России // Соорник трудов молодых ученых Волгоград. Ун-та. Волгоград, 1993. — С. 67−68.
- Шлет Г. Г. История как проблема логики. М., 1916. Ч 1−8. — 476 с.
- Шубин В. И. О русском кантианстве и неокантианстве в журнале «Логос» // Кант и философия в России. М.: Наука, 1994. С. 227−248.
- Шуман А. Н. Философская логика. Минск, 2001. 321 с.
- Шуранов Б. М. Русская логика переломной эпохи (1880−1930) в социокульторологическом аспекте: автореф. дис. канд. филос. наук. М., 2000.-18 с.
- Шуранов Б. М., Бирюков Б. В. Из истории логики отношений: вклад русской философии конца XIX века (Каринский и Рутковский) // Вестник Международного славянского университета. 1997. — № 2. — С. 56−61.
- Философское содержание русских журналов нач. XX века. Статьи, заметки и рецензии в лит.-обществ. и филос. изданиях, 1901 1922 гг.: библиограф, указатель / отв. ред. А. А. Ермичев. — СПб., 2001. — 478 с.