Проблема грамматических помет во фразеологическом словаре современного русского литературного языка
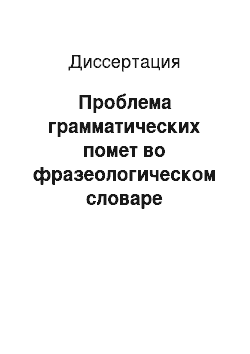
Поскольку ФЕ является органическим единством образующих ее раз-ноярусных элементов языковой иерархии, постольку фразеологическая норма представляет собой многоплановое и комплексное явление. Норма фразеологии в плане выражения регулирует, во-первых, правильное воспроизведение особенностей внутреннего устройства фразеологизма — морфологического оформления компонентовво-вторых, внешние… Читать ещё >
Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1. Определение понятия «глагольная фразеологическая единица»
- 2. Норма во фразеологии и проблема ее кодификации
- 3. Грамматические пометы во фразеологических словарях русского литературного языка
- 4. Проблема грамматических помет и их система во фразеологическом словаре русского языка
- ГЛАВА I. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ В СИСТЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОМЕТ
- 1. Морфологическая парадигма и морфологическая норма фразеологической единицы
- 2. Исходная форма глагольной фразеологической единицы
- 3. Глагольная фразеологическая единица с полной парадигмой в аспекте видовой парадигмы)
- 3. 1. Фразеологическая ёдиница с глаголом-компонентом в форме совершенного и несовершенного вида
- 3. 2. Фразеологическая единица с глаголом-компонентом в форме несовершенного вида
- 3. 3. Фразеологическая единица с глаголом-компонентом в форме совершенного вида
- 4. 1. Глагольная фразеологическая единица с неполной парадигмой наклонения
- 4. 2. Глагольная фразеологическая единица с неполной парадигмой времени
- 4. 3. Глагольная фразеологическая единица с неполной парадигмой времени и наклонения
- 4. 4. Глагольная фразеологическая единица с неполной парадигмой лица
- 5. Глагольная фразеологическая единица с нулевой парадигмой
- ГЛАВА II. СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОРМА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ В СИСТЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОМЕТ
- 1. Определение понятия «синтаксическая норма фразеологической единицы»
- 2. Сочетаемость фразеологической единицы
- 3. Структура фразеологической единицы
- 4. Возможность/невозможность свободного расположения компонентов фразеологической единицы
- 5. Возможность/невозможность дистанционного расположения компонентов фразеологической единицы
- 6. Синтаксическая позиция фразеологической единицы в тексте
Проблема грамматических помет во фразеологическом словаре современного русского литературного языка (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Данная диссертационная работа посвящена проблеме грамматики фразеологической единицы и полноценного отражения грамматических свойств фразеологической единицы во фразеологических словарях русского литературного языка при помощи лексикографических средств — помет.
Интерес к фразеологической единице и различным аспектам ее функционирования в отечественной лингвистике возрастает начиная с 60—70-х годов XX века. Именно в это время издается первый фундаментальный фразеологический словарь — «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова, ставший основой русской фразеологии и фразеологической лексикографии на многие десятилетия. Также в этот период активно изучается и анализируется грамматическая природа устойчивых выражений. Лингвистические исследования проводятся в разных направлениях. Наряду с разработкой теоретических основ русской фразеологии и фразеологической лексикографии (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, В. Л. Архангельский, М. Ф. Палевская, А. М. Бабкин, Л. И. Ройзензон, А. И. Молотков, Е. И. Диброва, Б. С. Шварцкопф, И. Л. Городецкая), отечественными учеными-фразеологами изучаются и описываются частные аспекты грамматики фразеологической единицы: специфика реализации отдельных грамматических категорий в именных и глагольных фразеологизмах (В. А. Лебединская, А. П. Окунева, Ф. Я. Ни-коновайте, Г. И. Лебедева, А. М. Чепасова, А. Н. Тихонов, В. П. Жуков, А. В. Жуков), особенности синтаксической позиции и синтаксической сочетаемости фразеологизма в тексте (В. П. Жуков, В. И. Бурмако, Д. И. Игнатьева, М. Т. Тагиев, Е. Г. Панасенко, Г. В. Бажутина).
В конце 80-х—90-х годах вновь проявляется интерес к грамматической природе фразеологического оборота, появляются новые работы и исследования (В. Н. Телия, Л. П. Гашева, А. Ф. Богданова, В. П. Жуков, А. В. Клевцова, А. А. Хуснутдинов, Т. Н. Ляхова, В. М. Ризаева, К. П. Сидоренко). Указанные исследования подготовили почву для нормативного осмысления грамматических свойств фразеологической единицы и лексикографического представления этих свойств в словарях и справочниках (Б. С. Шварцкопф, В. А. Ицкович, А. М. Чепасова, И. И. Макеева, И. Я. Лепешев, Т. И. Кошелева, Л. И. Король, В. Н. Гришакова, Э. X. Жу-раев). Это, в свою очередь, позволило появиться на свет фразеологическим словарям нового поколения, где по-новому, по сравнению с фразеологическим словарем А. И. Молоткова, решается проблема подачи и размещения грамматической информации — «Словарь образных выражений русского языка» под редакцией В. Н. ТелииГ. И. Яранцев «Русская фразеология: Словарь-справочник" — В. П. Фелицина, В. М. Мокиенко «Русские фразеологизмы" — А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко «Фразеологизмы в русской речи» и другие.
Объектом нашего исследования стала глагольная фразеология русского языка, а предметом исследования — грамматические свойства глагольной фразеологической единицы русского языка.
Материал исследования. Основным источником практического материала для диссертационного исследования послужили «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова (М., 1967) и «Фразеологический словарь русского литературного языка конца ХУШ-ХХ в.» под редакцией А. И. Федорова (Новосибирск, 1991). Дополнительными источниками при сборе иллюстративного материала стали: «Словарь образных выражений русского языка» под редакцией В. Н. Телии (М., 1995), Р. И. Яранцев «Русская фразеология: Словарь-справочник» (М., 1997), Е. А. Быстрова, А. П. Окунева, Н. М. Шанский «Учебный фрагеологический словарь русского языка» (Л., 1984), В. П. Жуков, А. В. Жуков «Школьный фразеологический словарь русского языка» (М., 1994).
Мы ограничиваем исследование анализом 1500 глагольных фразеологических единиц, следующих в алфавитном порядке. Представляется, что исходя из цели нашего исследования такое ограничение вполне оправдано, поскольку позволяет в полном объеме увидеть разнообразный фразеологический материал и выработать четкую методику грамматического описания глагольных фразеологизмов в словарях и грамматиках.
Целью данной диссертационной работы является разработка системы грамматических помет для фразеологического словаря современного русского литературного языка.
Для достижения указанной цели в работе поставлены конкретные задачи: определение понятия «глагольная фразеологическая единица" — анализ достижений отечественных лексикографов в представлении и размещении грамматической информации в словарной статье фразеологического словаряопределение понятий «грамматическая норма фразеологической единицы" — определение понятий «морфологическая норма фразеологической единицы», «синтаксическая норма фразеологической единицы" — выявление факторов, влияющих на формирование фразеологической парадигмы и на реализацию фразеологической нормы на морфологическом и синтаксическом уровнях языка.
При решении поставленной цели и задач нами использовались такие методы исследования, как метод сопоставительного анализа, метод аналогии и описательный метод.
Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, возрастающим общественным интересом к нормативности употребления языковых единиц, в том числе и фразеологических, желанием унифицировать разнородное употребление фразеологических единиц в языке и речиво-вторых, стремлением создать систему грамматических помет для фразеологического словаря, близкую по разработанности к системе грамматических помет, созданной для слов в толковых словарях русского литературного языка.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы диссертации могут быть использованы, с одной стороны, при создании современного фразеологического словаря русского литературного языка, с другой стороны, при разработке курсов и программ по русской фразеологии и культуре русской речи для школ и высших учебных заведений.
Структура работы отражает логику решения поставленных задач. Диссертация состоит из теоретического введения, двух глав («Морфологическая парадигма фразеологической единицы в системе грамматических помет" — «Синтаксическая норма фразеологической единицы в системе грамматических помет»), заключения и библиографии.
Во введении «Теоретические посылки иссследования» определяются основные понятия — «фразеологическая единица», «глагольная фразеологическая единица», «фразеологическая норма», «грамматическая помета" — анализируются словарные статьи фразеологических словарей русского языка с точки зрения представленности в них грамматических помет, их объема и содержания.
В первой главе «Морфологическая парадигма фразеологической единицы в системе грамматических помет» рассматриваются, во-первых, понятия «морфологическая парадигма фразеологической единицы» и «морфологическая норма фразеологической единицы», выявляются факторы, влияющие на их формирование и реализациюво-вторых, анализируются фразеологические единицы с полной, неполной и нулевой морфологической парадигмой, предлагаются грамматические пометы, отражающие специфику морфологической нормы каждой из групп фразеологизмов.
Во второй главе «Синтаксическая норма фразеологической единицы в системе грамматических помет» дается толкование понятия «синтаксическая норма фразеологической единицы», определяется ее структурапосле чего рассматривается каждый из составляющих элементов синтаксической нормы фразеологической единицы для каждой группы устойчивых выражений.
В заключении делаются основные теоретические выводы и предлагается система грамматических помет (с их условными обозначениями) для фразеологического словаря русского литературного языка.
В начале третьего тысячелетия интерес к фразеологическим единицам не ослабевает, так как, являясь полноправными членами языковой системы, активно изменяющейся под влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов, они также подвергаются значительным изменениям: одни из них получают новое смысловое звучание, другие изменяют свою грамматическую природу, третьи — полностью модифицируются. Поэтому ученым-фразеологам еще предстоит оценить, насколько современные преобразования языковой системы и структуры отражаются на фразеологической единице и ее употреблении.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
§ 1.
Определение понятия «глагольная фразеологическая единица».
В языке наряду со словами функционируют более сложные лингвистические единицы — устойчивые обороты, фразеологизмы, а по терминологии В. В. Виноградова, фразеологические единицы (далее ФЕ). До сих пор лингвистами-фразеологами не выработано единого подхода, критерия к определению сущности ФЕ, не сформулированы ее основополагающие, релевантные признаки.
В языкознании существует множество теорий — коммуникативная, семантическая, структурная, — представители которых выдвигают свои дифференцирующие признаки фразеологического оборота. Одним из первых на особый статус фразеологических оборотов в языке обратил внимание А. А. Шахматов. В своей работе «Синтаксис русского языка» А. А. Шахматов постарался отграничить ФЕ, неразложимые словосочетания (по его терминологии) от других языковых единиц и представить классификацию их на основе выдвинутых им признаков. По его убеждению, в неразложимых словосочетаниях связь компонентов может быть объяснена с исторической точки зрения, но она непонятна, немотивированна с точки зрения живой системы современных грамматических отношений. Неразложимые словосочетания — «.археологический пережиток предшествующих стадий языкового развития» [Цит. по: Виноградов 1977:
140]. А. А. Шахматов ясно видел и понимал тесное взаимодействие лексических и грамматических форм и значений в процессе образования неразложимых словосочетаний — семантическая неразложимость словесной группы ведет к ослаблению или даже к утрате ею грамматической расчлененности, то есть от семантического переосмысления неразложимого словосочетания находится в прямой зависимости его грамматическое преобразование. В результате изменения грамматической природы и переосмысления значения описываемого словосочетания, в нем вместо живого значения остается немотивированное употребление. Таким образом, релевантным признаком ФЕ по.
A. А. Шахматову была грамматическая неразложимость словосочетания, то есть способность или неспособность «.словосочетания быть расчленяемым на семантические компоненты, на слова» [Там же: 142]. Исходя из данного понимания фразеологизма, ученый выделил четыре группы неразложимых словосочетаний, отличающихся друг от друга степенью грамматической разложимости и лексического преобразования.
В. В. Виноградов, опираясь на теории А. А. Шахматова и Ш. Балли, создал свою концепцию ФЕ в русском языке. Грамматической неразложимости и семантическому переосмыслению А. А. Шахматова он противопоставил Тезис, что в устойчивых словосочетаниях «одни синтаксические отношения свободно производятся, другие лишь по традиции воспроизводятся» [Виноградов 1977: 142], а сами словосочетания отличаются друг от друга степенью синтаксической слитности образующих их компонентов.
B. В. Виноградов также выделил четыре группы ФЕ: 1) фразеологические сращения — «они немотивированны и непроизводны. В их значении нет никакой связи, даже потенциальной, со значением их компонентов» [Там же: 145]- 2) фразеологические единства, которые «.легко расшифровываются как образные выражения» [Там же: 151]- 3) фразеологические сочетания, образуемые «.реализацией несвободных значений слов» [Там же:
159]- 4) фразеологические выражения — «.сочетания слов индивидуальные, случайные и неустойчивые.» [Там же: 143].
В. Л. Архангельский, создавший широко известную фразеологическую концепцию, в дефиниции ФЕ выделял два релевантных признака фразеологизма: 1) известность определенному языковому коллективу (говорящему на данном языке) того или иного оборота- 2) воспроизводимость оборота в речи в качестве устойчивого образования. А. И. Молотков, автор одного из основных фразеологических словарей русского языка, подчеркивал, что фразеологизм — это, прежде всего, такая единица, которая состоит из слов, то есть неотъемлемый признак ФЕ — компонентный состав. Наряду с этим признаком А. И. Молотков приписывает фразеологическим оборотам следующие категориальные (согласно его терминологии) признаки: 1) лексическое значение- 2) грамматические категории, с которыми связывается представление о грамматическом значении фразеологизма.
Представители семантического направления во фразеологии (В. П. Жуков, А. М. Бабкин, Б. А. Ларин, В. Н. Телия и др.), в отличие от сторонников структурного течения, считали важнейшим признаком ФЕ метафористичность, то есть переосмысление лексико-грамматического состава фразеологизма или одного из компонентов фразеологизма, которое лежит, по их убеждению, в основе его образования и создания его структурно-семантической специфики.
М. Т. Тагиев дифференциальным признаком ФЕ называет «собственное окружение, не вытекающее из валентных отношений слов-компонентов» [Тагиев 1996: 24]. Напротив, Н. М. Шанский выделяет целый ряд признаков, определяющих природу устойчивого выражения: 1) воспроизводимость- 2) постоянное лексическое значение, состав и структура- 3) наличие двух или более основных ударений- 4) компонентный состав. Причем, по мнению ученого, каждый из выдвинутых им дифференциальных признаков фразеологизма важен, и только в комплексе они определяют сущность ФЕ. В связи с этим он дает такое толкование фразеологического оборота: «.всякая значимая единица языка, воспроизводимая в готовом виде, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, является фразеологизмом» [Шанский 1996: 33].
Разные мнения и взгляды ученых на природу и характер ФЕ приводят к разному пониманию объема и структуры русской фразеологии. Нет единства среди исследователей-фразеологов по проблеме включения/невключения в состав фразеологизмов предложно-именных сочетаний, сложных союзов, выражений терминологического характера, пословиц, поговорок, крылатых выражений. Это, в свою очередь, не позволяет до сих пор четко обозначить границы и состав русской фразеологии. Именно на этой проблеме акцентирует внимание Н. М. Шанский в своей книге «Фразеология современного русского языка», отмечая «.насколько важно установление того, что представляет собой фразеологический оборот как значимая языковая единица, свидетельствует лексикографическая практика, когда в словарях в качестве фразеологизмов приводятся очень часто языковые факты, которые никакого отношения к фразеологии не имеют» [Шанский 1996: 20].
Таким образом, исходя из исследований ученых-фразеологов о характере ФЕ как самостоятельной и значимой единицы языка, мы под ФЕ будем понимать такую языковую единицу, которая состоит из двух или более компонентов, обладает целостной структурой, единым лексическим и грамматическим значением, воспроизводится, а не создается в речи всякий раз, как возникает необходимость.
Традиционно в языкознании сложилась система характеристики и описания ФЕ с различных позиций: происхождения, употребления, экспрессивно-стилистической окраски, структуры, соотнесенности с той или иной частью речи (как всего фразеологизма в целом, так и по грамматически стержневому компоненту). Предметом нашего исследования является глагольная фразеологическая единица (далее ГФЕ), понимаемая разными учеными по-разному.
По убеждению А. Н. Тихонова, основными признаками ГФЕ являются: «.а) наличие глагольного компонента в устойчивом оборотеб) сохранение основных (или хотя бы одной) грамматических категорий глагола — вида, лица, времени, наклонения и др.- .в) способность выступать в синтаксической функции глагола» [Тихонов 1968: 143]. Поэтому к глагольной фразеологии ученый относит такие ФЕ, как влачить жалкое существование, заткнуть за пояс, греть руки, и не относит фразеологизмы куда глаза глядят, рукой подать, от нечего делать, поскольку «такие обороты не обладают необходимыми свойствами глагольных фразеологизмов — не имеют грамматических категорий глагола и не выступают в функции, характерной для глагола» [Там же: 143−144].
В. А. Лебединская, исследовавшая граматические категории на примере глагольной фразеологии, придерживается иного мнения: «К глагольным мы относим такие фразеологические единицы, которые имеют в своем составе глагольный компонент. При этом не принимается во внимание, что в современной или этимологической структуре выделяется данный компонент. Наряду с фразеологизмами бить баклуши, делать визит, положить зубы на полку рассматриваются фразеологизмы милости просим, хоть шаром покати и т. п.» [Лебединская 1971: 62].
А. И. Молотков к ГФЕ относит такие устойчивые обороты, которые обладают «.во-первых, общим значением действия, которое распространяется на различные семантико-тематические разряды фразеологизмов с их частными лексическими значениями. Соответственно в сочетании со словами они могут быть предикатом и объектом действия и употребляться в синтаксической функции сказуемого предложения или дополнения. Во-вторых, они объединены тем, что имеют грамматические категории лица, числа, вида, времени, залога и в прошедшем времени категорию рода. Возможны при этом разные соотношения грамматических категорий у фразеологизмов» [Молотков, 1977: 132]. При этом А. И. Молотков выделяет два разряда ГФЕ — глагольные фразеологизмы и глагольно-пропозици-ональные фразеологизмы — различающиеся только по структуре: первые соотносятся только со словосочетанием, вторые — с предложением.
Несмотря на разный подход к пониманию ГФЕ, ученые едины в том, что такой фразеологизм должен содержать глагол, занимающий грамматически стержневое положение в его структуре. Поэтому, таким образом, в определении ГФЕ мы будем придерживаться точки зрения А. В. Лебединской и под ГФЕ будем понимать такую ФЕ, в которой главным компонентом является глагол.
§ 2.
Норма во фразеологии и проблема ее кодификации.
Современный этап в изучении фразеологии характеризуется тем, что, наряду с традиционными проблемами — определение состава фразеологии, типов фразеологических оборотов и установление границ между ними и другие, — активно разрабатываются вопросы, связанные с определением лингвистической сущности ФЕ, ее семантических и грамматических свойств, решаются задачи, имеющие практическое значение. В этой связи выдвигаются и широко обсуждаются принципы подачи ФЕ в обычных толковых и специальных словарях. В свою очередь, проблема лексикогра-фирования устойчивых выражений связана с определением понятия нормы как общеязыкового явления, так и относительно отдельного уровня языка.
Языковая норма — одна из сложнейших проблем, многомерность которой определяется фактами историческими, культурно-социологическими и собственно лингвистическими. Проблема языковой нормы с середины XX века стала предметом всестороннего исследования и теоретических обобщений. В настоящее время как в отечественном, так и в зарубежном языкознании имеется значительное число работ, посвященных вопросу нормы языка. Однако сущность языковой нормы и ее место в системе языка остаются все еще недостаточно выясненными. Сложность решения данных вопросов объясняется тем, что норма связана с такими многогранными явлениями, как язык и узус, система и структура и т. п. Поэтому не случайно в современном языкознании существует большое количество определений понятия «норма языка».
Анализ определений и характеристик сущности языковой нормы позволяет выделить два аспекта этого понятия: с одной стороны, норма — это образец, обязательный для всех, владеющих языком, то есть норма — литературно-языковой идеал, а, с другой стороны, норма — это общеобязательное правило употребления языковых средств в речис одной стороны, норма — как статическое явление, действующая на протяжении многих поколений, а, с другой стороны, норма — как динамическая сущность, иными словами, норма — это «.не только результат речевой деятельности, закрепленной в памятниках письменности, культуры, но и создание инноваций в условиях их связи с потенциальными возможностями системы языка и с реализованными, устоявшимися образцами» [Скворцов 1996: 43].
Приведем несколько определений нормы, наиболее распространенных в современном языкознании: «.норма — это совокупность наиболее пригодных („правильных“, „предпочтительных“) для обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» [Ожегов 1974: 259−260]- «Норма — .система обязательных реализаций, принятых в данном коллективе и данной культурой.» [Косериу 1967: 173], причем, эта система, по убеждению Э. Косериу, соответствует не тому, что можно сказать, а тому, что уже сказано и по традиции говорится в рассматриваемом обществе и включает модели, исторически уже реализованные.
Но норма по существу своему охватывает все названные аспекты и стороны своей характеристики и, таким образом, может быть определена как совокупность образцовых, общеобязательных и общепринятых правил употребления средств языка.
В языкознании сложилась традиция разграничения норм соответственно языковым уровням. Поэтому общепринято выделять нормы орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические, стилистические.
Признание фразеологии в качестве самостоятельной области языкознания, принадлежности ФЕ к самостоятельному уровню языка (фразеологическому пласту) само по себе требует распространения на фразеологию понятия «норма» и утверждения понятия «фразеологическая норма». Но при этом возникает определенная сложность употребления данного понятия. Эта сложность объясняется прежде всего двойственной природой ФЕ: фразеологизм функционирует в языке, с одной стороны, на правах слова, так как обладает целым значением, а, с другой стороны, сближается со словосочетанием, так как имеет раздельнооформленную структуру. Таким образом, ФЕ представляет собой единство двух противоположностей — цельности семантического содержания и раздельнооформленности структуры, то есть фразеологический оборот — это лексико-синтаксиче-ская единица.
Поскольку ФЕ является органическим единством образующих ее раз-ноярусных элементов языковой иерархии, постольку фразеологическая норма представляет собой многоплановое и комплексное явление. Норма фразеологии в плане выражения регулирует, во-первых, правильное воспроизведение особенностей внутреннего устройства фразеологизма — морфологического оформления компонентовво-вторых, внешние грамматические связи ФЕ с контекстом, то есть изменения грамматически стержневого компонента (если формы компонентов ФЕ не являются целиком фиксированными). В плане же содержания норма фразеологии отвечает за правильное воспроизведение семантических и стилистических характеристик ФЕ. Таким образом, организующий принцип фразеологической нормы обусловлен ее фиксированным характером: воспроизводится в речи и компонентный состав, и внутренняя грамматическая организация ФЕ. Тем самым сложность и многоплановость фразеологической нормы проявляется и в том, что она включает в себя все те аспекты, которые по отдельности свойственны той или иной норме свободного употребления. Норма ФЕ, определяя параметры употребления всех разноярус-ных элементов фразеологизма, выступает как бы сложением конкретных норм разных уровней.
Исследования показывают, что слова в фразеологическом обороте не обладают собственным значением (значение части здесь подчинено целому) и не реализуют свойственных им как лексемам отношений с другими словами (синонимических, антонимических и т. п.). Вместе с тем, морфологическая форма компонентов и синтаксическая структура ФЕ стремятся воспроизводить системные отношения, характерные для языка в целом. Так, например, для фразеологизма свойственны ограничение или полная утрата в его составе потенциала сочетаемости, неспособность замещаться синонимами или местоименными словами, наличие в составе ФЕ таких слов, значений и форм, которые не соответствуют современному состоянию системы данного языка. Исключение из такого положения вещей составляют элементы внешней грамматической связи ФЕ со словами в тексте, но они также реализуются не всегда в полном объеме регулярной парадигмы. В итоге, ФЕ представляется, по словам Б. С. Швардкопфа, неким «микромиром», где не наблюдается регулярной реализации системы языка: элементы фразеологизма, как правило, имеют фиксированный характер, а его парадигматика ограничена (в различной степени для различных ФЕ). Поэтому, по мнению ученого, исходя из понимания нормы языка как ограничения реализации возможностей языковой системы, фразеологическая норма может интерпретироваться как единство норм двух уровней:
1) нормы 1-го порядка, ограничивающие реализацию системных возможностей словосочетаний (предложений) и объединяющие ФЕ с соотносительными с ней свободными словосочетаниями (предложениями) и их нормами;
2) нормы 2-го порядка — собственно фразеологические, накладывающие на нормы первого порядка дополнительные узуальные ограничения в реализации системных возможностей [см.: Шварцкопф 1983: 158−160, Ицкович, Шварцкопф 1983: 182−183- Шварцкопф 1970: 159−160].
Иными словами, специфика нормы ФЕ заключается в двойном ограничении реализаций системных возможностей единиц, входящих в качестве компонентов в состав ФЕ («ограничение ограничений»). В результат те, фразеологическая норма сводит реализацию системных возможностей языка к минимуму. Но, поскольку, по убеждению Б. С. Шварцкопфа, «действие регулярных правил системы сведено в ФЕ к минимуму, постольку максимально возрастает роль самой нормы ФЕ. Ее определяющее значение в синхронном плане заключается в защите и сохранении фиксированных параметров функционирования ФЕ, тем самым фразеологическая норма осуществляет свою „сохранительную“ функцию» [Шварцкопф 1970: 164−165].
Здесь необходимо оговорить следующее — в данной работе фразеологическая норма («ограничение ограничений») нами будет рассматриваться и анализироваться исключительно в грамматическом аспекте, то есть будет исследоваться грамматическая фразеологическая норма. При описании грамматической нормы ФЕ мы будем придерживаться определения грамматической нормы, данного Н. Ю. Шведовой: «Грамматическая норма — это такое образование и употребление форм и категорий, которое, характеризуясь регулярной воспроизводимостью в коллективной языковой практике носителей литературного языка, вводит соответствующие языковые единицы в системные соотношения и связи с другими единицами языковой системы» [Шведова 1967: 211].
От объективно существующей нормы следует отличать ее кодификацию — описание и закрепление нормы в справочниках, словарях, грамматиках. По словам Ф. Данеша, одного из ярких представителей Пражского лингвистического кружка, впервые отделившего кодификацию от языковой нормы, «кодификация — эффективное орудие планомерного, перспективного влияния на литературный языкона имеет характер организующего, контролирующего динамическое равновесие литературного языка средства, обеспечивая его относительно свободное функционирование в соответствии с актуальными коммуникативными потребностями общества» [Данеш 1988: 282]. Именно кодификация представляет норму носителям языка в явном, сформулированном виде.
В современной лингвистике многие исследователи в своих работах рассматривали понятие «кодификация» и ее соотношение с языковой нормой (В. В. Виноградов, Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Б. С. Шварцкопф, Л. В. Скворцов, Е. Н. Ширяев и др.), но, в первую очередь, их интересовал вопрос, насколько адекватно кодификация отражает современное состояние языка. Так, В. А. Ицкович, отмечая положительные стороны кодификации, акцентирует внимание на ее недостатках. По его мнению, главным (внутренним) недостатком кодификации является сам факт ее существования: «Авторитетное пособие, кодифицирующее языковую норму, нередко становится образцом для следующих пособий и справочников, закрепляя на многие годы норму того времени, когда это пособие создавалось» [Ицкович 1970: 29]. Другой (внешний) недостаток кодификации вытекает из первого — несоответствие современной норме, ориентация на старую норму, так как современная норма стремится опираться на образцы классической художественной литературы. Выход из создавшейся ситуации, по убеждению В. А. Ицковича, может быть только один — более широкое и разностороннее описание языковых явлений, то есть более детализированная кодификация литературной нормы, так как именно «в этих условиях разрыв между предписаниями кодификации и современной языковой практикой может быть сведен к минимуму.» [Ицкович 1970: 30]. Для этого, как далее отмечает ученый, необходимо, во-первых, чтобы кодификация опиралась на описание современного литературного языкаво-вторых, чтобы кодификация указывала на диахроническую перспективу, шире регистрировала и оценивала варианты нормы — «.не только „нейтральную“, но и, с одной стороны, новое, закрепившееся по крайней мере в периферийных сферах литературного языка, а с другой стороны, уходящее, еще общепонятное, широко распространенное в массиве читаемой литературы, но уже отсутствующее в современной письменной форме литературного языка» [Там же]. Таким образом, кодифицируя тот или иной факт языковой системы, необходимо придерживаться «.разумной середины — сочетание умеренного консерватизма, защищающего язык от чрезмерного наплыва новшеств и обеспечивающего его историческую преемственность и устойчивость, и предусмотрительного либерализма, своевременно подмечающего и фиксирующего то новое, что стало современной нормой, (сосуществующей со старой или функционирующего вопреки ретроспективной кодификации как единственно возможной)» [Ицкович 1970: 39].
Одна из задач кодификации — нормативная идентификация языковых фактов, то есть их оценка как «нормы» и «не нормы». Каждый, занимающийся данной проблемой, выдвигает свои критерии нормативности — соответствие языкового факта системе литературного языка и тенденциям его развитияширокая распространенность и массовая воспроизводимость в литературных текстах, включая разговорную речь образованных людейкультурный престиж употребления языкового явления в речи высокообразованных людей и профессионалов в этой областисоответствие национальному этикету и системе этических норм, хорошему вкусу и т. д. Иными словами, закрепление того или иного языкового явления как «норма» зависит как от лингвистических, так и от экстралингвистических условий. К первым относится системная обусловленность явления, его соответствие тенденциям развития языкако вторым — влияние школьной традиции, общественная необходимость, языковой вкус общества и так далее.
Трудность кодификации фразеологической нормы связана со сложной и противоречивой природой самой ФЕ. Как уже было отмечено, фразеологизм, с одной стороны, представляет собой единство элементов различных уровней, каждый из которых должен быть тщательно рассмотрен и проанализированс другой стороны, содержит элементы, немотивированные с точки зрения современного состояния языковой системы, пренебрежение которыми может привести к нарушению «облика» фразеологического оборота, отражающего национальную культуру и менталитет русского народа. Сложная структура ФЕ находит свое отражение в сложной структуре нормы ФЕ как системы двойного ограничения. Следовательно, при кодификации фразеологической нормы требования к лингвисту-нормализатору возрастают, так как им должны быть учтены и зафиксированы как противоречивость самой ФЕ, так и сложный характер ее нормы.
Таким образом, из всего сказанного можно сделать следующие выводы:
1) норма ФЕ как сложное и многоплановое понятие, включающее в себя нормы разных языковых уровней и соотносящаяся с ними, с учетом своеобразия регулируемой единицы (фразеологизма), определяется нами следующим образом: традиционное, закрепленное языковой практикой употребление ФЕ, принятое в данный период языковым коллективом и осознанное им как правильное и образцовое;
2) кодификация нормы ФЕ должна отражать подлинное состояние современного литературного языка, своевременно реагировать на изменения нормы, не нарушая своеобразия фразеологического выражения.
§ 3.
Грамматические пометы во фразеологических словарях русского литературного языка.
Фразеология русского литературного языка привлекает внимание исследователей давно. Можно сказать, что собственно история изучения фразеологии русского языка начинается именно с того времени, когда ФЕ стали включаться в словари и получили в них толкование, хотя место, отводимое им было невелико, и разработка их велась попутно с разработкой слов. Собственно фразеологический словарь, содержащий свыше 4000 устойчивых выражений русского языка, вышел под редакцией А. И. Молоткова в 1967 году. Это была первая попытка очертить общие границы фразеологического состава русского литературного языка, дать четкие и полные толкования устойчивым оборотам, определить компонентный состав и вариантность ФЕ, представить яркие и доказательные примеры употребления фразеологизмов в языке.
В последние десятилетия ученые активно исследуют и разрабатывают проблемы, связанные с грамматической природой ФЕ. Решение этих проблем прежде всего связывается с описанием парадигмы устойчивых выражений в аспекте фразеологической нормы. Особую актуальность данная проблема приобретает именно в лексикографии.
В отличие от толковых словарей современного русского языка, единственный пока фундаментальный «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова (далее ФСРЯ) характеризуется фактическим отсутствием системы грамматических помет. Имеющаяся в ФСРЯ грамматическая информация для глагольных фразеологизмов регулярно представлена:
I. В заголовочной части словарной статьи.
1) Исходной формой глагольного компонента ФЕ, вынесенной в заголовок словарной статьи. Согласно сложившимся в лексикографии и реализованным в ФСРЯ принципам предполагается, что, если глагол стоит в неопределенной форме, это означает — фразеологизм может быть употреблен в любой личной формеесли же глагол дается не в инфинитиве, а в какой-либо из личных форм, то это означает — фразеологизм употребляется только или преимущественно в этой форме:
Вить веревки.
Куда Макар телят не гонял.
Поминай как звали.
2) Видовой парой глагольного компонента ФЕ (при наличии видового коррелята у глагола-компонента). Первой в заголовке указывается форма несовершенного вида, далее узкими прописными буквами (согласно принятым в ФСРЯ принципам оформления) дается форма совершенного вида:
Овладевать собой. Овладеть собою.
Душить в объятиях. Задушить в объятиях.
Если глагольный фразеологизм употребляется только или преимущественно в одном из видов, то он приводится в заголовке в этом виде, а возможность употребления его в другом виде показывается (узкими прописными буквами) внутри словарной статьи.
3) Формальной вариантностью ФЕ:
Быть не в ладу/ладахЗакидывать удочку/удочки — по категории числа.
Зажать в кулак/кулакеУплыть между пальцами/пальцев — по категории падежа.
Что есть/было силы — по категории времени.
Стоять как пень/пнемВзять на измор/измором — синтаксическая вариантность.
4) Синтаксической сочетаемостью ФЕ:
Носиться как курица с яйцом — с кем, с чем.
Вертеться на глазах — у кого.
Выбить [вышибать] почву из-под ног — кого, чьих, у кого.
II. В иллюстративной части словарной статьи.
Указанием различных особенностей формы фразеологизма, особенностей лексической и грамматической сочетаемости его со словами, новых структурных образований и т. д. (узкими прописными буквами).
Надрывать животики [кишки] от смеха и Надрывать животики [кишки] со смеху — особенности синтаксической структуры.
Волосы становятся [встают, поднимаются] дыбом и Волос становится дыбом — особенности категории числа.
Вожжа [шлея] под хвост попала и Вожжа под хвост попадет [попади] — особенности категории наклонения.
Голова закружится и Закружилось в голове — особенности категории времени.
Закрыть двери дома перед кем и Закрыть двери дома для кого — особенности синтаксической сочетаемости.
Однако содержащаяся в ФСРЯ грамматическая информация недостаточна для создания полной картины функционирования устойчивых оборотов в современном русском литературном языке. При таком положении вещей читатель вынужден по существу сам заниматься лингвистическим анализом, опираясь непосредственно на словарную статью — на ее заголовок и иллюстративную часть, имплицитно отражающую границы нормативного употребления ФЕ. Подобный лингвистический анализ выявляет следующие противоречия и недостатки ФСРЯ в подаче грамматической информации:
1. Несоответствие форм глагольного компонента, указанных в заголовочной части, иллюстративным примерам. Так, например, некоторые ФЕ в заголовке представлены следующим образом: дух занимается, дух занялсяголова идет кругом, голова пошла кругом. Такая запись свидетельствует об ограничении употребления этих ФЕ формами настоящего и прошедшего временив иллюстративной же части статьи встречаются примеры с формой будущего времени: Заслышав голос Аграфены, девчонка тотчас бросает своих подруг, бежит к братишке и, щипнув его так, что дух займется, схватывает его в охапку и бежит в избу (Златовратский. Деревенские будни). Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они заботятся о жизни моей, благодарю — но черт в эдакой жизни. (Пушкин Письмо П. А. Вяземскому 13 сентября 1825 года).
Также достаточно часто можно наблюдать такую ситуацию, когда в заголовке словарной статьи задана форма глагольного компонента — настоящее время — а в иллюстрациях приводятся примеры с формой прошедшего времени. Вот только некоторые случаи:
Горит в руках.
Приветливая была бабенка, приветливая, и всякое дело у нее в руках горело. (Мамин-Сибиряк. Золото).
Взгляд не отрывается.
Голос его, без намерения, был нежен, взгляд не отрывался от нее. (Гончаров. Обрыв).
Ветер свистит в карманах (в кармане).
Мы сидели на бульваре, на дворе был март, в наших карманах свистел ветер. (В. Горбатов. Обыкновенная Арктика).
2. Неразграничение форм грамматической парадигматики и грамматической вариантности глагольного компонента ФЕ. По принятым в ФСРЯ принципам обозначения формальная вариантность компонентов фразеологизма дается в круглых скобках. Но употребление единственного или множественного числа компонента в ФЕ: и не говори (не говорите) — что ты говоришь (вы говорите)? и так далее обусловлено контекстом, и, следовательно, здесь имеет место противопоставление по грамматической категории числа в рамках парадигмы ФЕ, а не грамматическая вариантность ФЕ.
3. Противоречивость между заголовочной и иллюстративной частями в отражении особенностей функционирования именного компонента ГФЕ — при отмеченности в заголовке компонента имени только в форме единственного числа, в иллюстрациях присутствуют примеры и с формами множественного числа и наоборот:
Вешать нос <на квинту>
В доме Андрея Ивановича точно кто-то при смерти находился. Сам он ходит еле-еле, что-то изредка шепчетДарья Андреевна сидит бледная, прислушиваясь к его шагам, кашлю. Даже прислуга и та повесила носы. (Решетников. Свой хлеб).
Гнуть спину [хребет, шею].
Третий из народа:] Правда шеи гнуть не умеет [посадник]? (К. Толстой. Посадник).
4. Неточность отражения синтаксических связей ФЕ в тексте. а) Встречаются случаи полного отсутствия указания на синтаксическую сочетаемость ФЕ:
Играть на нервах — не указана сочетаемость кто? у кого? чьих?
Ему не по себе. Слишком уж играли на его нервах. (Боборыкин. Китай-город). — Я бы его сейчас прямо стукнул, — вспыхивает Зайцев, — когда арестованного уводят обратно в камеру. — Он — вы все сами видите — просто играет у нас на нервах. (П. Нилин. Испытательный срок).
Задавать [давать] тон — не указана сочетаемость кто? кому? чему? в чем? чем ?
Павел Андреевич знал, что он «дает тон» всему городу в вопросах изящества и моды. (Боборыкин. Горленки). Губернатор Корф великолепием своей светской жизни задавал всем тон. За ним пыжилась знать, за знатью — обыватель. (Шишков. Емельян Пугачев). б) В других случаях в заголовке не даны исчерпывающие сведения о синтаксической сочетаемости ФЕ.
Вбивать [вколачивать] в голову [в башку] кому?: не указано — кто? что?
Кто это вбил вам в башки дурацкую мысль, что моя земля — это ваша земля? С неба вы, что ли, свалились? (Гладков. Повесть о детстве).
Вгонять в краску кого?: не указано — кто? чем?
Беневольский Полбинину:] Помилуйте, вы меня в краску вводите своею похвалою. (Грибоедов. Студент).
Калачом не заманишь кого?: не указано — кто? куда?
Нет уж, теперь он меня и калачом к себе в гости не заманит, — бормотал он. (Лейкин. В гостях у пристава). в) Не наблюдается единообразия в представлении однотипной синтаксической связи разных ФЕ, когда в заголовке словарной статьи одних фразеологизмов данная связь отражена, а в заголовочной части словарной статьи других фразеологизмов — нет, но зато она легко обнаруживается в иллюстрациях.
Приведем примеры с вопросом чей?
Наличие вопроса в заголовочной части статьи.
Отсутствие вопроса в заголовочной части статьи.
Залезать в карман чей? к кому?
Современный Митрофан глуп во всем, в одном искусен: залезать в чужой карман. (Некрасов. Современники).
Вырастать в глазах кого? чьих?
Рана моя медленно заживалано собственно против отца у меня не было бурного чувства. Напротив: он, как будто, еще вырос в моих глазах. (Тургенев. Первая любовь).
Зарывать талант в землю.
Зарудный. не зарыл по доброй воле своего таланта в землю, а служил Родине всеми силами ума и сердца, покуда имел возможность. (Кони. Памяти С. И. Зарудно-го).
Играть на нервах.
Шутник ты, товарищ главный инженер. Понравилось тебе играть на моих нервах. Играй, играй, ничего, я прочный, выдержу, — Алексей говорил с гневом. (В. Ожаев. Далеко от Москвы).
Таким образом, можно утверждать, что в ФСРЯ практически отсутствует последовательно проведенная система грамматических помет, а имеющаяся в словаре грамматическая информация представлена непоследовательно и противоречиво.
Еще один большой словарь по русской фразеологии — «Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII—XX вв.» в двух томах под редакцией А. И. Федорова. Целью создателей данного словаря было стремление представить всю известную в русском языке фразеологию и идиоматику, поэтому его объем практически в два раза больше объема «Фразеологического словаря русского языка» под редакцией А. И. Молоткова, и содержит он около 7000 словарных статей.
Во фразеологическом словаре А. И. Федорова также отсутствует как таковая система грамматических помет. Вся имеющаяся в словаре грамматическая информация сводится к следующему: первое, в заголовочной части словарной статьи приводится исходная форма ГФЕ, в которой фразеологизм функционирует в языке, и указывается синтаксическая сочетаемость оборота в тексте: Брать к сердцу что. Брать моду. Взять моду Ни росинки во рту не было у кого.
Волосы встали на дыбки.
Гори синим пламенем кто, чтои, второе, в иллюстративной части словарной статьи даются примеры употребления фразеологизма в художественной литературе, из которых читатель может самостоятельно сделать выводы, какими формами словоизменения обладает глагольный компонент ФЕ в современном русском литературном языке.
Недостатки данного словаря в отражении имеющейся в нем грамматической информации те же, что и в ФСРЯ. Приведем примеры неполного и противоречивого представления синтаксической нормы ФЕ во фразеологическом словаре А. И. Федорова.
Как уже было отмечено, вся информация о синтаксической норме ФЕ в словаре сводится к указанию синтаксической связи фразеологизма с элементами предложения. Однако и здесь нет точности, последовательности и единообразия.
Во-первых, достаточно часто в словарной статье отсутствуют вообще какие-либо сведения о синтаксической сочетаемости ФЕ:
Вылетать из ума — не указана сочетаемость что? у кого?
В ту минуту вдруг вылетели у меня из ума наши неприятности и скан,-далы. (Г. Николаева. Повесть о директоре МТС).
Выхватывать кусок <хлеба> изо рта — не указана сочетаемость кто? у кого?
Та девочка, пожалуй, думает, что Марина Игнатьевна на второй службе пенсию получает, у молодых кусок хлеба изо рта выхватывает. (Бо-борыкин. Вторая от воды).
Голова разваливается [трешит] — не указана сочетаемость у кого? от чего?
От чаду у него трещала голова, ему хотелось выйти на воздух. (Н. Успенский. Брусилов).
Во-вторых, чаще всего в заголовочной части не представлена полная система синтаксических связей ФЕ в тексте. Иллюстративный материал словарной статьи в некоторых случаях позволяет восполнить недостающую информацию:
Давать туза кому?: не указано — кто? чем?
Собака между тем неистово-храбро подкатывалась мне под ноги. Я не вытерпел и дал ей палкой туза. (А. Левитов. Насупротив!).
Вертится на языке что?: не указано — у кого?
Табельщик судорожно передвинул ноги. На языке у него вертелось нечто дерзкое и наглое. (С. Голубов. Когда крепости не сдаются).
Бросать в лицо кому?: не указано — кто? что?
Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое В лицо бросали мне. (Есенин. Письмо к женщине).
Также противоречия между заголовочной и иллюстративной частями словарной статьи наблюдаются и в тех случаях, когда заданная в заголовке синтаксическая связь не находит своего подтверждения в иллюстративных примерах:
Глядеть со своей колокольни на что?
Отец у тебя, ничего не скажешь, командир боевой, честный военспец, только он все со своей военной колокольни глядит. (В. Шефнер. Нине, вечно и никогда). Мы привыкли к тому, что на всех не угодишь, что каждый глядит со своей колокольни, а значит, восприятие мира у каждого из нас чисто субъективное. (А. Суворова. «Горько» после свадьбы).
Глядеть в глаза кому?
Вельский шуту:] Ты около царя все время будь — гляди в глаза, И только лишь он брови нахмурит — Ты шутку выкинь посмешней. (А. К. Толстой. Смерть Иоанна Грозного).
В третьих, прослеживается еще один недостаток данного словаря в подаче грамматической информации — нет единообразия и последовательности в представлении однотипных синтаксических связей разных устойчивых оборотов. Особенно это характерно при указании на субъект и объект действия (состояния) .Читая словарь, можно заметить, что чаще всего в заголовке словарной статьи отмечается на что направлено действие (брать в толк что, видеть в розовом свете что, на ладан дышит что, идет с руки что, держать про себя что, держаться зубами за что) и реже — кто совершает данное действие (был да сплыл кто, и усом не ведет кто, всем взял кто, воды не замутит кто). И еще реже составители словаря обозначают полное окружение ФЕ (не идет из головы кто, чтогори синим [ясным] пламенем кто, чтона ладан дышит кто что).
Наиболее отчетливо отсутствие единообразия в отражении синтаксической сочетаемости ФЕ прослеживается в составлении словарных статей фразеологизмов с абсолютно одинаковой (или схожей) синтаксической конструкцией. Приведем ряд примеров:
Указание на синтаксическую связь ФЕ в тексте.
Давать/дать горячих кому? Мой земляк рассказывал мне, как до революции по приговору схода пороли одного мужика за пьянство. Начальство приехало. Собрали сельский сход. Решили: «Дать ему пятнадцать горячих». Староста принес ивовых прутьев. Мужика — в земскую избу на скамью. (В. Белов. Сюжет).
И усом не ведет кто?
Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбиратьсяОн и усом не ведет, На печи в углу поет. (П. Ершов. Конек-Горбунок).
Делать/сделать жест какой?
Спустя некоторое время Николай II нашел нужным сделать какой-то жест по отношению к семье покойного. (А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю).
Отсутствие указания на синтаксическую связь ФЕ в тексте.
Давать/дать пищу.
Я вспомнил, как дьявольски проницательны дети, и решил не смотреть в Нини-ну сторону. Совершенно ни к чему давать пищу этим маленьким наблюдателям. (Ю. Нагибин. Через двадцать лет).
Не верит <своим> глазам.
Русский человек глазам не верит, — несколько раз негромко повторил он, ощупывая пальцами металл, из которого были сделаны буквы, — а я к тому же физик. (А. Кузнецова. Земной поклон).
Делать/сделать знак.
Ромашов делает мне таинственный знак, хлопает по карману. (Каверин. Два капитана).
Приведенные примеры и проанализированный материал «Фразеологического словаря русского литературного языка конца XVIII—XX вв.» под редакцией А. И. Федорова со всей очевидностью указывают на отсутствие в данном словаре полных и последовательно представленных грамматических сведений, позволяющих судить об особенностях функционирования ФЕ в языке.
За последнее десятилетие произошли значительные сдвиги в исследовании и разработке проблемы грамматики ФЕ. В этой связи в русской лексикографии выделяются два издания — «Словарь образных выражений русского языка» под редакцией В. Н. Телии, вышедший в 1995 году, и словарь-справочник Р. И. Яранцева «Русская фразеология» 1997 года издания.
Словарь образных выражений русского языка", как отмечают сами авторы в предисловии к словарю, «принадлежит к такому типу словарей, которые в языкознании принято называть фразеологическими: это словарь-справочник, описывающий значение, грамматику и ситуативные закономерности бытующих в современном русском языке устойчивых сочетаний, смысл которых не выводится из значения входящих в них слов-компонентов."[5]. В данном издании представлено около 1000 идиом (с учетом их лексических вариантов), наиболее активно функционирующих в современной обиходно-бытовой речи, в речи радио и телевидения, в художественной литературе и публицистике (в газетах и журналах). При этом авторы словаря стремились показать в иллюстративном материале не только активно употребляющиеся в наше время идиомы, но и преемственность этого употребления с русским языком конца XIX века. Наряду с изменениями в характере и структуре иллюстративной части словарной статьи в словаре по-новому (по сравнению с предыдущими изданиями) построена заголовочная часть. Заголовок, объемный по содержанию, включает в себя не только толкование устойчивого выражения, но и широкую систему стилистических и грамматических помет. Грамматическую информацию составляют сведения о морфологических и структурных особенностях употребления компонентов идиомы, а также представлена полная синтаксическая сочетаемость устойчивого выражения со словами в тексте. Приведем несколько примеров заголовков из данного словаря:
ДАВАТЬ/ДАТЬ ПИЩУ кто, что, кому, чему [для чего]. Служить поводом, создавать предлог. Имеется ввиду ситуация, когда какой-то случай, событие или чей-л. поступок вызывают интерес или какую-л. реакцию, обычно негативную. Реч. стандарт. кто — лицо, группа лицчто — событие, поведение, ситуациякому — лицу, группе лицчему — заинтересованности, размышлениям, разговорам, чувствам, иной ответной реакциидля чего — для разговоров, чувств, иной ответной реакции. • Именная часть неизм. • Порядок слов фиксир.
ЗАДАВАТЬ/ЗАДАТЬ ТОН кто [кому, чем, в чем, чему]. Главенствовать, оказывать воздействие на окружающих. Реч. стандарт, кто, кому — лицо, совокупность лиц, объединенных общими задачами, целями (бригада, компания и т. п.) — чем — собственным поведением, свойствами личностив чем, чему — в каком-л. деле. • Порядок слов нефиксир.
И] В ПОДМЕТКИ НЕ ГОДИТСЯ кто, кому, что, чему. Несравнимо ниже, хуже по своим качествам, достоинствам и т. п. (говорится с пренебрежением). Реч. стандарт, кто, кому — лицочто, чему — совокупность лиц, объединенных общими задачами, обычно профессиональными (театр, колхоз, полк и т. п.) • Нет буд. вр. • Именная часть неизм. Порядок слов нефиксир.
В дополненном и расширенном словаре-справочнике «Русская фразеология» Р. И. Яранцева 1997 года издания (в первых изданиях именно этого словаря-справочника была впервые последовательно представлена грамматическая информация о ФЕ и ее компонентах) содержится 15 000 фразеологизмов, распределенных по 96 тематическим группам. Каждая ФЕ в словаре характеризуется по 14 параметрам, куда входит указание управления (прежде всего глагольного), представленного в заголовочной части словарной статьи, и грамматико-синтаксический комментарий, помещенный после иллюстративного материала. Таким образом, грамматическая информация в словаре-справочнике сводится к указанию наиболее характерных синтаксических связей для фразеологизма и его синтаксической функции в предложении. Приведем примеры:
ГРЕТЬ/НАГРЕТЬ [погреть] РУКИ (руку) на чем. Разг.
Незаконными путями обогащаться, наживатьсяпользоваться создавшимся положением, удобным для извлечения любой выгоды для себя или для кого-л.
О нечестном, непорядочном, морально нечистоплотном человеке.
Интонационно выделяется слово «руки (рука)».
• Отчего Подхалюзин [герой комедии «Свои люди сочтемся» Островского], радея о пользах хозяина, не удерживает его от опасного шага, на который тот решается по неразумению. Потому, конечно, что Подхалюзин сам надеется тут нагреть руки. (Добролюбов, Темное царство). — Без выгоды для себя они ведь не могут. Миллионные заказы хватают. Заводы свои государству втридорога продают, благодетели. Значит, руки греют на миллионах, да еще и политическую репутацию наживают. (С. Голубов, Когда крепости не сдаются). — В Хмелевском детдоме заведующий] нагрел себе руки. Тысячи полторы прикарманил. (Ф. Вигдорова, Это мой дом). — Было бы большой ошибкой утверждать, что все в Ленинграде выдержали испытание войной. Нашлись эгоисты и лихоимцы, пытавшиеся погреть руки на народном несчастье. (И. Соловьев, Будни милиции). — Бежало много полицаев. палачей из гестаповских команд уничтожения, уголовников, погревших руки на войне. (Г. Холопов, Долгий путь возвращения).
Более употребителен вариант с формой мн. числа «руки».
В предложении сказуемоеглагол обычно в прош. и наст, времени, употребляется в форме инфинитива с глаголами «хотеть», «стараться», «пытаться», «любить», «уметь», «надеяться» и т. п.- требуется дополнение в предл. п. с предлогом «на» («на чем» — обозначение дела, предприятия, от которого можно приобрести выгоду).
БРАТЬ/ВЗЯТЬ НА СЕБЯ СМЕЛОСТЬ что сделать. Разг.
Осмеливаться, отваживаться, решаться на что-л.- брать на себя ответственность за что-л. или сделать что-л. ,.
Интонационно выделяется слово «смелость».
• Мы берем на себя смелость, в заключение статьи, сказать несколько слов об Ольге и об отношениях ее к обломовщине. (Добролюбов, Что такое обломовщина?) — Я возьму на себя смелость сказать, что командиры нашего подплава, наряду с командирами торпедных катеров — это наиболее культурные, смелые и опытные командиры флота. (А. Фадеев, Бессмертие). — Я принялся сочинять письмо. «Милостивый государь Петр Федорович, я допустил оплошность, не предупредив вас, что размер гонорара за уроки был установлен самим Александром Ивановичем, и я не беру на себя смелость что-либо изменять в его предначертаниях.» (П. Кузьмин, Круг царя Соломона). — Никто не возьмет на себя смелость утверждать, что ссоры между влюбленными необходимы. Но с тем, что ссоры неизбежны, согласится всякий. (А. Вампилов, На скамейке). — [Лорд:] Консул ждет в карете. Я взял на себя смелость пригласить его зайти сюда [в дом Байрона], но он не пожелал. (А. Гладков, Последнее приключение Байрона).
В предложении обычно часть глагольного сказуемого, употребляется обязательно в сочетании с глаголами обычно сов. вида в форме инфинитива («что сделать» — обозначение действия, на которое кто-л. осмеливается, решается).
Особое место в лексикографии занимают школьные и учебные словари, непосредственной задачей которых является показать и научить правильно использовать единицы языка в речи. В связи с этим, наряду с уже упомянутыми фразеологическими словарями, необходимо выделить «Учебный фразеологический словарь русского языка» Е. А. Быстровой, А. П. Окуневой, Н. М. Шанского и «Школьный фразеологический словарь русского языка» В. П. Жукова, А. В. Жукова. Если в «Школьном фразеологическом словаре» указаны только глагольное управление и синтаксическая функция фразеологизма, то в «Учебном фразеологическом словаре» дополнительно к этой грамматической информации приведены сведения об основных (преобладающих) морфологических формах глагола-компонента.
Дадим для сравнения две словарные статьи: первая — из «Школьного фразеологического словаря русского языка», вторая — из «Учебного фразеологического словаря русского языка».
ВБИВАТЬ (ЗАБИВАТЬ) СЕБЕ В ГОЛОВУ (В БАШКУ) <что>- вбить (забрать себе в голову (в башку) <что>. Разг. Употр. при подлеж. со значением лица. Твердо внушать себе что-либо, упорно держаться какого-либо мнения. Вася вбил себе в голову мысль, что упорством он может наверстать отсутствие таланта. (В. Липатов. Чужой).
ЗНАТЬ СЕБЕ ЦЕНУ. Правильно оценивать свои возможности, достоинства.
Только несов. чаще 3 л. наст. вр. или прош. вр. обычно сказ.
С сущ. со знач. лица архитектор, командир, инженер. знает себе цену.
Все настоящие поэты знали себе цену, с Пушкина начиная. Цену своей силе. (М. Цветаева). Великолепно зная себе цену, он держался независимо и делал так, как считал нужным. (Д. Гранин). Не смешивать с фразеологическим оборотом знать цену.
Таким образом, в современной русской фразеологической лексикографии нет фразеологического словаря, в котором бы была представлена полная и непротиворечивая система грамматических помет, какая создана в толковых словарях русского литературного языка.
§ 4.
Проблема грамматических помет и их система во фразеологическом словаре русского языка.
Теоретическая и практическая значимость любого фразеологического словаря, независимо от его специфики, предопределяется состоянием самой фразеологической науки, уровнем ее развития, степенью осознания и познания своеобразия ФЕ как предмета исследования этой науки, а также степенью изученности категориальных свойств фразеологизмов и принципов их функционирования в языке и речи как объекта ее исследования.
Поэтому фразеологические словари, созданные в 60—80-х годах, не отражают современного состояния развития фразеологии и требуют переработки и дополнения. Это понимают сами составители словарей: «."Фразеологический словарь русского языка» отражает состояние развития фразеологической науки 50—60-х годов. Многие научные проблемы, касающиеся категориальной характеристики фразеологической единицы и неоднородности состава таких единиц русского языка в целом, не были решены, да и не могли быть решены в то время, на том уровне изучения русской фразеологии, когда составлялся словарь. Речь идет о таких проблемах, как. семантика и грамматика фразеологической единицы с выделением синтаксиса фразеологической единицы, с описанием синтаксических моделей ее сочетаемости со словами в строе предложения" [Молотков 1990: 40].
Устойчивое выражение, наряду со словом, выступает в языке как реально существующая и самостоятельно функционирующая единица. Как уже было отмечено, своеобразие фразеологического оборота проявляется на грамматическом уровне. Поэтому можно говорить, что ФЕ обладает своей парадигматикой и синтагматикой, которые должны найти отражение в словарной статье фразеологического словаря, при этом лексикографическое описание ФЕ должно опираться на существующие в словарях грамматические характеристики единиц языка.
В связи с этим современная лексикография в области фразеологии должна выработать такую систему описания ФЕ, при помощи которой можно было бы дать точную и емкую лексико-грамматическую и структурную характеристику каждого устойчивого выражения и рекомендации правильного употребления их в речи.
Каждый структурный разряд ФЕ характеризуется типичными именно для него грамматическими признаками. Таковыми для глагольных фразеологизмов являются, во-первых, основные грамматические категории глагола — вид, время, наклонение, лицово-вторых, синтаксическая связь со словами в тексте — управлениев-третьих, типичная синтаксическая функция глагола в предложении — сказуемое. Именно эти грамматические признаки должны найти отражение в грамматических пометах при характеризации ГФЕ во фразеологическом словаре русского языка.
Помета — это «применяемый в лексикографии и грамматике способ краткой грамматической, стилистической или иной характеристики слова, выражения принятым сокращением соответствующего термина» [Русский язык 1998: 354]. Грамматические пометы отражают морфологические и синтаксические свойства слова или выражения. Смысл любой пометы — указание на какое-либо ограничение, например, на отсутствие каких-либо форм в парадигме или на ограничение реализации парадигмы какими-либо немногими или единичными формами.
На необходимость отражения в словаре грамматических особенностей ФЕ, принципов ее функционирования указывали многие исследователи (А. М. Бабкин, А. И. Молотков, В. А. Лебединская, Б. С. Шварцкопф, В. Н. Гришанова, А. Н. Тихонов, А. М. Чепасова). Особенно актуально данная проблема, по убеждению В. Н. Гришановой, встает в тех случаях, когда речь заходит о многозначных фразеологизмах, так как для точного выделения значений полисемичной ФЕ, более четкого разграничения ее значений, при каждом из значений необходимо давать широкую систему грамматических помет, конкретизирующих различия этих значений. По мнению ученого, подобную систему грамматических помет должны составлять сведения о соотнесенности полисемичной ФЕ с частью речио грамматической сочетаемости ФЕ со словами, от которых она зависит и зависимых от нееуказание на синтаксическую функцию ФЕ в предложенииа в ряде случаев необходимо подчеркнуть особенности грамматической формы и грамматическое значение фразеологизма, особенно глагольного (различия по виду, времени, наклонению, лицу) [см.: Гришанова 1990: 69−70].
Ученые-лингвисты, занимающиеся проблемами грамматики ФЕ, разрабатывают и предлагают свои варианты системы грамматических помет для фразеологического словаря.
Еще в середине 60-х годов А. М. Бабкин в своей работе «Лексикографическая разработка русской фразеологии» в главе «Словарная статья» отдельно оговаривал грамматическую характеристику ФЕ. Он отмечал, что «в задачи Словаря входит достаточно полно и подробно охарактеризовать условия грамматического функционирования фразеологических единиц и в необходимых случаях, т. е. там, где она появляется, показать конструктивную обусловленность их употребления» [Бабкин 1964: 41]. Прежде всего это касается, на взгляд автора, синтаксической роли фразеологизма, если она оказывается строго закрепленной, как например для фразеологизмов: кожа да кости, кровь с молоком, сапоги всмятку и т. п., которые могут быть употреблены только в роли сказуемого или предикативного определения. Это относится также к указанию тех или иных морфологических или синтаксических ограничений в употреблении ФЕ, как например с употреблением глагола только в совершенном или несовершенном виде: пройти (но не проходить!) огонь и воду, белены объелся (но не объедаться!) — с обычностью того или иного времени: белены объелся (но не объемся!) — с той или иной модальностью: ищи ветра в поле, поминай как звали, знай наших. Далее А. М. Бабкин отмечает, что указание на связь фразеологизма с контекстом его употребления дается схематически, путем выявления конструкции и подбором иллюстративно-оправдательных цитат. Таким образом, грамматическая характеристика ФЕ, по мнению А. М. Бабкина, зависит от грамматической природы стержневого слова и от особенности языковой модели ФЕ.
А. И. Молотков в своей теоретической работе «Основы фразеологии русского языка» излагает свое видение системы грамматических помет. По мнению лексикографа, «в системе грамматических помет, которые приняты для фразеологического словаря, как минимум должны быть: .Для глагольного фразеологизма указания о всех видах управления, в том числе и двойного, в сочетании со словами: рыть яму кому, для кого, набивать руку на чем, в чем.- указания о возможном примыкании слова к фразеологизму, например, запускать руку во что, куда» [Молотков 1977: 248]. Отдельно А. И. Молотков оговаривает требования, предъявляемые к глаголь-но-пропозициональным фразеологизмам, которые он выделяет в особую группу. Для них в словарной статье нужны сведения «.об обязательном двойном управлении: глаза разгорелись у кого, на что, бог не обидел кого, чем, или, в отдельных случаях, указания об одном управлении вообще или об одном из нескольких возможных: черная кошка пробежала между кем, песок сыплется из кого.» [Там же].
Б. С. Шварцкопф видит содержание грамматической пометы в статье фразеологического словаря в двух аспектах — внутреннем и внешнем. Во внутреннем аспекте, по мнению исследователя, — это должна быть информация об особенностях морфологического оформления компонентов ФЕ, морфологической парадигматики, как совокупности фразеоизмене-ний, осуществляемых за счет грамматически подвижного стержневого компонента ФЕ (съесть собаку — невозможность настоящего времени, нести крест — только несовершенный вид, хоть волком вой — только повелительное наклонение). Во внешнем аспекте — это должны быть сведения, во-первых, о синтаксических связях ФЕ со словами в тексте, выявляющие грамматическую зависимость ФЕ от ее постоянных лексических «спутников» (бьет по нервам что, кому, душа не лежит у кого, чья, к кому, к чему) — во-вторых, об особенностях реализации синтаксической конструкции ФЕ в тексте: а) свободный/несвободный порядок следования компонентов ФЕ (не казатъ глаз [носа] — от нечего делать, как ни в чем не бывало) — б) возможность/невозможность дистанционного расположения компонентов ФЕ в тексте (ср. нужды нет — пропасти [погибели] нет)', в) синтаксическая роль ФЕ в структуре предложения [Шварцкопф 1988: 89−90].
Содержанием грамматических помет, по мнению А. И. Чепасовой, безусловно должна быть информация о синтаксической организации ФЕ, поскольку «.характеристика синтаксической организации является исходной, так как каждый фразеологизм обладает такими фундаментальными свойствами, как раздельнооформленность и словный характер составляющих его (фразеологизм) компонентов» [Чепасова 1990: 13]. В связи с этим, по убеждению ученого, все фразеологизмы в первую очередь должны квалифицироваться в словаре как относящиеся к одному из семи типов синтаксических единиц, соотносительных с традиционно выделяемыми в русской грамматике синтаксическими единицами: сочетание слов, словосочетание, простое предложение, сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, бессоюзное предложение, структура придаточной части сложноподчиненного предложения. Также, по мнению А. И. Чепасовой, в словаре необходимо отмечать такие грамматические особенности ФЕ, как цельность или расчлененность ее общей моделисинтаксические связи фразеологизма в контексте и, наконец, функции, которые выполняет устойчивое выражение в речи.
Таким образом, из всего сказанного можно сделать следующие выводы:
1) словарная статья фразеологического словаря как особый лингвистический жанр должна содержать не только толкование лексического значения фразеологизма, указание на его стилистические и функциональные сферы употребления, но и сообщать об особенностях грамматической организации ФЕ, информировать о разных видах ее окружения (контекстных, парадигматических, синтагматических);
2) необходимо выработать принципы и критерии подачи грамматической информации в словаре, общие для всех ФЕ, независимо от их структурного типа, которые бы в полной мере смогли отразить структурно-грамматические особенности каждого фразеологического оборота.
ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.
1. Синтаксическая норма ФЕ — это совокупность правил видоизменений и сочетаемости ФЕ с учетом ее лексического значения и структурной организации, традиционно сложившихся в процессе функционирования ФЕ в языке и разрешенных системными возможностями языка, которые нашли свое отражение в грамматиках и словарях;
2. Синтаксическая характеристика ФЕ в словаре должна включать информацию о сочетаемости ФЕ в тексте, о ее структурной организации, об особенностях ее словопорядка, о возможности/невозможности дистанционного расположения компонентов ФЕ в тексте и о ее синтаксической позиции в тексте;
3. Синтаксическая сочетаемость ФЕ — это способность ФЕ вступать в связи и отношения со словом или сочетанием слов в тексте. В словарной статье фразеологического словаря должна быть представлена обязательная синтаксическая сочетаемость ФЕ, так как она определяет не только правильное понимание семантики фразеологизма, но и позволяет судить о грамматической природе фразеологизма и о его синтаксической позиции в тексте;
4. По структурной организации ГФЕ могут быть соотнесены с такими синтаксическими единицами языка, как сочетание слов, словосочетание и предложение. При этом необходимо учитывать не только форму, но и грамматическое значение ФЕ в целом;
5. По характеру словопорядка все ГФЕ русского языка делятся на две группы: 1) ГФЕ со свободным словопорядком и 2) ГФЕ с фиксированным словопорядком. Основными факторами, влияющими на порядок следования компонентов фразеологизма, являются семантический, структурный и ситуативный. А основным критерием распределения фразеологизмов по группам становится иллюстративный материал словарной статьи;
6. Возможность/невозможность дистанционного расположения компонентов ФЕ — это способность компонентов фразеологизма или всего фразеологизма в целом к реализации своих синтаксических возможностей (валентностей) через конкретизацию или уточнение своего значения. Наряду с этим, дистантность компонентов ФЕ зависит от семантических и структурных свойств ФЕ, а также от сложившейся традиции ее употребления;
7. Синтаксическая функция ГФЕ в тексте продиктована ее морфологическими и структурными свойствами. Поэтому характерной синтаксической ролью для ГФЕ с полной или неполной морфологической парадигмой со структурой словосочетания или предложения является роль сказуемого, главного члена односоставного предложения или самостоятельного высказывания, а для ГФЕ с нулевой морфологической парадигмой тех же структурных моделей — роль сказуемого, модального (междометного) предложения и вводной конструкции;
8. Взятые нами за основу словарные статьи из «Фразеологического словаря русского языка» под редакцией А. И. Молоткова и «Фразеологического словаря русского литературного языка конца XVIII—XX вв.» под редакцией А. И. Федорова должны быть дополнены сведениями об особенностях синтаксического функционирования ФЕ, представленными в системе грамматических помет. Данные грамматические пометы должны размещаться в подзаголовке словарной статьи и следовать за пометами, указывающими на особенности реализации морфологической нормы фразеологизма. Далее приводятся словарные статьи ГФЕ, уже использованные нами в Главе первой (см.: Выводы к первой главе), но дополненные грамматическими пометами с синтаксической информацией.
ВЕШАТЬ/ПОВЕСИТЬ ГОЛОВУ (ГОЛОВУШКУ), кто? Приходить в уныние, в отчаяние, огорчаться. Сл.с., фикс.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ. Перевод свинцу да олову. Да удалым молодцам: Весь народ повесил голову. Стон стоит по деревням. (Некрасов. Коробейники). [Петр:] Ты своими слезами из меня всю душу вытянула, да еще батюшке нажаловалась. Он мне вон каких страстей насулил, поневоле голову повесишь. (Островский. Не так живи, как хочется). — Не вешай голову, Родька, слышь? Второе место за нами, — присаживаясь ярдом, сказал Григорий. — А по сумме очков наша команда все равно на первое место выйдет! (Е. Мальцев. От всего сердца). «Молодцы, хорошо поют», — глядя на строй, подумал Черняков. Ему пришло на ум, что им куда тяжелее, чем ему, а вот они не вешают головы. (В. Клипель. Медвежий вал). Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил? (Ершов. Конек-горбунок). Как дух изгнания, скрестив на груди руки и повесив голову блуждал [он] в одиночестве невдалеке. (М. Чехов. А. Чехов на каникулах).
ВЕРТЕТЬСЯ [ПУТАТЬСЯ] ПОД НОГАМИ, кто? у кого? Будучи рядом, поблизости, мешать своим присутствием что-либо делать, отвлекать от дела. Повел.Н. С «не», сл.с., своб.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ. Как тебе понравился Грубский? — спросил Залкинд. — Совсем не понравился. Путается под ногами, мешает. Неприятный человек и, может быть, даже вредитель. (В. Ажа-ев. Далеко от Москвы). — Сначала нас высаживали из эшелона по нескольку раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем: «Идите, куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами». (Паустовский. Повесть о жизни). [Лаптев:] Как будто я его знаю. [Пропотей:] Знать меня — не диво. Я, как пес бездомный, семнадцать лет у людей под ногами верчусь. (М. Горький. Достигаев и другие). От ненавистного бога помощь принимать! Лучше всего выкорчевать, чтоб под ногами не путался. (В. Тендряков. Покушение на мираж).
ЖЕВАТЬ МОЧАЛКУ (МОЧАЛО), кто? Нудно и бестолково говорить, писать и т. п. об одном и том же. Преим. н.вр., сл.е., фикс.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ, или гл. чл. о/с. предл. А когда вместо решения вопроса мочалку жуют, от этого только тошнота развивается, а дело не двигается. (Киров. Статьи и речи 1934). — Да ты что — мочалку жуешь? — багровея закричал Волошин. — Говори толком. (М. Бубенов. Белая береза). — Слова и фразы, а содержания [в письме] ни малейшего. Мочало жуешь! Тянешь, повторяешься. (Чехов. Розовый чулок).
ВХОДИТЬ/ВОЙТИ ВО ВКУС, кто? Начинать ощущать удовольствие отчего-либопостепенно проявлять все больше интереса, любви к чему-либо. Преим. пр. вр., сл.с., фикс.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ. Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильевича, где останавливались все «господа». Сначала старуха, бабушка Лукерья, тяготилась этим постоем, а потом вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки. и за постой, и за самовары., и за разные мелкие услуги. (Мамин-Сибиряк. Золото). Долго она стеснялась сказать, что не понимает прочитанного, а потом как-то сразу вошла во вкус, полюбила книжки и, бывало, горько плачет над судьбою прикрашенных писателями книжных людей. (М. Горький. Лето). Как-то незаметно Кряжич вошел во вкус работы, разгорячился, сердце забилось напористо и упруго, и ему стало физически радостно. (Гладков. Энергия).
ВИДЕТЬ НА ТРИ [НА ДВА] АРШИНА ПОД ЗЕМЛЕЙ [В ЗЕМЛЮ]. кто? Отличаться большой проницательностью. Преим. н.-пр.вр., сл.с., своб.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ. — Ты не смотри, что мы с ним в лаптях ходим, а, ведь, на три аршина в землю видим. (Писемский. Плотничья артель). — Говорил вам, Владимир Афанасьевич, явление — наш Николай Евгеньевич. На три аршина под землю видит. (Ю. Герман. Дело, которому ты служишь). Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. (Мамин-Сибиряк. Золото). — Вы золотой человек, господин Абрамахер! Вы видите в землю на четыре аршина. Вы можете предсказать все. (Н. Островский. Рожденные бурей).
ГНУТЬ/СОГНУТЬ [СКРУТИТЬ] В БАРАНИЙ РОГ. кто? кого? Пре-им. б вр. с.в., сл.с., своб.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ. В древние времена ябедник представлял собой сосуд, в котором общественная скорбь находила единственное и всегда готовое убежище! За двугривенный и пиши! За двугривенный человек рисковал, что его в бараний рог согнут и в табак сотрут, и туда зашвырнут, куда ворон костей не заносил! (Салтыков-Щедрин. За рубежом). [Павел Иваныч] никогда не думал о том, почему, например, начальство может получать двойные прогоны, распекать, выгонять, гнуть в бараний рог. (Г. Успенский. Разоренье). Я люблю тебя за то, что ты сильный и телом и душой. Правда? — Да, правда. Но перед тобой я ребенок. Ты сильнее меня. Ты меня скрутишь в бараний рог, я это вижу в глазах твоих. Я буду лежать у твоих ног. Вот ты какая! (И. Потапенко. Любовь). Я в бараний рог согну любого солдата, он же мне потом будет руки целовать, — презрительно проговорил капитан. (А. Степанов. Порт-Артур).
ВСЫПАТЬ [ВЛЕПИТЬ] ГОРЯЧИХ, кто? кому? Прост. Выпороть, высечь кого-либо. Преим. инф., сл.с., фикс.п.с.к., дист.р.к., в предл. — сказ, или гл.чл.о/с.предл. — Опять возьмите и то: ведь наказать человека — хитрость не велика. Взял, засадил его в темную, или там всыпал горячих — это труда не составляет. (Г. Успенский. Бог грехам терпит). Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. (Чехов. Не в духе). —.
Не первый такой герой! Разложить бы да всыпать пару горячих!" — сказала она, очень похоже подражая упрямому баску Кирилла, и он отвернулся, чтобы сохранить серьезность. (Федин. Необыкновенное лето).
И [ДАЖЕ] БРОВЬЮ [ГЛАЗОМ, УХОМ, УСОМ, НОСОМ] НЕ ВЕДЕТ. И [ДАЖЕ] БРОВЬЮ [ГЛАЗОМ, УХОМ, УСОМ, НОСОМ] НЕ ПОВЕЛ. И [ДАЖЕ] БРОВЬЮ [ГЛАЗОМ, УХОМ, УСОМ, НОСОМ] НЕ ПОВЕДЕТ, кто? Не обращает никакого внимания, не реагирует на что-либоничем внешне не проявляет своего отношения к кому-либо или чему-либо. Не употр. в форме повел, и сосл.н., сл.с., фикс.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ, или гл.чл.о/с предл. Сейчас кричала я во весь народ, Что ко дну наш корабль идет: Куда! — Никто и ухом не ведет, Как будто б ложные я распускала вести. (Крылов. Мыши). — Давай на одного меня днем полсотни молодцов — усом не поведу! Но теперь дело ночное: кто знает, что случится? (Загоскин. Аскольдова могила). Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами, один доктор даже бровью не повел и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». (Тургенев. Вешние воды). «Сволочь! Гад! Пьяница несчастный! — горько думал Генка. — Война идет, а ему и заботы нет, кроме как горло свое залить. И все знают, что не на свои деньги пьет, не на заработанные, а ни глазом, ни ухом не поведут!» (В. Рыбин. Случай в тыловой жизни).
ВИСЕТЬ [ДЕРЖАТЬСЯ]/ПОВИСНУТЬ НА ВОЛОСКЕ [НА НИТОЧКЕ]. что? кто? Оказываться в опасности, под угрозой гибели. Не употр. в форме повел.н., сл.с., своб.п.с.к., дист.р.к., в предл. — сказ, или гл.чл.о/с предл. В эту пору дружба моя с Дмитрием держалась только на волоске. (Л. Толстой. Юность). Дарья Федоровна. видела, что ее благосостояние висит на волоске, что оно чисто призрачное. (Шеллер-Михайлов. Лес рубят, щепки летят). — Тяжело, невозможно жить. А мы все-таки живы. Вот. Может, через месяц все с голоду подохнем. На ниточке висим, вот-вот сейчас оборвемся, а мы живы! (Вересаев. К жизни).
ВСПЛЫВАТЬ/ВСПЛЫТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ [НАРУЖУ], кто? Непредвиденно обнаруживаться, проявляться. Не употр. в форме н.вр., сл.е., фикс.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ. Неожиданно для нее самой, — сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. (Л. Толстой. Война и мир). Это всплыло наружу, и вот вспыхнула ссора с руганью и дракой. (Куприн. Река жизни). Вечером того дня имя генерала Ки-же всплыло на поверхность. (Ю. Тынянов. Подпоручик Киже).
ДУША УХОДИТ В ПЯТКИ. ДУША УШЛА В ПЯТКИ, у кого? от чего? Кто-либо испытывает сильный страх. Не употр. в форме б.вр. и повел.н., предл., своб.п.с.к., дист.р.к., сам. выск. Душа Брука уходила в пятки. Он бледнел и начинал объяснять, что, может быть, ему это только так показалось. (Вересаев. На японской войне). Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге — побитые кони. и ямы от бомб. (Э. Казакевич. При свете дня). Перед обедом им опять показали тревогу в батарейной палубе, но у них от этого, кажется, душа в пятки ушла. (Гончаров. Фрегат «Паллада»).
ИДТИ/ПОЙТИ ВПРОК, что? кому? Разг. Быть полезным. Употр. только в форме 3 л.ед. и мн.ч., сл.с., своб.п.с.к., дист.р.к., в предл. — сказ. Путешествие идет мне впрок: я здоров и твердо уверен, что купанье в море меня вылечит от ревматизма. (Батюшков. Письмо А. И. Тургеневу, июнь 1818). Какая была тому причина — этого я вам растолковать не могу, но только ученье не впрок мне шло. (Салтыков-Щедрин. Губернские очерки).
И тут он говорит: «Все у тебя, Петя, хорошо, сам — передовой комбайнер, жена — умница, хозяйство крепкое, машину купил. Только, — говорит, гляди, чтоб это добро да впрок тебе пошло.» (П. Егоров. Личеля).
ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ (СВЕЧЕЙ). Затрачиваемые на что-либо усилия, средства никак не оправдываются. О не оправдывающем себя деле, занятии и т. п. Неизм., предл., фикс.п.с.к., дист.р.к., сам. выск. Если бы даже он принялся за это утомительное занятие, то у него не хватило бы терпения дотянуть дело до развязки, и он после первых двух-трех приступов, убедился бы в том, что игра не стоит свечей. (Писарев. Реалисты). — Может, ее отправить в лазарет к Спиртову? — предложил Фирсов. — Для охраны придется назначить четырех солдат и двух жандармов. Игра, как говорится, не стоит свеч, господин полковник, — пояснил ротмистр. — Дело ваше, — пожал плечами Фирсов. (А. Степанов. Семья Звонаревых). Китаец, правда, отдал России полосу земли для дороги, но в обмен получил договор об оборонительном союзе. А если миллион и уплыл — бог с ним, игра стоит свеч! (Н. Витра. Вечерний звон).
ДЕРЖИ КАРМАН [ШИРЕ]! Прост. Не надейся, не рассчитывай на что-либо, не жди чего-либо. О напрасных ожиданиях, расчетах и т. п. Употр. ТОЛЬКО В форме повел.н., о/с предл., фикс.п.с.к., н.дист.р.к., мод.предл. — Старухе-то я нахвалился, что, может, господь бог пошлет нам коровку за мое умственное усердие. Как же, послал, держи карман шире! (Шолохов. Поднятая целина). [Старуха:] Мало что себе собачью шубу раздобыла, еще и мне навязала![Дочка:] А коли не нравится, вы и свою мне отдайте, теплее будет. [Старуха:] Так я и отдала. Держи карман шире! (Маршак. Двенадцать месяцев). Одна эта приписка что стоит: «Пиши так, словно ты на исповеди, аяпоп». Как бы не так, держи карман шире! В своем писательском зуде ты даже забыл, что я, хотя и сорокалетняя, но еще — женщина. (Н. Почивалин. Летят наши годы).
ДОРОГО БЫ ДАЛ [ЗАПЛАТИЛ], кто? за кого? Выражение очень сильного желания, чтобы совершилось, произошло и т. п. что-либо. Обычно о неисполнимом желании. Употр. только в форме сосл.н., сл.с., своб.п.с.к., н.дист.р.к., в предл. — сказ, или гл.чл.о/с предл. Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку. (Лермонтов. Герой нашего времени). Я видел, как ядром убило солдата. Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее! (Л. Толстой. Набег). Дорого дал бы он потом, чтобы воротить свое словечко, ибо на нем-то и поймал его тотчас же Фетюкович. (Достоевский. Братья Карамазовы).
НЕ ЗНАТЬ, КУДА ГЛАЗА ДЕВАТЬ/ДЕТЬ. (Не знать) что делать, как поступать от смущения, неловкости и т. п. Употр. только в форме инф., прид.ч.с.п.п., своб.п.с.к., н.дист.р.к., сам.выск. Инсаров переминался на месте, по-прежнему не зная, куда девать глаза, и ушел как-то странно: внезапно, точно исчез. (Тургенев. Накануне). Полевой. сказал:. — Вот барышню вижу первый раз. Может невеста? .Я не знал, как ответить ему. Галя. покраснела. и не знала куда девать глаза. (В. Беляев. Старая крепость). Она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. (Бунин. Митина любовь).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
ФЕ как значимая единица языка имеет свою особую морфологическую парадигму, которая отражает специфику фразеологической нормы. Фразеологическую норму на морфологическом уровне можно охарактеризовать как систему двойного ограничения, где на системные ограничения первого уровня, распространяющиеся на все языковые единицы, накладываются ограничения второго уровня — собственно фразеологические, свойственные только фразеологическим оборотам.
Фразеологическая норма на синтаксическом уровне представляет собой совокупность видоизменений и правил сочетаемости ФЕ, традиционно сложившихся в процессе функционирования фразеологизма в языке, разрешенных системными возможностями языка и нашедших свое отражение в словарях и грамматиках русского языка.
Основными факторами, влияющими на формирование фразеологической нормы, становятся: семантика фразеологизма, структурная организация фразеологического оборота, грамматические возможности стержневого компонента фразеологизма и речевая ситуация функционирования ФЕ (традиционно сложившиеся условия употребления устойчивого выражения).
Фразеологический словарь как информативное и нормативное издание должен содержать не только толкование ФЕ и примеры ее употребления, но и сообщать о грамматической природе ФЕ и грамматических особенностях ее функционирования. Источником такой информации в словарной статье фразеологического словаря должна стать, во-первых, исходная форма и обязательная валентность ФЕ, вынесенные в заголовочную.
часть статьи, и, во-вторых, грамматические пометы, сообщающие об особенностях морфологической парадигмы ФЕ, о синтаксической структуре фразеологизма и особенностях ее реализации в тексте, размещенные в подзаголовке словарной статьи.
Система грамматических помет в рамках одной словарной статьи должна быть четкой и непротиворечивой: исходная форма определяет, с одной стороны, специфику морфологической парадигмы ФЕ, с другой — объем обязательных валентностей и особенности реализации синтаксической структуры ФЕв свою очередь, синтаксическая сочетаемость диктует синтаксическую позицию ФЕ в тексте. Задача же иллюстративной части словарной статьи заключается в том, чтобы доказать и подтвердить информацию, представленную в заголовке и подзаголовке статьи.
С учетом накопленного опыта и традиций, теоретических разработок и практического материала нами предлагается следующая система грамматических помет для фразеологического словаря русского языка (с их условными обозначениями):
1. Модель управления ФЕ — здесь должны найти отражения семантические валентности (обязательное управление) фразеологизма и те синтаксические связи оборота, которые необходимы для его правильного понимания.
2. Синтаксическая организация ФЕ: сочетание слов (соч.сл.) — словосочетание (сл.с.) — двусоставное предложение (предл.) — односоставное предложение (о/с предл.) — придаточная часть сложноподчиненного предложения (ч.с.п.п.);
3. Характеристика морфологических особенностей ФЕ. где предлагается использовать следующие формулы: не употребляется в." (не употр. в) — употребляется только в." (употр. только в) — преимущественно употребляется" (преим.) — не изменяется" (неизм.).
4. Свободный/несвободный порядок следования компонентов ФЕ: свободный порядок следования компонентов (своб.п.с.к.) — фиксированный (несвободный) порядок следования компонентов (фикс.п.с.к.);
5. Возможность/невозможность дистанционного расположения компонентов ФЕ: дистанционное расположение компонентов (дист.р.к.) — недистанционное расположение компонентов (н.дист.р.к.).
6. Синтаксическая позиция ФЕ в тексте: подлежащее (подл.) — сказуемое (сказ.) — определение (опр.) — дополнение (доп.) — обстоятельство (обет.) — вводная конструкция (ввод.констр.) — самостоятельное высказывание (сам.выск.) — модальное предложение (мод.предл.).
Качество и объем конкретной информации в помете варьируется в зависимости от свойств конкретной ФЕ.
Список литературы
- Авалеани Ю. Ю., Ройзензон J1. И. О разграничении синонимии и вариантности в области фразеологических единиц. // Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. Баку, 1968. С. 70−78.
- Акопян А. Ц. Морфологические категории глагольной фразеологии русского и армянского языков. Ереван, 1984. 148 с.
- Акопян А. Ц. Основные структурно-семантические и грамматические особенности глагольных фразеологизмов современного русского языка. Модель «глагол + имя существительное (объекта)».: Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 1965. 16 с.
- Алейникова Т. В. Типы структурных моделей процессуальных фразеологизмов. // Синтаксические модели фразеологизмов: Межвуз. сб. науч. ст. Челябинск, 1989. С. 69−84.
- Алефиренко Н. Ф. Взаимодействие языковых уровней в сфере фразеологии. Полтава, 1990.
- Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка. 2-е изд. исп. и доп. М., 1995. 472 с.
- Арсентьев Д. 3. Проблема лексикографического описания фразеологических единиц. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология: Тезисы сообщений школы-семинара (3—7 ноября 1990 г.). Орел, 1990. С. 41−42.
- Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы фразеологии.
- Ахманова О. С. Содержание и задачи фразеологии применительно к лексикографии. // Проблемы фразеологии и задачи составления фразеологического словаря: Тезисы докладов. Л., 1961.
- Бабкин А. М. Идиоматика в языке и словаре. // Современная русская лексикография. 1977. Л., 1979. С. 4−19.
- Бабкин А. М. Идиоматика и грамматика в словаре. // Современная русская лексикография. 1980. Л., 1981. С. 5−43.
- Бабкин А. М. Лексикографическая разработка русской фразеологии. М.-Л., 1964. 75 с.
- Бабкин А. М. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л., 1970. 261 с.
- Бабкин А. М. Фразеологизмы русского языка и задачи академического словаря русской фразеологии. // Проблемы фразеологии и задачи составления фразеологического словаря: Тезисы докладов. Л., 1961.
- Багатурова Е. Лексикографическая проблематика русской фразеологии. (На материале русско-армянских словарей).: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Баку, 1972. 21 с.
- Бажутина Г. В. К вопросу о синтаксической членимости фразеологизмов. Пермь, 1989. 13 с.
- Бажутина Г. В. Особенности внешних связей фразеологизмов в сопоставлении со связями переменных словосочетаний (глагольное управление).: Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 1975. 25 с.
- Беркова О. В. Крылатые слова и проблемы их лексикографирова-ния.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Л., 1991. 16 с.
- Богданова А. Ф. Сочетаемость фразеологизма со словами в речи и разграничение его лексических значений (На материале глагольных фразеологизмов русского языка).: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Л., 1985. 12 с.
- Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. Л., 1978. 175 с.
- Бурмако В. И. Синтаксическая и лексико-грамматическая сочетаемость тавтологических фразеологизмов. // Фразеология. 1. Челябинск, 1973. С. 13−32.
- Бурмистрович Ю. Я. Образование фразеологизмов как процесс, осуществляемый по моделям (к постановке вопроса). // Вопросы семантики фразеологических единиц. Новгород, 1971.
- Бушуй А. М. Системность фразеологии в лигнводидактическом и лексикографическом аспектах. // Задачи изучения русской лексики и фразеологии в высшей и средней школе. Орел, 1982.
- Бушуй А. М. Лексикографическое описание фразеологии. Самарканд, 1982.
- Быстрова Е. А., Окунева А. П., Шанский Н. М. Учебный фразеологический словарь русского языка. Л., 1984. 270 с.
- Васильченко С. М. Отражение во фразеологических словарях парадигматических и синтагматических свойств ЛСГ. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология: Тезисы сообщений школы—семинара (3−7 ноября 1990 г.). Орел, 1990. С. 104−106.
- Виноградов В. В. Лексикология и лексикография. Избр. труды. М., 1977. 310 с.
- Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). О типах фразеологических единиц русского языка. M.-JL, 1947. С. 21−28
- Виноградов С. И. Нормативный и коммуникативно-прагматический аспекты культуры речи. // Культура речи и эффективность общения. М., 1996. С. 121−152.
- Воробьева Г. К. Семантико-синтаксическое описание несвободных словосочетаний русского языка с глаголом «давать».: Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 1982. 18 с.
- Воробьева Г. К. Структура и функции предложений с устойчивыми глагольными словосочетаниями русского языка. М., 1995. 95 с.
- Гашева JI. П. Влияние семантического факта на порядок следования компонентов во фразеологических единицах. // Фразеология. 1. Челябинск, 1973. С. 32−39.
- Гашева JI. П. Порядок расположения компонентов во фразеологизмах процессуальной семантики в современном русском языке (Модель словосочетания).: Автореф. дис. .канд. филол. наук. JL, 1985. 16 с.
- Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма: На материале современного русского языка. Л., 1978. 288 с.
- Городецкая И. Л. К описанию в словаре функциональных особенностей фразеологических единиц. // Современная русская лексикография. 1977. Л., 1979. С. 26−48.
- Граудина Л. К. Вопросы нормализации русского языка.: Грамматика и варианты. М., 1980. 280 с.
- Граудина Л. К. Проблемы нормирования русского языка: реальность и прогнозы. // Культура речи и эффективность общения. М., 1996. С. 177−199.
- Гришанова В. Н. О типах словарных помет при фразеотрафии толкований многозначных фразеологизмов. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология: Тезисы сообщений школы—семинара (3—7 ноября 1990 г.). Орел, 1990. С. 69−70.
- Гужанов С. И. О способах размещения фразеологических единиц во фразеологических словарях русского языка. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология: Тезисы сообщений школы—семинара (3−7 ноября 1990 г.). Орел, 1990. С. 67−68.
- Данеш Ф. Позиции и оценочные критерии кодификации. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 20. М., 1988. С. 281−296.
- Денисов Г. Н. Основные принципы теории лексикографии. //Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1993. С. 205−243.
- Дерибас В. М. Устойчивые глагольно-именные сочетания русского языка.: Словарь-справочник. Учеб. пособие для студентов-иностранцев. 2-е изд. М., 1979. 254 с.
- Диброва Е. И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке. Ростов н/Д, 1979. 190 с.
- Дидковская В. Г. Парадигматические свойства фразеологических сочетаний в русском языке. Новгород, 1997. 97 с.
- Донскова 3. В. Фразеологические единицы, выполняющие роль главных членов двусоставного предложения в современном русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Ростов н/Д, 1954. 14 с.
- Едличка А. Типы норм языковой коммуникации. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 20. М., 1988. С. 135−150.
- Ермилова М. Л. Лексическая и грамматическая сочетаемость фразеологических единиц современного русского языка.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. СПб., 1994. 16 с.
- Жмурко О. И. Показ грамматической сочетаемости фразеологических единиц (на материале глагольной идиоматики). // Фразеологизм и его лексикографическая разработка. Минск, 1987.
- Жуков А. В. Фразеологическая переходность в русском языке. Л., 1984. 92 с.
- Жуков В. П. Видовременная характеристика устойчивых сочетаний глагольного типа. // Ученые записки Гурьевского пединститута, 1958. т. 1, Вып. 1.
- Жуков В. П. О грамматических свойствах фразеологизмов. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология: Тезисы сообщений школы—семинара (3—7 ноября 1990 г.). Орел, 1990. С. 80−81.
- Жуков В. П. Особенности употребления форм лица и повелительного наклонения в сказуемом, выраженном устойчивым сочетанием глагольного типа. // Ученые записки Гурьевского пединститута, 1958. т. 1, выл. 1.
- Жуков В. П. Сказуемое, выраженное устойчивыми словосочетаниями в современном русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Л., 1953. 19 с.
- Жуков В. П. Фразеологизм в его отношении к части речи. // Фразеологизмы в системе языковых уровней. Л., 1986. С. 5−24.
- Жуков В. П., Жуков А. В. Морфологическая характеристика фразеологизмов русского языка.: Учебное пособие к спецкурсу. Л., 1980. 97 с.
- Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 3-е изд., перераб. М., 1994. 430 с.
- Жуков В. П., Сидоренко М. И., Шкляров В. Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. М., 1987. 440 с.
- Жураев Э. X. Норма во фразеологии и ее кодификация в словарях.: Диссертация .канд. филол. наук. Ташкент, 1991. 18 с.
- Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка.: Словоизменение. Около 100 ООО слов. 3-е изд., стер. М., 1987. 879 е.- табл.
- Зимин В. И. К вопросу об образовании фразеологизмов из свободных словосочетаний. // Труды УДН. Т. 58. Вып. 8. М., 1972. С. 80−91.
- Золотова Г. А. Синтаксическая синонимия и культура речи. // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970. С. 178−218.
- Игнатьева Д. И. Лексико-семантическая сочетаемость фразеологических единиц со сравнительным компонентом качественной семантики. // Фразеология. 1. Челябинск, 1973. С. 48−56.
- Игнатьева Д. И. Фразеологические единицы со сравнительным компонентом предикативной семантики. // Фразеология. 1. Челябинск, 1973. С. 39−48.
- Игнатьева Л. Д. Синтаксические свойства и функции фразеологизмов с компонентом «как» предикативной семантики. Челябинск, 1979. 15 с.
- Ильченко Н. П. Морфологическая характеристика глагола в составе предикативных фразеологических единиц.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. 1955. 15 с.
- Ицкович В. А. Норма и ее кодификация. // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970. С. 9−40.
- Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы. М., 1982.
- Каменева Л. П. Значение и сочетаемость фразеологических единиц с фразеобразующим компонентом в форме предложного падежа. // Фразеология. 1. Челябинск, 1973. С. 56−64.
- Киселев И. А. Фразеологический словарь русского языка. Минск, 1985. 128 с.
- Клевцова А. В. Придаточные предложения идиоматического характера в функции членов предложения. // Фразеологизмы в системе языковых уровней. Л., 1986. С. 50−63.
- Ковалева Л. Г. Глагольно-пропорциональные глагольные единицы русского языка (лексикографический анализ): Автореф. дис. .канд. фи-лол. наук. СПб., 1993. 17 с.
- Король Л. И. Отражение системных связей глагольной лексики в учебной лексикографии (По материалам словаря «400 наиболее употребительных слов»). Липецк, 1986. 223 с.
- Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963.
- Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994. 246 с.
- Кочетков А. К. Устойчивые словосочетания с глаголом в современном русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Куйбышев, 1954. 20 с.
- Кошелева Т. И. Фразеологическая норма русского языка и случаи ее нарушения.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Новгород, 1997. 23 с.
- Красных В. И. Русские глаголы и предикативы: Словарь сочетаемости. М., 1993. 226 с.
- Кузнецов С. А. Русский глагол: Формообразовательный словарь-справочник. СПб., 2000. 262 с.
- Кульчицкая П. М. Устойчивые словосочетания в функции сказуемого в современном русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Киев, 1954. 15 с.
- Лаптева Г. В. Структура и значение фразеологизмов модели «глагол + В. п. имени». // Задачи изучения русской лексики и фразеологии в высшей и средней школе: Тезисы. Орел, 1982. С. 237−239.
- Лебедева Г. И. Особенности категории наклонения процессуальных фразеологизмов. Челябинск, 1979. 13 с.
- Лебедева Г. И. Процессуальные фразеологизмы с полной парадигмой наклонения. // Вопросы фразеологии современного русского языка. Челябинск, 1975. С. 42−59.
- Лебединская В. А. Взаимодействие семантических и грамматических свойств процессуальных фразеологизмов.: Автореф. дис. .д-ра. фи-лол. наук. Орел, 1996. 40 с.
- Лебединская В. А. Модели процессуальных фразеологизмов с компонентом именем в форме Р. п. // Синтаксические модели фразеологизмов: Межвуз. сб. науч. тр. Челябинск, 1989. С. 85−99.
- Лебединская В. А. Процессуальные фразеологизмы современного русского языка. Челябинск, 1987. 80 с.
- Лебединская В. А. Функционирование категории наклонения процессуальных фразеологизмов. Курган, 1992. 101 с.
- Лепешев И. Я. Фразеологизм и языковая норма. // Актуальные проблемы русской фразеологии: Межвузовский сб. науч. тр. Л., 1983. С. 43−51.
- Ляхова Т. Н. Синтаксис фразеологической единицы как раздел ее грамматики. // Фразеологические словаря и компьютерная фразеография: Тезисы сообщений школы-семинара 3−7 ноября 1990 г. Орел, 1990. С. 76−82.
- Макеева И. И. Грамматика и лексикография. // Жизнь языка. М., 2001. С. 98−109.
- Максимов С. М. Крылатые слова: Слово молвится и до веку не сломится. М., 1955. 447 с.
- Мелерович A/M., Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи: Словарь. М., 1997. 863 с.
- Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. Л., 1977. 281 с.
- Молотков А. И. Форма фразеологизма. // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда, 1967. С. 175−185.
- Молотков А. И. Фразеологические единицы и состав фразеологических единиц как предмет и объект лексикографии. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология: Тезисы сообщений школы-семинара (3−7 ноября 1990 г.). Орел, 1990. С. 39−40.
- Морозов В. Э. Глагол в русском языке и русской речи. М., 2000. 194 с.
- Наполина О. В. Грамматическая семантика глагольно-именных фразеосочетаний в русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Воронеж, 1987. 20 с.
- Никоновайте Ф. И. Фразеологические единицы с частичной видовой соотносительностью. // Вопросы фразеологии современного русского языка. Челябинск, 1975. С. 31−42.
- Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. 352 с.
- Палевская М. Ф. Образование фразеологических единиц и сопутствующие процессы. // Образование и функционирование фразеологических единиц. Ростов н/Д, 1981. С. 32−34.
- Палевская М. Ф. Основные модели фразеологических единиц со структурой словосочетания в русском языке XVIII в. Кишинев, 1972.
- Панасенко Е. Г. Предикативные фразеологические сочетания в современном русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Ростов н/Д, 1981. 25 с.
- Пашкова А. В. Предикативные фразеологические единицы в современном русском языке (Парадигматический и синтагматический аспект).: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Ростов н/Д, 1985. 17 с.
- Проблемы фразеологии и задачи составления фразеологического словаря. Тезисы. JI., 1961. 24 с.
- Ризаева В. М. Фразеологические единицы со структурой предложения в русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Нальчик, 1988. 20 с.
- Ройзензон JI. И. Лекции по общей и русской фразеологии: Учеб. пособие. Самарканд, 1973. 220 с.
- Ройзензон Л. И., Шугурова 3. А. Теоретические основы компара-. тивной фразеологии и лексикографии. // Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. Баку, 1968. С. 12−22.
- Русская грамматика. В 2-х т. М., 1980.
- Русский язык: энциклопедия. 2-е изд. доп. и перераб. М., 1998. 703 с.
- Салляма М. М. Структурно-грамматическая характеристика сочинительных фразеологизмов современного русского языка.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 1985. 16 с.
- Салляма М. М. Явление вариантности сочинительных фразеологизмов. Краснодар, 1984. 18 с.
- Свиридова А. В. Семантические и грамматические свойства процессуальных фразеологизмов с компонентом «не».: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Орел, 1996 23 с.
- Семенова Н. А. Параметризация глагольных фразеологических единиц в русском языке (Функционально-синтаксический аспект).: Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 1990. 22 с.
- Сидоренко К. П. О некоторых путях образования фразеологизмов терминологического характера. // Современная русская лексикография. 1977. Л., 1979. С. 78−85.
- Сидоренко М. Л. Парадигматические отношения фразеологических единиц в русском языке. Л., 1982. 107 с.
- Скворцов Л. В. Теоретические основы культуры речи. М., 1980. 352 с.
- Скворцов Л. И. Современные отечественные и зарубежные исследования в области культуры речи (в нормативном и коммуникативном аспектах). // Культура речи и эффективность общения. М., 1996. С. 40−65.
- Словарь образных выражений русского языка. / Под. ред. В. Н. Телии. М., 1995. 365 с.
- Соловьева А. Д. Специфика синтаксических связей некоторых фразеологизмов. // Фразеология. 1. Челябинск, 1973. С. 76−90.
- Судоплатова М. Н. Устойчивые компаративные сочетания и компаративная фразеология. // Современная русская лексикография. 1977. Л., 1979. С. 48−62.
- Тараненко Т. П. Структурно-грамматические особенности фразеологических единиц в русском языке.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Сумы, 1965. 18 с.
- Телия В. Н. Русская фразеология.: Семантический, прагматический лингвокультурологический аспекты. М., 1996. 286 с.
- Телия В. Н. Что такое фразеология. М., 1966. 185 с.
- Тихонов А. Н. Грамматическая характеристика фразеологических оборотов в толковом фразеологическом словаре русского языка. // Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. Баку, 1968. С. 152−156.
- Тихонов А. Н. О грамматических формах, вариантах и дериватах фразеологических оборотов. // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда, 1967. С. 220−231.
- Успенский М. В. Словарь спрягаемых форм русского глагола с методическим комментарием. СПб., 1997. 135 с.
- Фавзи А. М. Глагольные фраземы в современном русском языке.: Автореф. дис. .кан. филол. наук. М., 1967. 19 с.
- Фелицына В. П., Мокиенко В. М. Русские фразеологизмы: Словарь. Более 800 выражений. / Под ред. В. П. Фелицыной, В. М. Мокиенко. М., 1999. 397 с.
- Фразеологизм и его лексикографическая разработка. Минск, 1987. 146 с.
- Фразеологический словарь русского языка. / Под ред. А. И. Мо-лоткова. М., 1967. 542 с.
- Хуснутдинов А. А. Грамматика фразеологической единицы.: Диссертация .д-ра. филол. наук. СПб., 1996. 32 с.
- Хуснутдинов А. А. Трудные случаи лексико-грамматической характеристики фразеологических единиц русского языка.: Автореф. дис. .канд. филол. наук. JL, 1988. 17 с.
- Чепасова А. М. Синтаксическая характеристика фразеологизмов в словаре. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология: Тезисы сообщений школы—семинара 3—7 ноября 1990 г. Орел, 1990. С. 13−16.
- Чепасова А. М. Сочетаемость и категория рода фразеологизма. // Фразеология. 1. Челябинск, 1973. С. 101−114.
- Чепасова А. М. Специфика функционирования грамматических категорий во фразеологизмах. Статья первая. // Вопросы фразеологии современного русского языка. Челябинск, 1975. С. 3−31.
- Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1969. 230 с.
- Шахматов A.A. Синтаксис русского языка. Вып. 1. Изд. 2, М., 1941.
- Шварцкопф Б. С. Давление языковой системы и немотивированность отношений внутри фразеологической единицы как источник ее вариантности. // Актуальные проблемы лексикологии: Тезисы лингв, конф. Новосибирск, 1969.
- Шварцкопф Б. С. Единица фразеологического состава языка и норма. //Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970. С. 163−177.
- Шварцкопф Б. С. Морфологическая парадигматика фразеологической единицы и норма. // Грамматика и норма. М., 1977. С. 171−178.
- Шварцкопф Б. С. О понятии «колебание», («колебание нормы»). // Актуальные проблемы культуры речи: Тезисы Всесоюз. науч. конф. (Звенигород, 19−21 марта 1990 г.). М., 1990.
- Шварцкопф Б. С. Алексашенко Е. В. О типах синтаксических вариантов фразеологических единиц. // Фразеологические словари и компьютерная фразеология. Тезисы сообщений школы—семинара (3—7 ноября 1990 г.). Орел, 1990. С. 62−64.
- Шварцкопф Б. С. О характере фразеологической деривации. // Деривация и история языка: Межвузовский сб. науч. тр. Пермь, 1987. С. 47−50.
- Шварцкопф Б. С. Очерк развития теоретических взглядов на норму в советском языкознании. // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970. С. 369−404.
- Шварцкопф Б. С. Парадигматика и фразеологическая вариантность в фразеологическом словаре русского языка. // Советская лексикография: Сб. ст. М., 1988. С. 170−177.
- Шварцкопф Б. С. Словарь русской фразеологии и его нормативно-грамматический план. // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988. С. 89−90.
- Шварцкопф Б. С. Фразеологические единицы в отношении к языковой норме. // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда, 1967. С. 50−57
- Шведова H. Ю. О понятии синтаксического ряда. // Историко-филологические исследования: Сб. ст. М., 1967.
- Шведова Н. Ю. Парадоксы словарной статьи. // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988. С. 6−11.
- Щерба JI. В. Опыт общей теории лексикографии: Избр. работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1958.
- Эмирова А. М. Русская фразеология в коммуникативном аспекте. Ташкент, 1988. 92 с.
- Языкознание: Энциклопедия / Под. ред. В. Н. Ярцевой. 2-е изд. М., 1998. 683 с.
- Яранцев Р. И. Русская фразеология: Словарь-справочник. Около 1500 фразеологизмов. М., 1997. 845 с.
- Daum, W Schenk. Die russischen Verben. Grundformen. Aspekte. Rektion. Betonung. Deutsche. Bedeutung. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1954. 798 c.