Психология рефлексии измененных состояний сознания
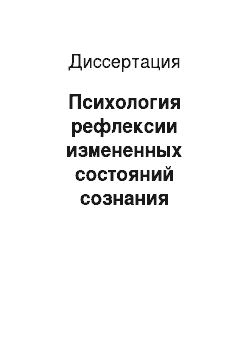
В этой связи мы можем опереться на новые философские подходы к пониманию рефлексии, разрабатываемые в современной феноменологии (М. Мерло-Понти, П. Рикер) и согласно которым рефлексия — это не только «мышление о мышлении», «познание о познании», но, главным образом, «рефлексия о нерефлексивном» (М. Мерло-Понти). Традиционная интерпретация рефлексии, выражающаяся в конституирующей работе сознания… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. ПРОБЛЕМА РЕФЛЕКСИИ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
- 1. 1. Проблема рефлексии в философии и психологии
- 1. 1. 1. Философские концепции рефлексии
- 1. 1. 2. Исследования рефлексии в зарубежной психологии
- 1. 1. 3. Исследования, посвященные проблеме рефлексии, в отечественной психологии
- 1. 2. Проблема измененных состояний сознания в философии и психологии
- 1. 2. 1. Философский взгляд на проблему измененных состояний сознания (ИСС)
- 1. 2. 2. Взаимосвязь рефлексии и внутреннего диалога в ИСС
- 1. 2. 3. Психологический анализ измененных состояний сознания
- 1. 3. Исследования рефлексии ИСС в психоанализе
- 1. 3. 1. Рефлексия трансферентных измененных состояниях сознания
- 1. 3. 2. Рефлексия контртрансферентных измененных состояниях сознания
- 1. 3. 3. Рефлексия совместных трансферентно-контртрансферентных ИСС
- 1. 4. Постановка проблемы исследования рефлексии ИСС
- 1. 5. Методология и методы исследований психоаналитического процесса
- 1. 1. Проблема рефлексии в философии и психологии
- ГЛАВА 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕФЛЕКСИИ И ВНУТРЕННЕГО ДИАЛОГА В ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЯХ СОЗНАНИЯ
- 2. 1. Теоретический анализ проблемы взаимосвязи рефлексии и внутреннего диалога
- 2. 1. 1. Понятие внутреннего диалога
- 2. 1. 2. Взаимосвязь рефлексии и внутреннего диалога
- 2. 1. 3. Контексты внутреннего диалога
- 2. 2. Эмпирическое исследование динамики внутреннего диалога в ходе рефлексии ИСС
- 2. 2. 1. Эмпирические критерии актуализации внутреннего диалога в тексте
- 2. 2. 2. Анализ контекстов внутреннего диалога
- 2. 3. Эмпирическое исследование взаимосвязи рефлексии с внутренним диалогом в ИСС
- 2. 3. 1. Особенности рефлексивных уровней внутреннего диалога
- 2. 4. Микросемантический анализ рефлексии ИСС
- 2. 4. 1. Метод микросемантического анализа
- 2. 4. 2. Микросемантический анализ динамики рефлексии ИСС
- 2. 1. Теоретический анализ проблемы взаимосвязи рефлексии и внутреннего диалога
- 3. 1. Психосемантический анализ влияния рефлексии ИСС на динамику интрапсихических изменений личности
- 3. 2. Психолингвистический анализ влияния рефлексии ИСС на динамику интрапсихических изменений личности
- 3. 3. Сравнительный анализ результатов психосемантического и психолингвистического анализа
- 3. 4. Исследование рефлексии ИСС методом экспликации ментальных карт
- 3. 5. Исследование рефлексии ИСС методом центральной конфликтной темы взаимоотношений (CCRT)
- 3. 6. Сравнительный анализ метода CCRT и метода экспликации ментальных карт
- 3. 7. Исследование влияния рефлексии ИСС на динамику внутриличностных конфликтов
- 4. 1. Психолиигвистическое исследование рефлексии ИСС
- 4. 1. 1. Исследование динамики внешнекоммуникативной и интрапсихической направленности рефлексивных процессов в ИСС
- 4. 1. 2. Исследование изменения рефлексивной наполненности рассказов о сновидениях
- 4. 1. 3. Исследование динамики качественного содержания рефлексивных процессов в ИСС
- 4. 1. 4. Исследование динамики смысловой наполненности значимых объектов внутренней реальности в ходе рефлексии ИСС
- 4. 1. 5. Исследование динамики рефлексивной активности личности в ИСС
- 4. 1. 6. Исследование динамики «рефлексирующего Я» и «регрессивного Я»
- 4. 2. Экспериментальное исследование рефлексивных стратегий личности в ИСС
- 4. 2. 1. Интерактивная рефлексия в измененных состояниях сознания
- 4. 2. 2. Экспериментальное исследование эффективности различных рефлексивных стратегий в ИСС
- 5. 1. Коммуникативное намерение в лингвистике
- 5. 2. Коммуникативное намерение в психоанализе
- 5. 3. Эмпирическое исследование влияния рефлексии ИСС на динамику имплицитных коммуникативных намерений
Психология рефлексии измененных состояний сознания (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность.
Многовековая история изучения рефлексии в философии и позднее в психологии, отражает значимость этой уникальной способности человека для развития личности и понимания им самого себя. Вместе с тем, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на весь огромный вклад предыдущих поколений исследователей, проблема рефлексии продолжает оставаться в определенной мере таинственным феноменом человеческой психики, во многом еще непонятным психическим механизмом, с одной стороны, обеспечивающим целостность личности, с другой стороны, все время подвергающим эту целостность испытаниям и конфликтам и, одновременно с этим, с третьей стороны, способствующим переосмыслению личностью самой себя и своих психических содержаний в процессе разрешения внутренних конфликтов и, тем самым, приводящим личность к новому более целостному состоянию.
В отечественной психологии существует большое разнообразие подходов не только к изучению рефлексии, но и к пониманию ее роли в обеспечении поведения и деятельности, в развитии и становлении личности. Изучение в отечественной психологии проблемы рефлексии ведет свою историю с теоретических работ JI.C. Выготского, Л. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и других ученых, рассматривавших рефлексию как в качестве одного из объяснительных принципов организации психики человека, и, прежде всего его высшей формы — самосознания.
Согласно Л. С. Выготскому, важнейшей задачей является постановка вопроса о рефлексии в психологическом исследовании. А. Н. Леонтьев в рамках деятельностного подхода рассматривал рефлексию как внутреннюю работу личности по решению задачи на смысл. С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что с процессом рефлексии связано ценностно-смысловое определение жизни.
Проблема рефлексии в отечественной психологии изучается с четырех основных позиций: кооперативной (Е.Н.Емельянов (1981), А. В. Карпов (2002, 2004), И. С. Кон (1989), В. Е. Лепский (2005), В. А. Лефевр (1973, 1990), Г. П. Щедровицкий (1974, 1995) и др.) — коммуникативной (Г.М. Андреева (1981), А. А. Бодалев (1982, 1983) и др.) — интеллектуальной (А.В. Брушлинский (1982, 1994, 1996), Т. В. Корнилова (1997, 2006), Ю. Н. Кулюткин (1979), A.M. Матюшкин (1984), O.K. Тихомиров (1984), В. В. Давыдов (1975), А. Н. Матюшкин (1985), O.K. Тихомиров (1984), И. Н. Семенов (1990), И. С. Ладенко (1990) и др.) и личностной (К.С. Абульханова-Славская (1973, 1991), А.Г.
Асмолов (1986, 1996, 2001), Б. С. Братусь (1998, 1999, 2005), С. П. Варламова (1997), Ф. Е. Василкж (1984, 1991, 2005), Н. И. Гуткина (1982), Б. В. Зейгарник (1981), В. В. Знаков (1996, 1998, 2005), Д. А. Леонтьев (1999, 2006), B.C. Мухина (1998), В. Ф. Петренко (1988, 1990, 2005), В. А. Петровский (1992, 1996, 2000), И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов (1985, 1990), В. И. Слободчиков (1994), ЕЛ Соколова (1989, 1997, 2001), B.C. Шаров (2000) и др.). При этом первые два направления представляют собой исследования коллективных форм деятельности и опосредствующих их процессов общения, а другие дваисследования индивидуальных форм проявления мышления, сознания и самосознания.
Личностная рефлексия понимается большинством авторов как психологический механизм изменения индивидуального сознания. Рефлексия здесь выступает смысловым центром внутренней реальности человека и всей его жизнедеятельности в целом.
Говоря о современных исследованиях личностной рефлексии, следует упомянуть о появлении нового направления — рефлексивно-гуманистической психологии (Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов), в котором предметом изучения является процесс творчества (творческое самоопределение, саморазвитие), объяснительным принципом — рефлексивно-инновационный процесс, а методом работы с феноменами высших творческих проявлений человека — рефлепрактика.
Обращаясь к зарубежным исследованиям рефлексии в метакогнитивизме, мы можем отметить их интеллектуалистическую ориентацию в теоретическом плане, присущую большинству исследований мышления в зарубежной психологии, а также их остающуюся близость к методологии информационного подхода. Все функции рефлексии в метакогнитивизме замещаются метакогнитивными процессами (формирование метакогнитивных стратегий, метакогниция, метапонимание, метакогнитивная регуляция, метапроцессы как «клей» для целостной психики и т. п.). Однако происходит не просто замещение рефлексивных процессов метакогнитивными, но и существенное обеднение при этом самой сущности рефлексии. Она низводится до обслуживания контроля, мониторинга, регуляции и управления. Не нужно и говорить о том, что здесь исчезает не только личностный план рефлексии, но и вся «целостная личность», чьим «клеем», с точки зрения, культурно-исторической психологии и является рефлексия. При этом организованная иерархическим образом рефлексивная регуляция (А.В. Карпов) или прямо отождествляется с метакогнитивными процессами, или, в более частных случаях, превращается или в один из метакогнитивных процессов, или даже в «базовый регулятивный компонент метакогниции».
Оценивая в целом изучение рефлексии в зарубежной психологии, мы можем констатировать дефицит экспериментальных и эмпирических исследований, направленных на разработку такого важнейшего типа рефлексии как личностная рефлексия. При этом на тему личностной рефлексии написано достаточно много работ с общими рассуждениями и подходами. Тематика личностной рефлексии подробно рассматривается в различных направлениях психотерапевтической практики: психоанализе, гуманистической и экзистенциальной психотерапии, гештальт-терапии и др. Однако, здесь проблема рефлексии разрабатывается с перспективы терапевтической помощи человеку, что, конечно, часто сужает рамки исследований до влияния рефлексии на эффективность тех или иных видов психопрактики. Теоретическое, экспериментальное и эмпирическое исследование личностной рефлексии как интеграционного механизма личности остается по-прежнему актуальным как никогда.
Являясь активным субъектным процессом, преобразующим внутреннюю реальность человека, рефлексия трудноуловима эмпирически и операционально. Мы согласны с А. В. Карповым (2004), отмечающим беспрецедентную сложность рефлексии как предмета общепсихологического изучения, слабую разработанность собственно методических аспектов проблемы, недостаточность эмпирических и экспериментальных методов ее изучения. Малое число конкретных закономерностей, описанных в психологии в отношении рефлексии не означает, что их на самом деле мало и они поэтому малозначимы.
Однако наш подход к исследованию рефлексии принципиально отличается от метакогнитивно-ориентированиой концепции рефлексии А. В. Карпова. В последней рефлексии отводится регулятивная роль, способствующая достижению адаптации субъекта в его отношениях с миром. Мы же понимаем рефлексию не просто как процесс осознания, регуляции, самоконтроля, управления и т. п., но как процесс смыслопорождения, смыслообразования, как уникальную способность личности к «рефлексии о нерефлексивном» (Мерло-Понти), способную приводить к возникновению принципиально новых смыслов, принципиально качественным изменениям не только в самом рефлексивном функционировании, но и к принципиально качественному (а не количественному!) развитию субъектности, всей личности в целом.
Когда рефлексия подменяется метакогницией, то та же участь ожидает и субъекта, из которого исчезает все нерефлексивное, бессознательное, иррациональное и непостигаемое. Мы можем часто встретить акцент на «повышение меры адаптивности» субъекта и в современных исследованиях рефлексии. Однако, благодаря работам JI.C. Выготского, А. Н. Леонтьева, C.JI. Рубинштейна, А. Г. Асмолова, А. К. Абульхановой.
Славской, В. А. Петровского и др. мы уже хорошо знаем, что наличие только адаптивных тенденций взаимодействия человека с самим собой и с миром недостаточно для развития, для формирования личности как субъекта активности. Именно, благодаря рефлексии, понимаемой нами, вслед за А. Н. Леонтьевым как внутренняя работа, и, вслед за А. Г. Асмоловым как активный субъектный процесс порождения смыслов, и возникает выход за пределы адаптивного поведения, позволяющий преодолевать сложившиеся стереотипы и порождать принципиально новые личностные смыслы и способы рефлексии, формируя субъектность как важнейшее качество развивающейся личности.
Вне всякого сомнения, регуляция, координация, организация, контроль и управление играют существенную роль в процессе адаптации субъекта к жизни и деятельности, к своим внутренним переживаниям и др., однако, для развития и становлении личности, обретения субъектом индивидуальности, их участие конечно необходимо, но совершенно недостаточно. Важнейшие аспекты рефлексии, обеспечивающие именно процесс развития личности, интегративиые процессы, включающие в себя не только сознательные (и тем самым регулируемые), но и неосознаваемые психические содержания не должны оставаться без внимания.
В этой связи мы можем опереться на новые философские подходы к пониманию рефлексии, разрабатываемые в современной феноменологии (М. Мерло-Понти, П. Рикер) и согласно которым рефлексия — это не только «мышление о мышлении», «познание о познании», но, главным образом, «рефлексия о нерефлексивном» (М. Мерло-Понти). Традиционная интерпретация рефлексии, выражающаяся в конституирующей работе сознания, расценивается современными феноменологами как понимание рефлексии исключительно с позиций интеллектуализма. Новое понимание рефлексии исходит из понимания недостаточности сферы сознания, его зависимости от нерефлексивных психических содержаний. В этом отношении сама возможность рефлексии о нерефлексивном рассматривается как уникальная способность человека. Это новое современное философское понимание рефлексии акцентирует также такое важнейшее свойство рефлексии как способность изменять структуру сознания и приводить при этом человека в состояние подлинного творчества. С этой современной философской перспективы мы можем ясно увидеть сходство психического функционирования психоаналитической, художественной, актерской и любой другой присутствующей в различных творческих процессах рефлексии, каждая из которых имеет прямую связь с нерефлексивными психическими содержаниями и поэтому разворачивается и осуществляется в измененных состояниях сознания.
Именно в этом, на наш взгляд, заключается суть личностной рефлексии, позволяющей нам рассматривать ее как механизм качественных изменений ценностно-смысловых образований и интеграции личности в новое, более целостное состояние.
Предпосылки к этому новому пониманию рефлексии как рефлексии о нерефлексивном мы можем встретить и в отечественной психологии — в идеях А. Н. Леонтьева о рефлексии как о «внутренней работе решения задач на личностный смысл», работе по раскрытию уникальных, часто неосознаваемых личностных смыслов, или как об этом писал В. К. Вилюнас, работе по «обретению вербализованных смыслов, в результате осознания смыслов невербализованных в ходе „решения задачи на смысл“». Благодаря этому, мы лучше понимаем важнейшую интегративную роль рефлексии в процессах смыслообразования и развития личности.
Итак, наше определение рефлексии состоит в следующем. Личностная рефлексия — это активный субъектный процесс порождения смыслов, основанный на уникальной способности личности к рефлексии нерефлексивного — внутренней работе, приводящей к качественным изменениям ценностно-смысловых образований, формированию новых стратегий рефлексии и способов внутреннего диалога, интеграции личности в новое, более целостное состояние.
Именно это, общепсихологическое понимание личностной рефлексии как способности личности осуществлять рефлексивную работу с нерефлексивными психическими содержаниями, переосмысливая не только эти последние, но также и свои собственные рефлексивные стратегии, способы внутреннего размышления и понимания, и интересует нас в исследованиях измененных состояниях сознания (ИСС). Психоанализ, являясь методом погружения субъекта в ИСС в ходе особым образом организованной аналитической рефлексии, предоставляет уникальный эмпирический материал для общепсихологического исследования динамики личностной рефлексии и ее влияния на различные аспекты жизнедеятельности личности. Мы можем здесь заметить, что измененные состояния сознания, возникающие в процессе специальным образом организованной рефлексии, могут быть также названы рефлексивными состояниями сознания, имеющими различную степень выраженности рефлексии (различные уровни рефлексии).
Именно эта личностная рефлексия в ИСС как раз и направлена на рефлексию о нерефлексивном, запуская процессы глубокого рефлексивного переосмысления внутренних психических содержаний в ИСС и приводя к формированию новых личностных смыслов. Эмпирическое исследование этой личностной рефлексии в ИСС и служит главной целью нашей работы.
Проблема ИСС разрабатывается не только в общей психологии и психологии личности, но также в психиатрии, клинической психологии и трансперсональной психологи. При этом каждая научная дисциплина рассматривает свой собственный аспект ИСС.
Систематические научные исследования проблемы ИСС начались с работ немецкого психолога А. Людвига, первым разработавшего модель ИСС, основанную на положении о модульной структуре состояний сознания (Ludwig, 1966). Согласно классическому определению Людвига, измененные состояния сознания представляют собой «любые психические состояния, индуцированные физиологическими, психологическими или фармакологическими событиями или агентами различной природы, которые распознаются самим субъектом или внешними наблюдателями, и представлены существенными отклонениями в субъективных переживаниях или психологическом функционировании от определенных генерализованных для данного субъекта норм в состоянии активного бодрствования» (Ludwig, 1966, с.9). Основываясь на исследованиях А. Людвига, французский антрополог Э. Бургиньон делает вывод: «ИСС — это состояния, в которых изменяются ощущения, восприятия, эмоции и когнитивная сфера» (Бургиньон, 2001, с. 410).
В современной психологии разрабатываются различные модели, описывающие ИСС: дискретные (Tart, 1975), континуальные (Martindale, 1981) и дискретно-континуальные (Dittrich, 1981). Согласно Ч. Тарту, измененное состояние сознания — это новая по отношению к базисному состоянию (например, обычному бодрствованию) психическая система, обладающая присущими только ей характеристиками, своей хорошо упорядоченной, целостной совокупностью психологических функций, которые обеспечивают ее стабильность и устойчивость даже при значительных изменениях отдельных подсистем или определенной перемене внешних условий (Tart, 1969).
Наиболее активно ИСС исследуются в трансперсональной психологии, в рамках которой утверждается, что изучение феноменологии ИСС позволяет переосмыслить проблему сознания и расширить границы традиционного понимания личности. Трансперсональными психологами предложен ряд классификаций, систематизирующих и описывающих необычные переживания личности в ИСС, и модели психики, на них основывающиеся (самые известные из них: спектр сознания К. Уилбера (Wilber, 1977) — картография внутренних пространств С. Грофа (Гроф, 1994), модель холодвижения Д. Бома (Bohm, 1986) — модель личности Р. Уолша и Ф. Воган (Walsh, Vaughan, 1980)).
В связи с положениями трансперсональной психологии о спонтанном и самопроизвольном достижении интеграции личности при погружении в ИСС при условии полного прекращения рефлексии и абсолютного доверия глубинной логике бессознательного актуальной становится проблема', какой из двух процессов (рефлексивная работа с нерефлексивными содержаниями как трансформация личностных содержаний и их взаимоотношений или самопроизвольная, спонтанная интеграция в более целостное «Я» в ИСС) является причиной, а какой следствием. Рефлексия как процесс смыслопорождения вызывает интеграцию или произошедшая в ИСС спонтанная интеграция приводит к переосмыслению себя и своих отношений с внутренним миром.
Мы полагаем (Россохин, 1993), что рефлексивная работа в ходе погружения в ИСС с проявляющейся символической презентацией, личностными содержаниями (т.е. образом личности, с которым отождествляет себя «Я» во время переживания конфликта и частью личности, ранее неосознававшейся) и их взаимодействием друг с другом и есть механизм их интеграции в более целостный образ «Я», характеризующийся новыми, реорганизованными способами и формами рефлексии, эмоционального восприятия и взаимодействия как с психической, так и с внешней реальностью. Это теоретическое предположение требует экспериментальной и теоретической проверки.
В отличие от психиатрического, клинического и трансперсонального подходов к исследованию ИСС предметом наших исследований является феноменология ИСС, возникающая в ходе психоаналитического процесса, который представляет собой особым образом организованный процесс аналитической рефлексии в ИСС.
В отечественной психологии пионерские исследования психотерапевтического и психоаналитического процесса были осуществлены Е. Т. Соколовой (1995, 1997, 2002), внесшей фундаментальный вклад в их понимание и в разработку эмпирических методов их исследования. Е. Т. Соколова теоретически и эмпирически исследовала мотивацию и восприятие субъекта в норме и в различных патологических состояниях (1976) — самосознание и самооценку субъекта при различных аномалиях личности (1989) — особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях (1995) и разработала не только иптегративный подход к исследованию психотерапии невротической и пограничной личности, но и авторскую интегративную психотерапию личности.
Исследование изменений личности (на материале хронического алкоголизма) было проведено Б. С. Братусем (1974; 1988), разработавшим целостное представление о структуре и функциях смысловой сферы при различных аномальных состояниях личности, уровнях психического здоровья. Выявленные конкретные внутренние механизмы возникновения аномальных состояний личности (изменений характера, искажений субъективных ценностей, влечение к алкоголю и наркотикам и др.) позволило автору описать пути и принципы восстановительной, психокоррекционной и психопрофилактической работы.
В рамках психосемантического подхода к исследованию ИСС (Кучеренко, Петренко, Россохин, 1996) мы рассматриваем измененные состояния сознания через изменения форм категоризации сознания субъекта.
Наше определение ИСС состоит в том, что ИСС — это состояния, в которых происходят трансформация семантических пространств субъекта, изменения формы категоризации, сопровождающиеся переходом от социально-нормированных культурой форм категоризации к новым способам упорядочения внутреннего опыта и переживаний.
Разработанные нами (Кучеренко, Петренко, Россохии, 1996) критерии возникновения ИСС следующие: 1) переход от преимущественной опоры на вербально-логические, понятийные структуры, к отражению в форме наглядно-чувственных (довербальных) образов- 2) изменения эмоциональной окраски отражаемого в сознании внутреннего опыта, сопровождающие переход к новым формам категоризации- 3) изменения процессов самосознания, рефлексии и внутреннего диалога- 4) присутствие во внешнем диалоге фрагментов внутреннего диалога- 5) изменения восприятия времени, последовательности происходящих во внутренней реальности событий, частичное или полное их забывание, обусловленное трудностью, а иногда и невозможностью, перевода внутреннего опыта, полученного в измененных состояниях на «язык» социально-нормированных форм категоризации, например, сложность воспроизведения последовательности событий сновидения во время рассказа о нем в бодрствующем состоянии сознания.
Возникающие в ходе психоанализа, рассматриваемого нами как особым образом организованный процесс аналитической рефлексии ИСС, состояния сознания полностью соответствуют этим критериям и демонстрируют появление характерных для ИСС изменений в психическом функционировании субъекта. В ходе психоаналитического процесса субъект, проходящий психоанализ, постепенно погружается в особые регрессивные ИСС, сопровождающиеся изменением эмоциональной окраски отражаемого в сознании внутреннего опыта, изменениями процессов самосознания, рефлексии, восприятия времени и последовательности происходящих во внутренней реальности событий (Кучеренко, Петренко, Россохин, 1998).
Характерной особенностью регрессивных ИСС является оживление прошлого в настоящем, приводящее к активизации глубинных бессознательных содержаний личности и их взаимодействию с сознательным «Я». Этот новый интерактивный диалог приводит к возникновению у субъекта специфических трансферентных измененных состояний сознания (ИСС). Активный рефлексивный процесс их переосмысления и проработки, осуществляемый субъектом с помощью аналитика, приводит к порождению новых личностных смыслов и качественно новых рефлексивных стратегий и способов внутреннего диалога.
Современный психоанализ, согласно Д. А. Леонтьеву «направлен именно на раскрытие уникальных, часто не осознаваемых личностных смыслов. В этом отношении психоанализ имеет некоторую специфику, поскольку если в повседневном общении мы оперируем, как правило, общепринятыми денотативными и коннотативными значениями слов, то психоаналитику нередко приходится сталкиваться с весьма специфичными, глубоко индивидуальными смыслами, игнорирование которых (в частности ориентация исключительно на универсальные символы) становится достаточно распространенной ошибкой» (Леонтьев, 1999).
Другой признак, по которому феноменологию, полученную в процессе психоанализа, можно отнести к продукции ИСС, — присутствие во внешнем диалоге фрагментов внутреннего диалога. Происходит «диалог сознательного и бессознательного» (Россохин, 1993), т. е. вербально выраженное взаимодействие между различными психическими структурами, имеющими различную степень представленности в сознании, осознанности. Именно благодаря ИСС появляется возможность реализации важнейшей функции рефлексии — рефлексии ранее нерефлексивных психических содержаний.
Подобные регрессивные состояния сознания и та или иная рефлексивная активность в этих состояниях, возникающие у субъекта в ходе психоанализа, находят свое отражение в вербальном материале психоаналитических сессий. Соответственно посредством изучения этого вербального эмпирического материала могут быть исследованы как сами ИСС, так и динамика рефлексивной активности личности в этих состояниях.
В более широком контексте, одной из задач нашего исследования является анализ и осмысление психоаналитических феноменов с общепсихологических позиций. Психоанализ представляет собой не только терапевтический метод, но и исследовательскую процедуру, направленную на изучение и развитие личности человека. Специальным образом организованная аналитическая рефлексия как внутренняя работа, порождающая новые смыслы, представляет собой самую сердцевину психоаналитического метода. Именно поэтому, исследования рефлексии ИСС мы проводим на эмпирическом материале, полученном в ходе психоаналитического процесса.
Итак, новое общепсихологичеекое понимание личностной рефлексии как рефлексии о нерефлексивном в ИСС ведет к необходимости проведения новых эмпирических исследований, для осуществления которых требуется разработка нового методического арсенала. Если же мы обратимся сейчас к исследованиям рефлексии в ИСС, то встретим их практически полное отсутствие. Психология рефлексии в ИСС остается практически неисследованным полем и, поэтому анализ рефлексии в ИСС, как и ее эмпирическая и экспериментальная разработка находятся в данный момент на начальной стадии исследования.
В связи с этим разрабатываемое нами повое научное направление — психология рефлексии измененных состояний сознания — является важнейшей общепсихологической задачей и чрезвычайно актуально.
Таким образом, целью настоящего исследования является изучение особенностей и динамики рефлексии измененных состояний сознания и ее влияния на различные аспекты психического функционирования личности.
Объект исследования: Измененные состояния сознания субъекта, погруженного в процесс особым образом организованной рефлексивной работы.
Предмет исследования: Динамика рефлексивной активности личности в измененных состояниях сознания.
Основные гипотезы:
1. Рефлексивная работа в ИСС с нерефлексивными психическими содержаниями личности является механизмом их интеграции в более целостный образ «Я» и приводит к переосмыслению прежних и порождению новых способов рефлексии и внутреннего диалога.
2. «Наблюдающее рефлексивное Я» субъекта, обладающее новыми рефлексивными стратегиями, возникает путем идентификации с рефлексивными функциями психоаналитика. Рефлексия субъекта в ИСС побуждается и организуется высказываниями его собеседника, что выражается в направлении им внимания па определенные содержания сознания субъекта, в углублении процесса анализа и формировании обобщений.
3. Рефлексия ИСС субъекта реализуется посредством внутреннего диалога в ходе интериоризации внешнего диалога с собеседником. Появление качественно новых контекстов внутреннего диалога происходит в ходе рефлексии ИСС, направленной на преобразование личностно и эмоционально значимых содержаний сознания и самосознания субъекта.
4. Совпадение положения объектов в индивидуальном интрапсихическом пространстве указывает на наличие феномена трансферентных ИСС. Динамика изменения расположения объектов отражает процесс рефлексивного переосмысления и проработки ИСС.
5. В ходе рефлексии, ИСС происходят изменения во внутреннем мире субъекта, в том числе и в его эмоциональной сфере, а именно: активизация рефлексивных процессов приводит к количественным и качественным изменениям интрапсихических образов в рассказах субъекта о сновиденияхизменяется рефлексивная и смысловая наполненность воспоминаний о сновидениях.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез необходимо решить следующие задачи'.
1. Провести теоретический анализ динамики рефлексивной активности личности в измененных состояниях сознания.
2. Исследовать взаимосвязь рефлексивного и внутренне-диалогического процессов в измененных состояниях сознания.
3. Разработать операциональные методики и провести эмпирические исследования рефлексии ИСС.
4. Провести сравнительные экспериментальные исследования эффективности различных сформированных рефлексивных стратегий в измененных состояниях сознаиия.
5. Исследовать влияние рефлексии ИСС на динамику интрапсихических изменений личности.
Теоретико-методологическая база исследования.
Конкретную методологическую систему координат, в которой расположено наше исследование психологии рефлексии измененных состояний сознания, составляют: культурно-историческая психология JT.C. Выготского, деятельностный подход к изучению личности А. Н. Леонтьева, концепция полифонии сознания М. М. Бахтина, психосемантика сознания В. Ф. Петренко, научная школа культурно-исторической смысловой психологии личности А. Г. Асмолова и Б. С. Братуся, феноменология Э. Гуссерля и современная феноменологическая концепция М. Мерло-Понти.
Методы исследования.
Психосемантический анализмикросемантический анализпсихолингвистические методылингвостатистические методыдискурс-анализметод центральной конфликтной темы взаимоотношений (CCRT) — метод экспликации ментальных картметодика выявления актуализации внутреннего диалога в текстеметодика анализа контекстов внутреннего диалогаметодика расшифровки движения нерефлексируемых ассоциацийметод интерактивной рефлексии ИССпсиходиагностическое обследование (опросник 16.
PF — Кэттела, шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера, метод исследования уровня субъективного контроля УСК).
Эмпирическая база исследования.
Исследование эффективности различных рефлексивных стратегий в ИСС, вызванных применением дыхательных методик психокоррекции, проводилось со студентами-актерами, актерами профессиональных театров-студий и драматических театров. Общее число испытуемых — 141 человек.
Эмпирические исследования рефлексии и внутреннего диалога в ИСС, имплицитных содержаний психоаналитического диалога проводились на материале транскриптов (протоколов) психоаналитических сессий. При их подготовке живая речь первоначально фиксировалась в форме аудиозаписи, а затем переводилась в текстовую форму. Для перевода аудиозаписи в текстовую форму была разработана специальная процедура, с учетом и обозначением возникающих в речи различных эмоциональных проявлений, пауз и т. д. Всего было исследовано 12 единичных психоаналитических случая.
Достоверность и надежность данных, полученных в работе, обеспечивается хметодологической обоснованностью работы, значительным объемом эмпирического материала (1300 стр. текста письменных транскриптов психоаналитических сессий), совмещением качественного и количественного анализа. Использовались следующие математические методы обработки данных: описательная статистика, статистическая оценка значимости различий внутренне диалогического и внутренне монологического текстов, факторный анализ. Данные обрабатывались в статистических пакетах SPSS 10.0.5 и STADIA 6.2.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке нового научного направления — психология рефлексии измененных состояний сознания. Новизну исследования составляет теоретический и эмпирический анализ особенностей и динамики рефлексии измененных состояний сознания, ее влияния на различные аспекты психического функционирования личности. Сравнительные экспериментальные исследования эффективности различных рефлексивных стратегий в ИСС, различающихся по способам и приемам рефлексивной работы субъекта с содержаниями своего сознания, показали, что предварительное целенаправленное формирование у субъекта в обычном состоянии сознания продуктивных рефлексивных стратегий внутренней работы с той феноменологией, с которой он может встретиться в ИСС, оказывает сильное позитивное структурирующее воздействие на него в ИСС, облегчая работу рефлексивных интегративных процессов в ИСС. Была выявлена ведущая роль рефлексии в интеграционных процессах, происходящих в ИСС.
Впервые была исследована взаимосвязь рефлексивных процессов ИСС, особенностей внутреннего диалога и личностно-смысловой сферы. Показано, что изменения рефлексивных процессов происходят во внутреннем диалоге субъекта. Теоретически исследована и эмпирически выявлена особая функция рефлексии ИССпорождение и преобразование смысловых позиций сознания — возникновение качественно новых и трансформация прежних контекстов тем в ходе внутреннего диалога. В дальнейшем эти контексты становятся темами внутренне диалогического и внутренне монологического текстов. Происходящее в ходе рефлексии ИСС появление новых контекстов, содержащих личностно и эмоционально значимые темы, приводит к порождению новых и преобразованию прежних содержаний сознания личности.
Было выявлено различие между внутреннедиалогическим и обычным текстом: тексты вербализованного внутреннего диалога в ИСС содержат статистически значимо больше подтем (представляющих собой новые контексты), чем обычные тексты. Новые по отношению к единой (для внутреннедиалогического и обычного текста) теме контексты вводятся в вербализованном внутреннем диалоге. В ходе рефлексии и вербализованного внутреннего диалога в ИСС появляется новое содержание — подтемы основной темы, с помощью которых прежний вопрос переносится в новое смысловое поле, в иную психическую ситуацию, появляется возможность увидеть его с других позиций.
Новизна исследования заключается в эмпирическом изучении динамики рефлексии ИСС в рассказах субъекта о своих сновидениях, в ходе которого было показано, что внешнекоммуникативная направленность сновидений заменяется па интрапсихическую и при этом содержание рефлексивных процессов в ИСС качественно изменяется. Констатирующих высказываний становится меньше, более частым становится развернутое описание внутренних ощущений субъекта. Вместе с этим заметно увеличивается количество анализируемой информации, субъект больше размышляет, также возрастает число новых когнитивных решений — он приобретает способность ставить перед собой вопросы, искать на них ответы и принимать соответствующие решения.
Дискурс-анализ рефлексии ИСС позволил выявить скрытую (в той или иной мере нерефлексируемую) динамику коммуникативной активности личности в ходе рефлексии ИСС и наличие имплицитных коммуникативных намерений. Было показано, что совпадение явного содержания текста высказывания и содержания имплицитных коммуникативных намерений субъекта свидетельствует о порождении новых имплицитных коммуникативных намерений, приводящих к возникновению новых способов взаимодействия.
Практическая значимость результатов исследования.
Результаты проведенного исследования, а также разработанные и апробированные эмпирические методики анализа текста, позволяют сравнивать различные психотерапевтические техникирассматривать латентные характеристики устной и письменной речи в различных сферах человеческой деятельностиисследовать индивидуальные особенности речипредусматривать наиболее эффективные способы речевого взаимодействия с человеком. На основе определения значимости происходящих у субъекта личностных изменений, выражающихся в модификации рефлексии и внутреннего диалога, становится возможным прослеживать динамику и оценивать эффективность психоаналитического и психотерапевтического процесса.
Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в системе высшего и дополнительного образования. Результаты диссертационного исследования составили основу лекционных курсов «Психология рефлексии измененных состояний сознания» и «Методика и практика современного психоанализа», читаемых автором на факультете психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Результаты, полученные в ходе исследований рефлексии ИСС, имеют большое практическое значение для определения стратегии и методов психокоррекционной работы практических психологов, психотерапевтов в различных сферах консультирования и оказания психологической помощи населению. В частности, на основе материалов диссертационного исследования был разработан ряд учебных программ для Московского института психоанализаразработана и осуществлена многолетняя программа подготовки психоаналитически ориентированных специалистов в Центре современного психоанализа.
Основные положения, выносимые на защиту: 1. Рефлексия ИСС как активный субъектный процесс переосмысления и преобразования проявляющихся в ИСС ранее нерефлексируемых психических содержаний служит механизмом их трансформации и интеграции с сознанием и, следовательно, приводит к порождению психических новообразований, выступающих в виде более целостного образа «Я» и новых способов и форм рефлексии, эмоционального восприятия и взаимодействия как с психической, так и с внешней реальностью. По степени овладения субъектом психическим процессом рефлексии.
ИСС были выделены следующие формы рефлексии: обращение внимания на себя и на содержание собственного сознания- «называние» происходящего с использованием индивидуальной системы значений- «осмысление» отдельного явления в логике целостной многоуровневой смысловой сферы личности. Активизация рефлексивного процесса ИСС происходит в ходе специально организованной рефлексии, направленной на осознание и преобразование субъектом глубинных структур индивидуального смыслового опыта и особенностей индивидуальной системы значений.
2. Рефлексия ИСС как активный процесс смыслопорождения, преобразующий содержания сознания и самосознания, актуализируется в ходе вербализованного внутреннего диалога. Рефлексивные процессы внутренне диалогического высказывания качественно и количественно отличаются от внутренне монологической рефлексии. Они создают условия порождения новых смысловых образований. Были выявлены четыре различных рефлексивных уровня: ценностный, диалогический, наблюдающий, нарративный. Диалогический уровень рефлексии ИСС практически отсутствует в текстах вне внутреннего диалога. Он является отличительной чертой вербализованного внутреннего диалога в ИСС. Выявлена статистически значимая большая степень активности, по сравнению с обычным текстом, ценностного и наблюдающего рефлексивных уровней внутреннего диалога в ИСС. В ходе вербализованного внутреннего диалога в ИСС задействуются метарефлексивные процессы наблюдения, осмысления и изменения, преобразующие содержания сознания и самосознания. Эти процессы не свернуты в полной мере, как нарративный уровень рефлексии, что создает возможность трансформации самих рефлексивных процессов в ходе внутреннего диалога в ИСС. Новые способы рефлексии позднее фиксируются в нарративном уровне.
3. Выявлена активизация и углубление рефлексивных процессов в рассказах субъекта о своих сновидениях в ИСС. По мере усиления и развития рефлексии ИСС субъект начинает все больше рефлексивно осмысливать свои сновидения, что приводит к формированию активного «рефлексирующего Я» — увеличению количества сновидений и их объемаболее гармоничным и разнообразным эмоциональным проявлениям и к увеличению способности субъекта вербально описывать и обозначать собственные эмоциик изменениям во внутреннем мире, который становится более наполненным, живым, структурированнымв личности появляются творческие аспектык количественному изменению интрапсихических образов: связей между образами становится больше и пространство образов увеличиваетсяк качественному изменению внутрипсихических образов: они становятся ярче, конкретнее, многомернееменяются связи между различными образамирефлексивные процессы начинают концентрироваться вокруг определенных психических образов. 4. Психосемантический анализ ИСС показал, что в ходе рефлексии ИСС происходит реорганизация внутренних отношений личности, при увеличении показателя «Эго» уменьшаются показатели психических инстанций «Супер-Эго» и «Ид».
Апробация исследования.
Исследования, вошедшие в диссертацию, были поддержаны грантами РГНФ:
1) грант РГНФ, 1997;1999, № 97−06−8 225а «Личность в измененных состояниях сознания» ;
2) фант РГНФ, 2000;2002, № 00−0б-88а «Семантический анализ ИСС» ;
3) грант РГНФ, 2003;2005, № 03−0б-78а «Психолингвистический и психосемантический анализ рефлексии ИСС;
4) грант РГНФ на издание монографии, 2003, № 03−06−16 008д, монография «Личность в измененных состояниях сознания». М.: Смысл, 2004. — 544с.;
5) грант РГНФ, 2006;2008, № 06−06−232а «Взаимосвязь рефлексии и внутреннего диалога в ИСС»;
6) грант РГНФ на издание монографии, 2009, № 09−06−16 033д, монография «Рефлексия и внутренний диалог в измененных состояниях сознания».
Результаты различных этапов исследования были доложены на ряде российских и международных конференций, среди которых: конференция «Симптоматика и этиология конфликтов», Белгород, 1995; конференция «Сознательное и бессознательное в социально-политических процессах современного российского общества», Москва, 1997; конференция «Образ в регуляции деятельности (К 90-летию со дня рождения Д.А. Ошанина)», Москва, 1997; конференция «Методы психологии», Ростов-на-Дону, 1997; конференция «Языковое сознание и образ мира», Москва (1998, 2003) — конференция «Виртуальная реальность в психологии и искусственном интеллекте», Москва, 1998; международная конференция «Психология общения 2000: проблемы и перспективы», Москва, 2000; международная конференция «Бытие и время психоанализа», Москва, 2000; конференция «Психология созидания», Казань, 2000; общепсихологические научные чтения кафедры общей психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (2001, 2004) — конференция «Психология субъектности», Киров, 2001; конференция «Подготовка и организация работы клинических психологов», Москва, 2001; конференция «Актуальные проблемы истории психологии на рубеже тысячелетий», Москва, 2002; пятая международная научно-практическая конференция «Психология XXI века», Санкт-Петербург, 2003; международная конференция по психологии и педагогике чтения, Москва, 2004; конференция «Проблемы коррекции и профилактики агрессивного поведения детей и подростков», Москва, 2007; международном коллоквиуме «Влечение, страсть и идентичность», МГУ имени М. В. Ломоносова, 2008.
Материалы диссертации систематически докладывались и обсуждались на заседаниях лаборатории психологии общения и психосемантики факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, на совместном заседании кафедры общей психологии и кафедры психологии личности факультета психлогии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
По теме исследования опубликовано: 1 монография, 30 статей и более сорока тезисов к различным конференциям.
выводы.
1. Личностная рефлексия ИСС как активный субъектный процесс переосмысления и преобразования проявляющихся в ИСС ранее нерефлексируемых психических содержаний служит механизмом их трансформации и интеграции с сознанием и, следовательно, приводит к порождению психических новообразований, выступающих в виде более целостного образа «Я» и новых способов и форм рефлексии, мышления, эмоционального восприятия и взаимодействия как с психической, так и с внешней реальностью.
2. Преобразования смысловой сферы личности в ходе рефлексии ИСС осуществляются в форме появления новых контекстов для прежних тем, а также в результате трансформации прежних смысловых позиций в новых контекстах. Появление контекстов происходит в текстах вербализованного внутреннего диалога, направленного на преобразование личностно и эмоционально значимых содержаний сознания и самосознания субъекта. Появляющиеся в ходе рефлексии ИСС новые контексты привносят новый смысл в содержание темы: в них выражается отношение субъекта к происходящему, эмоции и чувства, тема вводится в контекст переживаний.
3. Рефлексия ИСС как активный субъектный процесс, преобразующий содержания сознания и самосознания, актуализируется в ходе вербализованного внутреннего диалога. Рефлексивные процессы внутренне диалогического высказывания качественно и количественно отличаются от внутренне монологической рефлексии. Они создают условия порождения новых смысловых образований. Были выявлены четыре различных рефлексивных уровня: нарративный, наблюдающий, диалогический, ценностный. Диалогический уровень рефлексии ИСС отсутствует в текстах вне внутреннего диалога. Он является отличительной чертой вербализованного внутреннего диалога в ИСС. Выявлена статистически значимая большая степень активности, по сравнению с обычным текстом, ценностного и наблюдающего рефлексивных уровней внутреннего диалога в ИСС.
4. В ходе вербализованного внутреннего диалога в ИСС задействуются метарефлексивные процессы наблюдения, осмысления и изменения, преобразующие содержания сознания и самосознания. Эти процессы не свернуты в полной мере, как нарративный уровень рефлексии, что создает возможность трансформации самих рефлексивных процессов в ходе внутреннего диалога в ИСС. Новые способы рефлексии позднее фиксируются в повествовательном (нарративном) уровне.
5. Рефлексия субъекта в ИСС побуждается и организуется высказываниями его собеседника, что выражается в направлении внимания на определенные содержания сознания субъекта, в углублении процесса анализа и формировании обобщений. Функции рефлексии психоаналитика выполняются с помощью определенных умственных действий, которые закреплены в психоаналитическом методе и постепенно интериоризируются субъектом. Было показано, что по степени овладения субъектом психическим процессом рефлексии можно выделить следующие формы рефлексии: обращение внимания на себя и на содержание собственного сознания- «называние» происходящего с использованием индивидуальной системы значений- «осмысление» отдельного явления в логике целостной многоуровневой смысловой сферы личности.
6. Активизация рефлексивных процессов в ИСС приводит к расширению способов внутриличностного взаимодействия, что, в свою очередь, способствует росту понимания субъектом неосознаваемых им ранее внутриличностных конфликтов, их рефлексивному переосмыслению и переработке. Кластерный анализ показал, что способы взаимодействия с внутренними объектами разделяются на две основные группы — прежние и новые способы взаимодействия. Во вторую группу входят также рефлексивные высказывания субъекта. Группа прежних способов взаимодействия с внутренними объектами практически полностью совпадает с формулировкой центральной конфликтной темы взаимоотношений, выявленной с помощью метода CCRT. Именно эти ригидные способы взаимодействия и представляют собой основу интрапсихического конфликта.
7. Психосемантический анализ ИСС показал, что в процессе рефлексии ИСС происходит реорганизация внутренних отношений личностипри увеличении показателя психической инстанции «Эго» уменьшаются показатели психических инстанций «Супер-Эго» и «Ид». Это было также подтверждено результатами психолингвистического исследования. Применение психолингвистической методики подтвердило также гипотезу о повышенном, по сравнению с обычным текстом, содержании слов, обозначающих категорию «Ид», в тексте, описывающем сновидение.
8. В процессе рефлексии ИСС в рассказах субъекта о своих сновидениях происходит активизация и углубление рефлексивных процессов. По мере усиления и развития рефлексии ИСС субъект начинает все больше и больше рефлексивно осмысливать свои сновидения, что приводит к формированию активного «рефлексирующего Я» — увеличению количества сновидений и их объемаболее гармоничным и разнообразным эмоциональным проявлениям и к увеличению способности субъекта вербально описывать и обозначать собственные эмоциик изменениям во внутреннем мире, который становится более наполненным, живым, структурированнымв личности появляются творческие аспектык количественному изменению интрапсихических образов: связей между образами становится больше и пространство образов увеличиваетсяк качественному изменению внутрипсихических образов: они становятся ярче, конкретнее, многомернееменяются связи между различными образамирефлексивные процессы начинают концентрироваться вокруг определенных образов.
9. Исследование динамики рефлексии ИСС в рассказах субъекта о своих сновидениях показало, что внешнекоммуникативная направленность сновидений заменяется на интрапсихическую и при этом содержание рефлексивных процессов в ИСС качественно изменяется. Констатирующих высказываний становится меньше, более частым становится развернутое описание внутренних ощущений субъекта. Вместе с этим заметно увеличивается количество анализируемой информации, субъект больше размышляет, также возрастает число новых решений — он приобретает способность ставить перед собой вопросы, искать на них ответы и принимать соответствующие решения. Кроме того, было показано, что общий объем рефлексивных высказываний увеличивается по мере осуществления рефлексии ИСС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Способность осуществлять рефлексию не только как простое самонаблюдение, осознание или самоконтроль, но и как внутреннюю работу по переосмыслению, в том числе, и самих способов рефлексии и порождению новых рефлексивных стратегий является важнейшей характеристикой сознания. Активное функционирование рефлексии в тесной взаимосвязи с работой внутреннего диалога осуществляет взаимодействие различных смысловых позиций сознания. Результатом такого взаимодействия может стать как лучшее осознание смысловых позиций и их преобразование, так и порождение новых смыслов и новых способов рефлексии.
Психоаналитический процесс можно рассматривать как особым образом организованный процесс развития рефлексивных и метарефлексивных процессов личности в ИСС, в ходе которых происходит, в частности, рефлексивное преобразование смысловых позиций личности. В психоаналитическом процессе внутренний диалог выступает носителем — способом осуществления внутренней рефлексивной деятельности по преобразованию смысла. Являясь интериоризованной формой внешнего диалога между аналитиком и субъектом, внутренний диалог запускает интегративный рефлексивный механизм смыслообразования.
Смыслообразование в рамках настоящей работы мы понимаем в широком смысле: как собственно смыслообразование, смыслопорождение (смыслостроительство, в терминологии Ф. Е. Василюка) и смыслоосознание. В ходе смыслопорождения появляются новые смыслы, в процессе смыслоосознания происходит рефлексия ранее неосознанных жизненно важных отношений и взглядов субъекта. Смыслообразование распространяет прежние смыслы на новые ситуации, обстоятельства, отношенияв этом процессе совершается осмысление новых событий и отношений в прежнем контексте. В рефлексии ИСС, тесно связанной как с внутренним диалогом субъекта, так и с его внешним диалогом, имеет место каждый из перечисленных типов преобразования смыслов: в форме появления новых контекстов, включения содержаний сознания в новые контексты — в случае смыслопорождения и смыслоосознания, и введения нового смысла в прежний контекств случае смыслообразования.
Наличие большого количества контекстов в некоторых фрагментах внутренне диалогического текста с наиболее выраженной рефлексивной активностью в ИСС связано с повышенной личностной и эмоциональной значимостью обсуждаемой темы — обычно это центральная конфликтная тема взаимоотношений пациента. Такая характеристика текста является индикатором появления в данном фрагменте новых смысловых позицийновых контекстов как результата в той или иной мере конфликтного взаимодействия 2-х или более смысловых позиций (контекстов) и их рефлексивного переосмысления. Из контекста довольно часто образуется новая тема, представляющая собой новую смысловую позицию: контекст внутреннего диалога появляется чуть позднее в качестве новой темы внутренне диалогического или внутренне монологического фрагмента текста, или подтемы во внутренне монологическом тексте. Так осуществляется смыслопорождение, при этом не следует исключать влияние защитных механизмов, препятствующих привлечению и осознанию всех возможных контекстов. Инерционная тенденция к поддержанию целостности личности сдерживает открытость личности «глубинному диалогу, затрагивающему основы осмысления ею действительности. Поэтому в большинстве случаев реальное общение носит монологический характер» {Леонтьев Д. А., 1997, с. 21).
В психоанализе смыслопорождение осуществляется, в частности, в случае интериоризации пациентом вырабатываемой в диалоге с психоаналитиком новой смысловой (ых) позиции (ий), с последующим проявлением ее активности в качестве «участника» уже непосредственно внутреннего диалога субъекта, что и является одной из важных целей психоаналитического процесса.
Другой важный тип смыслообразования — смыслоосознание — осуществляется в 2-х формах: 1) осознание смысловых содержаний сознания- 2) осознание собственных способов рефлексивной активности в ИСС.
Осознание смысла приводит к его вербализации. Воплощение смысла в значениях сужает его объем, он получает причинное объяснение, становится фиксированным. Осознание смыслов, собственных способов рефлексивной активности в ИСС происходит в связи с расширением контекста осмысления ситуации (например, ситуация рассматривается с 3-й незаинтересованной позиции), а также появлением новых контекстов осознания привычных способов рефлексирования ИСС. В свою очередь, появление новых относительно данной темы контекстов приводит к дальнейшей активизации процессов смыслоосознания. Процессы смыслоосозания и смыслопорождения оказываются взаимно коррелирующими, хотя жесткая причинно-следственная связь между ними отсутствует. Далее следуют процессы смыслообразования — расширения смысла на новые объекты, взаимоотношения, ситуации, события, в результате происходит формирование устойчивой системы новых смысловых связей. Смыслообразование может предшествовать по времени смыслоосознанию и смыслопорождению. В то же время, если рассматривать процесс изменения смыслов, то оно будет последним звеном в цепочке смыслопреобразования.
В ходе исследования рефлексии ИСС нами исследовалась проблема взаимосвязи рефлексии ИСС с разворачиванием и осуществлением внутреннего диалога в ИСС. В психоаналитическом процессе внутренне диалогический текст является частью высказываний собеседников, то есть выступает частью внешнего диалога. Наблюдение внутреннего диалога в структуре внешнего позволяет провести их сравнительный анализ. Мы обнаружили различия по следующим параметрам:
1. Внешний диалог происходит во внешнеоречевленном плане, в реальной ситуации вербального взаимодействия. Внутренний диалог, в частности, может разворачиваться субъектом в следующих случаях: а) во внутреннем психическом плане, осознанно или неосознанно, вследствие появления эмоционально, личностно или интеллектуально значимого содержания сознаниястолкновения с неразрешимой имеющимися средствами личностной или интеллектуальной проблемойб) в системе внешнего диалога, в том случае, когда субъект проецирует на реального собеседника представления о другом значимом для него лицев) в специально организованной ситуации психотерапевтического взаимодействия (на психоаналитическом сеансе, в процессе выполнения некоторых гештальтпсихологических техник и др.) — г) в ходе проведения психологического эксперимента, специально спланированного с целью актуализации внутреннего диалога (Визгина, 1987 — модифицированная методика управляемой проекции).
2. Внешний диалог разворачивается между реально существующими собеседниками, в то время как внутренний диалог протекает между воображаемыми «внутренними собеседниками», или между различными смысловыми позициями относительно актуальной на данный момент личностно или интеллектуально значимой темы. «Участниками» внутреннего диалога могут быть, в частности, интериоризированные образы значимых людей, с которыми субъект взаимодействовал ранее.
Согласно культурно-исторической концепции развития психики Выготского структура сознания представляет собой интериоризированные в ходе онтогенеза социальные взаимоотношения ребенка с окружающими людьми. Продолжая эту мысль, можно предположить, что особенности сложившихся форм социальных взаимоотношений и в интеллектуальном, и в личностном плане будут зависеть от характеристик субъектов, участвовавших в них. Представления о внутренних «собеседниках» существуют также в психоаналитической теории, в которой разрабатывается понятие «интроецированного объекта» — образа «значимого другого», существующего в сознании субъекта в настоящее время и обуславливающего определенные паттерны его поведения, особенности самосознания и мировоззрения.
3. Во внутреннем диалоге участвуют «Я» субъекта и интериоризированный значимый другой, либо воображаемый «собеседник» с заданными характеристиками. В отличие от внешнего диалога, в котором «Я» собеседника существует реально и независимо, позиции собеседников во внутреннем диалоге так или иначе подвергаются рефлексии со стороны субъекта, то есть не существуют в его сознании «сами по себе» СБахтин- 1979).
Внутренний диалог может протекать в форме внешнего, когда он выглядит как внешний, происходящий между реально существующими собеседниками, нопо сути, субъект проецирует на собеседника образ интериоризированного значимого другого, приписывая ему личностные черты, присущие интериоризированному «внутреннему объекту" — поэтому и диалог будет происходить не с учетом ситуации настоящего, а в соответствии с обстоятельствами психической реальности субъекта.
4. Во внешнем диалоге высказывание обычно осуществляется субъектом от своего лица, тогда как во внутреннем диалоге «Я» может идентифицироваться с позицией любого из «внутренних собеседников», осознанно в данном случае выражая его мысли и чувства.
5. Содержательные и формальные характеристики внешнего диалога задаются целями его участников, хотя всегда присутствует влияние неосознанной мотивации. В то время как аналогичные характеристики внутреннего диалога определяются, скорее, неосознанным мотивом, за исключением ситуаций, в которых внутренний диалог является основным инструментом психотерапевтической работы. Влияние неосознанных мотивов на структуру и содержание внутреннего диалога обусловлено также отсутствием необходимости контроля за содержанием и формой высказывания. Так как отсутствует внешний собеседник, которому могло бы предназначаться данное высказывание.
6. Внешний диалог может разворачиваться на любую выбранную собеседниками тему. Внутренний диалог всегда ведется в отношении личностно значимой, актуальной в данный момент темы. И внешний, и внутренний диалоги могут иметь наблюдаемые и латентные содержания — если интересующая тема не может обсуждаться прямов последнем случае имеют место защитные формы внутреннего диалога.
7. Во внешнем диалоге осознаются тема, содержание, направленность, формальные характеристики диалога, собеседник и его личностные особенности. Внутренний диалог может протекать как на осознанном, так и на неосознаваемом уровнях психики, когда субъект рефлексирует актуальную для него тему, но сам процесс протекания внутреннего диалога остается ненаблюдаемым. В случае осознаваемого внутреннего диалога, тем не менее, остаются нерефлексируемыми «внутренние собеседники», для их восприятия необходима специальная работа, результатом которой может быть изменение самосознания и самооценки субъекта.
8. В структуре внешнего диалога четко прослеживается последовательность обмена высказываниями между участниками диалога, тогда как внутренний диалог может разворачиваться как в явной, так и в неявной форме. В первом случае он будет иметь сходство с внешним диалогом, во втором случае в составе одной реплики какого-либо из собеседников в скрытой форме присутствуют несколько внутренних «участников диалога»: к примеру, «наблюдающее Я», «взрослое Я», интериоризировапный образ матери, «от лица» которых попеременно разворачивается якобы целостное высказывание одной из диалогизирующих сторон. То есть, протекает диалог в диалоге, имеющий сложную иерархическую структуру. Принимая во внимание, что внутренний диалог довольно часто активизируется в проблемной для субъекта ситуации, можно предположить, что именно в таких ситуациях оформленному внешнему высказыванию предшествует внутренний диалог. Таким образом, вероятно, и внешний диалог также обладает сложной иерархической структурой.
9. Внешний диалог протекает между реально присутствующими в данном пространстве и в данное время индивидами, хотя возможны различные формы общения субъектов, находящихся в различных пространственно-временных координатах: например, по телефону, факсу, через почту, Интернет.
Участники" внутреннего диалога присутствуют во внутреннем психическом пространстве постоянноте или иные из них активизируются в ходе внутреннего диалога, разворачивающегося в данный момент, хотя потенциально каждый из них может стать «участником» именно этого диалога.
10. Во внешнем диалоге реплики участвующих в нем развернуты в такой степени, в какой это необходимо для пояснения контекста беседы. Внутренний диалог максимально свернут ввиду открытости контекста каждому из его участников.
Приведенные сравнительные характеристики внутреннего диалога подтверждают такие его эмпирически фиксируемые признаки, как наличие эмоционально, личностно, интеллектуально значимой темы, в некоторых случаях — неразрешимой имеющимися на данный момент средствами личностной или интеллектуальной проблемы. В силу того, что специфика психоаналитического текста состоит именно в насыщенности эмоционально, личностно значимой тематикой, часто обладающей конфликтным, противоречивым смыслом, экспертное определение фрагментов внутренне диалогического текста совершалось на основе других признаков.
Как известно, экспериментатор, а в некоторых науках, даже наблюдатель: например, в физике, психологии (Ф. Капра, А. А. Пузырей) — влияет на ход эксперимента и наблюдаемые в нем процессы. Наблюдение вербализованных форм внутренней речипример воздействия наблюдателя на исследуемый процесс. В нашем случае это воздействие выражается в создании экспертами единиц анализа текста. Самонаблюдение за рефлексивными и внутренне диалогическими процессами также вносит в них определенные искажения, так как предполагает вмешательство рефлексивных процессов субъекта. Эти процессы предполагают способность субъекта «отдалиться» от собственных содержаний сознания, воспринять их со стороны, то есть предусматривает одновременное протекание процесса и наблюдение за ним. Следовательно, уже в момент своего протекания, психологические процессы будут подвергаться влиянию со стороны «саморефлексирующего» субъекта, и в этом смысле, будут не менее подвержены вмешательству, нарушающему их естественный ход, чем в случае внешнего наблюдателя.
Эксперты, в качестве читателей, вступают в диалог с автором анализируемого ими текста. Этот «диалог» протекает одновременно, с одной стороны, — на исследовательском, анализирующем, с другой — на личностно воспринимающем, «переживающем» уровне. Итог исследования может быть представлен, с определенными ограничениями, как результат формализованного анализа вторично созданного полилогического текста, в котором присутствуют позиции участников анализируемого экспертной группой психоаналитического диалога, и вторично — выражена позиция самих экспертов.
Исследовательский уровень диалога предусматривает соответствие способов взаимодействия с текстом целям и задачам исследования. Личностный уровень взаимодействия с текстом предполагает его анализ с точки зрения понимания исследователем мотивов и целей авторов содержащихся в тексте высказываний, — то есть, требует хотя бы минимальной его интерпретации. С целью стандартизации этой необходимой процедуры эксперты, на основе вторичного анализа уже интерпретированного ими текста, обозначают признаки, в соответствии с которыми, по их мнению, в большинстве случаев, проводилась интерпретация. Одновременно исправляются ошибки первичной обработки текста, которая, возможно, будет в чем-то не соответствовать выработанным на втором этапе индикаторам. Один из этапов проведения такой стандартизированной процедуры, как контент-анализ, формально совпадает с данным этапом качественного анализа текста.
Интерпретация текста в герменевтике (Гадамер, 1991) предполагает взаимозависимость текста и его частей. В соответствии с данным принципом можно конкретизировать и обобщать тематические фрагменты, определяя взаимное влияние их содержания и содержания текста в целом: 1) самой «мелкой» смысловой единицей анализа текста будет выступать подтема (контекст) — 2) более «крупной» — тема отдельных фрагментов внутренне диалогического и внутренне монологического текстов- 3) далее, по мере укрупнения единицы анализа, следуют общие темы пространственно близких и обозначенных единым номером фрагментов текста с внутренним диалогом и без него- 4) темы законченных в смысловом плане частей текста, включающих в себя несколько фрагментов с внутренним диалогом и без него- 5) общая тема всей сессии в целом- 6) общая тема нескольких сессий- 7) и, наконец, главная тематическая линия, отражающая внутренний конфликт пациента.
Герменевтический круг Гадамера «замыкает» текст и его части: чтобы понять часть текста, необходимо знать смысл текста в целоми наоборот, чтобы понять весь текст в целом, необходимо понимание его смысловых нюансов. Мы можем выбирать единицу анализа в зависимости от задач исследователя.
Отдельное укрупнение фрагментов внутренне диалогического и внутренне монологического текстов образует различные тематические линии, и различные категории — контекстов и подтем. Смысл текстового фрагмента, как правило, определяется контекстной тематической линией, так как внутренне диалогические тексты несут основную смысловую нагрузку и привносят значимое новое содержание. Новые контексты могут быть новыми относительно всего предыдущего текста высказываний пациента, либо в рамках определенной темы. Именно на контекстах замыкается герменевтический круг понимания смысла текста. В смысловом плане контексты превосходят «по объему» темы, в рамках которых они появляются, поэтому, в структурном плане представляя собой подтему, в смысловом плане они выступают именно контекстами. Соотношение контекстов и тем демонстрирует герменевтический парадокс: сравнимость части с целым, и превосходство по смысловой значимости части над целым. Понимание фрагмента текста может быть различным в зависимости от общности анализируемой темы. Таким образом, выделяется нерефлексируемое самим говорящим и воспринимающим содержание высказывания, которое может отличаться в границах разных тем. Информация, получаемая исследователем в результате анализа контекстов, неочевидна. Она не полностью осознанна и субъектом высказывания — в силу перенасыщенности единой темы разнородными смысловыми оттенками. То есть, соотношение тем и контекстов, вероятно, создает подтекст высказывания. В случае его осознания, подтекст переходит в явно выраженное в форме нового контекста содержание высказывания. Вероятность появления качественно новых содержаний психики — как осознанных, так и не в полной мере осознанных — возрастает с развитием рефлексивной способности личности, прямо зависящего от динамики продуктивных, преобразующих форм внутреннего диалога, которые, в свою очередь обусловлены изменениями внешнего диалога субъекта и психоаналитика.
В глубоких ИСС, характеризующихся крайне слабым уровнем рефлексии и активности сознания, возможно протекание внутреннего диалога и некоторой активности рефлексии как самонаблюдения, разворачивающихся на самом краю сознания. Согласно нашему пониманию рефлексии и внутреннего диалога, в полностью бессознательных состояниях их функционирование невозможно. Однако, мы можем считать следствием работы рефлексии глубоких ИСС рассказы о сновидениях, в которых ярко выражены внутренние диалоги, например, между персонажами сновидений. Существуют также в некоторой степени осознаваемые сновидения, в которых присутствует слабое «рефлексивное Я», способное вступать во внутренний диалог с различными репрезентациями «сновидного Я» (Россохин, Егорова, 1997).
Структура внутреннего диалога представляет собой образы значимых других («внутренних собеседников») и различные — патологические, нейтральные, продуктивные — формы «взаимоотношений» между ними. «Внутренняя беседа» может протекать в форме полилога — взаимодействия одновременно нескольких психических инстанций («внутренних собеседников»). По сути, любой внутренний диалог — полилог, так как во временно’м аспекте он имеет структуру матрешки. Каждая из психических инстанций может вести диалог с другой, сформировав свою позицию во внутреннем диалоге, в котором она участвовала ранее. Особенность полилога обнаруживается в том, что каждый его участник учитывает позиции всех других собеседников, независимо от того, обращается ли он в настоящий момент ко всем собеседникам сразу или только к одному из них. Так вырабатывается особая линия беседы, объединяющая высказывания всех ее участников. Происходит рефлексивный полилог между новыми и прежними «участниками» внутреннего диалога, осуществляется взаимопроникновение их позиций. Мы видим, что рефлексия ИСС в тесной взаимосвязи с внутренним полилогом играет важнейшую роль в личностном развитии.
Актуализация рефлексии ИСС, преобразующей смысловые позиции личности, предполагает активность внутреннего диалога, обеспечивающую интегрирующую роль рефлексии. Внутренний полилог, направленный на разрешение личностных задач, подобен полилогу, разворачивающемуся при решении интеллектуальных задач.
Например, «мозговой штурм» — это пересечение внешнего и внутреннего полилогов, в котором каждый «голос» может быть «услышан». Позитивные формы внутреннего полилога характеризуются наличием обратных связей от внутренних объектов, с которыми «беседует» в данный момент «Я» субъекта в качестве одного из внутренних объектов. Осознание «обратных связей» от внутренних объектов формирует рефлексивные процессы, а также является следствием осознанности содержания данного внутреннего полилога. Помимо развития рефлексии ИСС, происходит также формирование самой способности принятия нового опыта, выхода за пределы привычных стереотипов взаимодействия. Так как при наличии «обратных связей» осуществляется субъект-субъектное взаимодействие, вместо более простого субъект-объектного, позволяющего не учитывать активность второго участника взаимодействия. Существует рассогласование между внешним и внутренним диалогами, связанное с качеством рефлексивных процессов ИСС. Усложнение и обогащение рефлексии ИСС — цель взаимодействия психоаналитика и пациента и результат их внешнего диалога, в ходе которого формируются и затем интериоризируются новые стратегии рефлексивной активности и внутреннего диалога. В ходе психоанализа происходит возникновение и развитие активного «рефлексивного Я» пациента за счет идентификации с рефлексивной активностью аналитика, с его способами, с одной стороны, осознания и переосмысления прежних содержаний сознания, старых стереотипов рефлексии и внутреннего диалога и, с другой стороны, способностью порождать принципиально новые смыслы, способы рефлексии и внутреннего диалога.
Рефлексивный процесс в ИСС может иметь структуру монолога, диалога и полилога. При этом внутренний диалог исключает наличие монологической структуры. Обладающий диалогической или полилогической структурой рефлексивный процесс имеет интегративную функцию, приводящую к смыслопорождению и смыслообразованию. Задача рефлексии ИСС — осознание различных интрапсихических содержаний, используемых стратегий рефлексии и внутреннего диалога, отражение их в форме определенного смысла с целью последующего переосмысления и порождения нового смысла не только для психических содержаний, но и для рефлексии. Это приводит к порождению принципиально новых стратегий рефлексии ИСС и способов внутреннего диалога. Преобразование структуры рефлексивного процесса ИСС обеспечивается работой внутреннего диалога, при этом сама рефлексия отражает процессы, протекающие в ходе внутреннего диалога и видоизменяет их. Таким образом, рефлексия и внутренний диалог представляют собой неразрывную реализацию в интрапсихическом плане принципа отражения и взаимодействия.
В нашем исследовании было выделено 4 иерархических уровня рефлексии ИСС: нарративный, диалогический, наблюдающий, ценностный, каждый из которых обладает качественной спецификой, определяющей степень его выраженности во внутренне диалогическом тексте. Ценностный уровень рефлексии ИСС отражает не просто форму эмоционального и ценностного отношения к реальности и самоотношения, а осознание этой формы, достаточное для того, чтобы эмоции стали доступны вербализации. На этом рефлексивном уровне, в отличие от предыдущих, эмоции являются предметом осознания и переосмысления, а не его фоном. На наблюдающем уровне рефлексии ИСС предметом осознания являются собственные мыслив нарративном — наблюдение за событиями, ситуациями. На диалогическом уровне рефлексии ИСС — заново осуществляется осознанное переживание определенных ситуаций общения, но не чувств относительно этих ситуаций.
В психике неизменно присутствуют неосознаваемые компоненты, частично доступные внешнему наблюдателю, а при определенных условиях — например, при наличии мотива осознания ранее неосознаваемого, но жизненно важного — и самонаблюдению. Так или иначе, неосознаваемые компоненты различным образом проявляются в сознании, определяя поступки и мироощущение субъекта, а также адаптивность, прогнозируемость или непредсказуемость его поступков.
Субъективно моменты появления в сознании ранее неосознаваемых психических компонентов могут наблюдаться и осознаваться как неожиданно возникшая мысль, потребность, эмоция, ощущение, воспоминание, либо они могут присутствовать в сознании в течение довольно длительного промежутка времени, оставаясь привычными и незаметными, «само собой разумеющимися». Такой тип неосознанных компонентов требует специфических обстоятельств и усилий, создающих возможность самонаблюдения и рефлексии. Мы можем наблюдать некоторые степени, уровни сознания, характеризующиеся различной интенсивностью и качеством осознанности его содержаний. Различная степень осознанности движений, действий, поступков, слов, мыслей — характеристика интенсивности сознания, в то время как качественное измерение уровневой структуры сознания определяется возможностью осознания субъектом подлинных мотивов своих действий — подлинностью осознания. К характеристикам сознания, позволяющим построить его уровневую структуру, принадлежит также временное измерение, состоящее в способности субъекта рефлексировать причины своих действий, мыслей и переживаний либо в момент их протекания, либо позднее. Качество и интенсивность осознания могут существенно изменяться в зависимости от времени его протекания, что связано с особенностями функционирования человеческой памяти и некоторыми ситуативными и личностными факторами.
Достаточно долго протекающие и развивающиеся рефлексивные процессы характеризуются рядом признаков: 1) возрастанием количества доступных субъекту точек зрения на интеллектуально или личностно значимую тему- 2) формированием мыслительных и эмоционально-предвосхищающих процессов, позволяющих субъекту совершать осознанный выбор личностной или интеллектуальной позиции- 3) развитие метарефлексивных процессов (осознание субъектом собственной рефлексии), порождением новых и развитием прежних способов рефлексии и внутреннего диалога- 4) преобразованием прежних компонентов мировоззрения в связи с появлением новых функциональных и качественных возможностей сознания. Предположительный результат этих процессов — изменение личностных и интеллектуальных структур субъекта.
Изменения невозможны без новых компонентов — новых смыслов — в структуре сознания, которые могут порождаться, например, в ходе длительного ориентированного на развитие рефлексии ИСС взаимодействия психоаналитика и субъекта.
Функционирование смыслов в структуре сознания также осуществляется на основе принципа взаимодействия, предполагающего взаимное влияние различных компонентов, в котором возможно преобразование и самих этих компонентов. Итак, возникновение и трансформация смысловой сферы сознания основаны на действии принципа взаимодействия, одним из конкретно-психологических механизмов которого выступает рефлексия. Рефлексивное преобразование смысловой сферы сознания является основой развития личности, понимаемой как ирерархически организованная система смыслов.
Личность человека — сложное понятие, определяемое в различных психологических теориях в зависимости от целей и задач исследователей. Тем не менее, оно подразумевает общее значение, заключающееся, по нашему мнению, в способности субъекта самостоятельно выбирать направление и формы своей деятельности, определять смысл собственной жизни, вырабатывать мировоззрение. Адекватное функционирование таких способностей свидетельствует о сформированности личностной структуры, жизненной позиции личности. «Способ самоопределения личности в жизни, обобщенный на основе ее жизненных ценностей и отвечающий основным потребностям личности, можно назвать жизненной позицией. Она представляет собой результат взаимодействия личности с ее собственной жизнью, ее личностное достижение» (Абульханова-Славская, 1991, с. 44).
Сформированное^ личности предполагает определенное отношение к окружающему миру и самоотношение, достаточно устойчивые, и в то же время гибкие и доступные изменению в нормальных случаях. Она включает также личную историю запомнившиеся события, поступки, переживания, эмоциивосприятие субъектом собственной жизни, мнение о себе, построенное на основе определенной оценки личной историикартину мирапредставление о возможных способах контакта, взаимодействия с внешним миром.
В клинике известен так называемый экзистенциальный невроз — человек все может делать и даже во всем способен преуспевать, но жизнь лишается смысла и он бессильно повисает, как марионетка, которую уже никто не держит" (Братусь, 1999, с. 291). Таким образом, человеку необходимы жизненные ориентиры, согласно которым он мог бы выстраивать собственную жизнь. Вслед за А. Н. Леонтьевым, Б. С. Братусь признает необходимость наличия в структуре личности иерархии мотивов, «смысловой вертикали», обеспечивающей уникальную смысловую регуляцию поступков человека: «Речь идет о той плоскости бытия, где все люди выступают как равные, вне зависимости от их социальных ролей и достигнутых на сегодня внешних успехов, равные в своих возможностях нравственного развития, в праве на свою, соотнесенную с нравственными принципами оценку себя и других» {Братусь, 1999, с.291). То есть существует особая сфера личности, освобождающая, дающая ей подлинную жизнь, как понимал это М. М. Бахтин: «.подлинная жизнь личности совершается как бы в точке. несовпадения человека с самим собою.» {Бахтин, 1972, с. 100).
Наличие смысловой вертикали позволяет субъекту, осознанно использующему рефлексию, самостоятельно определять жизненные ориентиры, оценивать личные качества и поступки, так или иначе, относиться к окружающим и происходящему, становиться больше самого себя в каждый последующий момент времени, чем в предыдущий, и возможно даже «не совпадать с самим собой» в один и тот же момент. Именно в таких случаях рефлексивной «раздвоенности» появляется возможность выбора: «Каким мне быть, как поступать» и т. д., — то есть именно в эти моменты рефлексивной работы происходит становление личности и, в том числе, формирование «смысловой вертикали».
В отличие от психотического расщепления моменты «раздвоенности» представляют собой рефлексивное расщепление, можно сказать — потенциально интеграционное расщепление — создающее необходимые (но не достаточные) условия для порождения новых смыслов. Изменение, развитие в условиях сохранения собственной идентичности является ключевой характеристикой личности. В сохранении идентичности участвуют рефлексивные процессы.
Рефлексивное расщепление предполагает возможность одновременного протекания какого-либо психологического процесса, наблюдения за ним, его рефлексивного анализа и переосмысления. Это обеспечивается возникновением и разворачиванием внутреннего диалога — процесса, от которого, в конечной стадии и зависит судьба рефлексивного процесса переосмысления и смыслопорождения.
Наличие механизмов саморазвития в психологической системе, несомненно, связано с возможностями осознания и переосмысления (а не только отражения) происходящего и своего собственного Я с той или иной его рефлексивной активностью. Мотив саморазвития как направляющий человеческую деятельность актуализируется только в случае рефлексивного осмысления субъектом особенностей своей психологической жизни, мировоззрения и способов взаимодействия с внутренним и внешним миром. Причина его актуализации — в исходящей от самого субъекта внутренней необходимости и сознательно направляемой рефлексивной активности.
Результаты настоящего исследования позволяют сделать вывод о важности рефлексивных процессов в ходе психоанализа, о различии рефлексии во внутреннем диалоге и вне него. Оценка эффективности психоаналитического процесса возможна на основе определения значимости производимых личностных изменений, выражающихся в модификации вербализованного внутреннего диалога. Исходом успешного психоаналитического процесса можно считать доступность осознанию и, в случае необходимости, преобразование стереотипов восприятия субъектом себя и окружающего мира, жестких моделей поведениясформированные возможности выбора способа действия в той или иной ситуации.
Предложенные методики позволяют сравнивать различные психотерапевтические техникианализировать латентные характеристики устной и письменной речи в различных сферах деятельности: исследовать индивидуальные особенности речиопределять меру расположенности субъекта к восприятию реальных характеристик собеседника, либо, напротив, к проецированию на него своих представленийпредусматривать наиболее эффективные методы речевого контакта с субъектомпрослеживать динамику и оценивать эффективность психотерапевтического процесса.
Возвращаясь к теоретической дискуссии между общей и трансперсональной психологией о роли рефлексии ИСС, мы, на основании полученных в диссертационной работе теоретических и эмпирических результатов, утверждаем, что именно рефлексия ИСС как активный субъектный процесс порождения смыслов запускает и осуществляет интеграционные процессы в личности. В разрабатываемом нами новом научном направлении — психология рефлексии измененных состояний сознания — это утверждение доказано обширными теоретическими и эмпирическими исследованиями различных аспектов рефлексии ИСС — ее особенностей, структуры и уровней, динамики протекания рефлексии, условий ее активизации и формирования, взаимосвязи рефлексии ИСС с внешним и внутренним диалогом, внешнекоммуникативной и интрапсихической направленности рефлексивных процессов в ИСС, эффективности различных рефлексивных стратегий в ИСС. Были исследованы внутридиалогические процессы, обеспечивающие реализацию рефлексии ИССпроцессы смыслопорождения в ИССвлияние рефлексии ИСС на динамику интрапсихических изменений личности, на динамику внутриличностных конфликтов, на динамику скрытой коммуникативной активности личности.
В результате этих исследований мы пришли к новому общепсихологическому пониманию личностной рефлексии ИСС как активной рефлексивной работы с нерефлексируемыми психическими содержаниями, что приводит к качественным изменениям ценностно-смысловых образований, формированию новых стратегий рефлексии и способов внутреннего диалога, интеграции личности в новое, более целостное состояние.
Это новое понимание рефлексии акцентирует также такое важнейшее свойство рефлексии как способность изменять структуру сознания и приводить при этом человека в состояние подлинного творчества. Мы можем здесь ясно увидеть сходство психического функционирования психоаналитической, художественной, актерской и любой другой присутствующей в различных творческих процессах рефлексии, каждая из которых имеет прямую связь с нерефлексивными психическими содержаниями и поэтому разворачивается и осуществляется в измененных состояниях сознания.
Список литературы
- Китае. Новосибирск: Наука, 1989. — 272 с.
- Абулъханова-Славская К. А. О субъекте психической деятельности. М., 1973.288 с.
- Абулъханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. — 300 с.
- Азаров Н. Н. Стиль действования: рефлексивность — импульсивность / Н. Н. Азаров // Вопросы психологии. 1982. — № 3. — С. 121 — 126.
- Алексеев Н. Г. Рефлексия и осознание / Н. Г. Алексеев // Категории, принципы и методы психологии: Психические процессы: Тез. науч. сообщ. Психологов к VI Всесоюз. съезду Общества психологов СССР. М., 1983. — С. 247−248.
- Алексеев Н. Г., Ладепко И. С. Направления изучения рефлексии / Н. Г. Алексеев, И. Н. Семенов // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. -Новосибирск, 1987.-С. 3−13.
- Алмаев Н.А. Интенциональные структуры естественного языка: экспериментальное исследование / Н. А. Алмаев // Психол. журн. 1998. — Т. 19. — № 5. — С. 71−80.
- Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М., 1960. -486 с.
- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. JL, 1969. — 338 с.
- Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. -379 с.
- Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1999. — 375 с.
- Антипов Г. А. К вопросу об уровнях рефлексии / Г. А. Антипов // Проблемы логической организации рефлексивных процессов: Тез. науч. конф. Новосибирск, 1986. — С. 32−34.
- Антнпов Г. А., Донских О. А. Проблема периодизации историко-философского процесса с позиций представления о рефлексии / Г. А. Антипов, О. А. Донских // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. Новосибирск, 1987. — С. 3−21.
- Антология мировой философии: В 4 т.-М.: Мысль, 1969.
- Апресян Р.Г. Проблема «другого Я» и моральное самосознание личности / Р. Г. Апресян // Философские науки. 1986. — № 6. — С. 53−59.
- Аристотель. Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1975. — 550 с.
- Аршинов В. К, Свирский Я. И. Синергетическое движение в языке / В. И. Аршинов, Я. И. Свирский // Самоорганизация и наука: Опыт философского осмысления. М., 1994. -С. 33−47.
- Асмолов А.Г. Психология индивидуальности. М.: МГУ, 1986. — 96 с.
- Асмолов А.Г. Психология личности. М.: МГУ, 1990. -336 с.
- Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. — М.: Институт практической психологии, 1996. — 768 с.
- Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. -М.: Смысл, 2001.-416 с.
- Асмолов А.Г. По ту сторону сознания. Методологические проблемы неклассической психологии. М.: Смысл, 2002. -480 с.
- Бажин Е.Ф., Голынкина С. А., Эткинд A.M. Метод исследования уровня субъективного контроля / Е. Ф. Бажин, С. А. Голынкина, A.M. Эткинд // Психологический журнал, — 1984.-Т. 5.-№ 3.-С. 11−19.
- Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М.: Едиториал УРСС, 2003.-360 с.
- Баранов Г. В. Рефлексивное управление и рефлексивная структура решения в играх двух лиц со строгим соперничеством / Г. В. Баранов // Проблемы принятия решения. М., 1976. — С. 52−58.
- Барцалкина В.В. О взаимосвязи самосознания и рефлексии в онтогенезе / В. В. Барцалкина // Проблемы логической организации рефлексивных процессов: Тез. науч. конф. Новосибирск, 1986. — С. 232−234.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. — 470 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. — 423 с.
- Берцфаи Л.Ф., Романенко В. Г. Исследование особенностей рефлексивного контроля / Л. Ф. Берцфаи, В. Г. Романенко // Новые исследования в психологии. 1981. — № 2. — С. 68−72.
- Библер B.C. Понимание Л. С. Выготским внутренней речи и логика диалога / B.C. Библер//Риторика. 1995. — № 2.-С. 108−120.
- Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. -Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1982. 176 с.
- Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. Л.: ЛГУ, 1965. — 123 с.
- Бодалев А.А. Формирование понятия о другом человеке как личности. Л.: ЛГУ, 1970.- 135 с.
- Бодрова Е.В., Юдина Е. Г. Исследование генезиса механизмов рефлексивной саморегуляции познавательной деятельности / Е. В. Бодрова, Е. Г. Юдина // Новые исследования в психологии. М., 1986. — С. 26−30.
- Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. М.: МГУ, 1974.-96 с.
- Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. — 304 с.
- Братусь Б.С. Личностные смыслы по А. Н. Леонтьеву и проблема вертикали сознания / Б. С. Братусь // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа А. Н. Леонтьева. М.: Смысл, 1999. — С. 284−299.
- Братусь Б.С. Несмотря ни на что сказать жизни «Да» (уроки Виктора Франкла) / Б. С. Братусь // Вопросы психологии. -№ 3. — 2005. — С. 112−121.
- Братусь Б.С. Образ человека в психологии России XX века / Б. С. Братусь // Развитие личности. № 3, № 4. — 2005. — № 1. — 2006. — № 2. — 2006. — С. 147−161.
- Братусь Б.С. Современный мир и психология: размышления о психологической реальности / Б. С. Братусь // Развитие личности. № 4. — 2006. — С. 129−143.
- Брокмейер К, Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы / Й. Брокмейер, 3. Харре // Вопросы философии. -2000. -№ 3. С.29−41.
- Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М., 1998. — 332 С.
- Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. М., 1979. — 230 с.
- Брушлинский А.В. Мышление как процесс и проблема деятельности / А. В. Брушлинский // Вопросы психологии. 1982. — № 2. — С. 28−40.
- Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. М.: Ин-т психологии РАН, 1994.- 109 с.
- Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Избранные психологические труды. М.: Воронеж, 1996. — 408 с.
- Брушлинский А.В., Поликарпов В. А. Диалог в процессе познания / А. В. Брушлинский, В. А. Поликарпов // Познание и общение. М., 1988. — С. 63−68.
- Бруишинский А.В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. Минск, 1990. — 218 с.
- Бубер М. Я и Ты. М&bdquo- 1993. — 175 с.
- Бурлакова Н.С. Внутренний диалог в структуре самосознания и его динамика в процессе психотерапии. Дисс.канд. психол. наук. -М., 1996.
- Бурлакова Н.С., Олешкевич В. И. Проективные методы: теория, практика применения к исследованию личности ребенка. М., 2001. — 352 с.
- Бурлакова Н.С., Соколова Е. Т. К обоснованию метода диалогического анализа случая / Н. С. Бурлакова, Е. Т. Соколова // Вопросы психологии. 1997. — № 2. — С. 61 -76.
- Бурлачук Л.Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: Питер.- 1999.-С. 134−136.
- Буш Г. Я. Диалогика и творчество. Рига, 1985. — 318 с.
- Варламова Е.П., Степанов C.IO. Рефлексивная диагностика в системе образования / Е. П. Варламова, С. Ю. Степанов // Вопросы психологии. 1997. — № 5. — С. 28−44.
- Васильев И.А. Рефлексивный подход к изучению и развитию творческого мышления / И. А. Васильев // Вопросы психологии. 1991. — № 3. — С. 103. Василюк Ф. Е. Психология переживания. — М., 1984. — 200 с.
- Василюк Ф.Е. К проблеме единства общепсихологической теории / Ф. Е. Василюк // Вопросы философии. 1986. -№ 10. -С.76−86.
- Василюк, Ф.Е. Психотехника переживания. М.: Ахилл, 1991. — 24 с. Василюк, Ф. Е. Методологический анализ в психологии. — М.: МГППУ, Смысл, 2003. — 240 с.
- Верч Дж. Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному действию. -М&bdquo- 1996.- 175 с.
- Визгина А.В. Роль внутреннего диалога в самосознании личности. Автореф. дис.. канд. психол. наук. М., 1987. — 20 с.
- Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. М.: МГУ, 1976. — 142 с. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. — М.: МГУ, 1990.285 с.
- Винникотт Д.В. Игра и реальность. М.: Институт общегуманитарных исследований, 1998. — 267 с.
- Всехсвятский С. Интеграция через дыхание / С. Всехсвятский // Путь к себе. — М., 1991.-С. 3−6.
- Выготский Л.С. Проблема возраста / Л. С. Выготский // Собрание сочинений: В 6 т.-М., 1984.-Т. 4.-433 с.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.-700 с.
- Гальперин П.Я. Метод срезов и метод поэтапного формирования в детском мышлении / П. Я Гальперин // Вопросы психологии. 1966. — № 4. — С. 134−146.
- Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1: Наука логики. — М.: Мысль, 1974.-452 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. первая. СПб.: Наука, 1994. 350 с.
- Генасаретский О. Доклад на методологическом симпозиуме по проблемам рефлексии. Москва, 1981. — 45 с.
- Гордеева О.В. Представление J1. С. Выготского о самосознании и марксизм / О. В. Гордеева // Психол. журн. 1996. — Т. 17. — № 5. — С.31−41.
- Гордеева О.В. Культурно-историческая теория JI.C. Выготского как методологическая основа изучения измененных состояний сознания / О. В. Гордеева // Учен. зап. кафедры общей психологии МГУ. Вып. 1. — М., 2002. — С. 134−149.
- Гордеева О.В. Измененные состояния сознания при сенсорной депривации / О. В. Гордеева // Весшик МГУ. Сер. 14: Психология. — 2004. — № 2. — С. 66−83.
- Гордеева О. В. Значение принципа предметности для понимания природы и механизмов измененных состояний сознания/О.В. Гордеева// Учен. зап. кафедры общей психологии МГУ. Вып. 2. — М., 2006. — С. 125−143.
- Гостев А.А. Образная сфера Человека. М.: ИПРАН, 1992. — 194 с.
- Гроф С. Путешествие в поисках себя. М., 1994. — 342 с.
- Груздев Н.В. Измененные состояния сознания: изучение базовых факторов индукции на модели физиологических родов. Автореф. дис.. канд. психол. наук. -СПб, 2006. 24 с.
- Гусев А.Н., Измайлов Ч. А., Михалевская М. Б. Измерение в психологии. Общий психологический практикум. М.: Смысл, 1997. — 286 с.
- Гуссерль, Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. -М.: Лабиринт, 1994. 110 с.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998. — 315 с.
- Гуткина Н. И. Разделение рефлексии на виды при экспериментальном изучении // Психология личности: теория и эксперимент. М., 1982. — С. 49−50.
- Гуткина Н.И. О психологической сущности рефлексивных ожиданий // Психология личности: теория и эксперимент. М., 1982. — С. 100— 108.
- Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1975. — 424 с.
- Декарт Р. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950. — 712 с.
- Декарт, Р. Беседа с Бурманом / Р. Декарт // Сочинения: В 2-х т. М.: Мысль, 1994.-Т. 2.-640 с.
- Декомб В. Современная французская философия. Москва: Весь мир, 2000. — 344 с.
- До/сеймс В. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1992. — 423 с.
- Диянова 3. В., Щеголева Т. М. Самосознание личности. Иркутск, 1993. — 180 с.
- Дубровский Д.И., Черносвитов Е. В. К анализу структуры субъективной реальности (ценностно-смысловой аспект) / Д. И. Дубровский, Е. В. Черносвитов // Вопросы философии. 1979.-№ 3,-С. 57−69.
- Дюфрен М. О Морисе Мерло-Понти / М. Дюфрен // Интенциональность и интертекстуальность. Томск, 1998.-С. 96−109.
- Егорова М.В., Россохин А. В. Рефлексивная активность личности в сновидении / М. В. Егорова, А. В. Россохин // Индивидуальность как субъект и объект современной жизни. Смоленск: СГУ, 1996. — С. 9−16.
- Емельянов С. В., Наппелъбаум Э. Л. Системы, целенаправленность, рефлексия / С. В. Емельянов, Э. Л. Наппельбаум // Системные исследования. М., 1980. — С. 7−30.
- Ерчак Н.Т. К проблеме внутренней речи / Н. Т. Ерчак // Вопросы психологии. -1991.-№ 5.-С. 135−138.
- Жибо А. Предисловие / А. Жибо // Антология современного психоанализа. Т.1. -М., 2000.-С. 14−16.
- Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи / Н. И. Жинкин // Вопросы языкознания. 1964. — № 6. — С. 26−38.
- Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982. — 250 с.
- Журавлев А.П. Звук и смысл. -М., 1981. 160 с.
- Зак А. З. Проблемы экспериментального изучения рефлексии / А. З. Зак // Исследования рече-мысли и рефлексии. Алма-Ата, 1976. — С. 49−53.
- Зак А. З. Экспериментальное изучение рефлексии у младших школьников / А. З. Зак // Вопросы психологии. 1978. — № 2. — С. 102.
- Зак А. З. Проблемы психологического изучения рефлексии / А. З. Зак // Исследование речи-мысли и рефлексии. Психология. — Вып. 10. — Алма-Ата, 1979. — С. 519.
- Зарецкий В. К, Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Рефлексивно-личностный аспект решения творческих задач / В. К. Зарецкий, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов // Вопросы психологии. 1980.-№ 5.-С. 113−118.
- Захарова А.В., Боцманова М. Э. Особенности рефлексии как психического новообразования в учебной деятельности / А. В. Захарова, М. Э. Боцманова // Формирование учебной деятельности школьников. М., 1982. — С. 152−163.
- Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. М.: МГУ, 1971.-100 с.
- Зейгарник Б.В. Опосредование и саморегуляция в норме и патологии / Б.В.
- Зейгарник//Вестник Моск. ун-та. Сер. 14.-Психология. — 1981. № 2-С. 9−15.
- Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: МГУ, 1986. -287 с.
- Зейгарник Б.В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. М.: МГУ, 1980. — 157 с.
- Зейгарник Б.В., Холмогорова И. Н., Мазур В. А. Саморегуляция поведения в норме и патологии / Б. В. Зейгарник, И. Н. Холмогорова, В. А. Мазур // Психол. журн. 1989. — Т. 10. -№ 2. — С. 121−133.
- Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы Изучения. М., 1987. — 240 с.
- Зинченко В.П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М.: Тривола, 1994. — 303 с.
- Зинченко В.П., Мунипов Е. Б. Эргономика и проблемы комплексного изучения трудовой деятельности / В. П. Зинченко, Е. Б. Мунипов // Труды ВНИИТЭ. Сер. Эргономика. — Вып. 10.-М., 1976.-С. 28−59.
- Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. 1991. — № 2. — С. 15−36.
- Зинченко Е.В. Метод феноменологической дескрипции феномена субъективности в философии М. Мамардашвили. Томский государственный университет, 2003. — 30 с.
- Знаков В .В. Понимание в познании и общении. Самара, 1998. — 183 с.
- Знаков В. В. Психология понимания правды. СПб.: Алетейя, 1999.-281 с.
- Знаков В.В. Психология понимания: Проблемы и перспективы. М.: Институт психологии РАН, 2005а. — 448 с.
- Знаков В.В. (ред.) Субъект, личность и психология человеческого бытия. М.: Институт психологии РАН, 20 056. — 384 с.
- Знаков В.В. Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии. — М.: ИП РАН, 2007.-479 с.
- Знаков В.В. Ценностные основания психологической науки и психология ценностей. ML: ИП РАН, 2008. — 344 с.
- Казанская А.В. О чем говорит речь? Грамматика и стилистика устной речи / А. В. Казанская // Московский Психотерапевтический Журнал. 1996. — № 2. — С. 166−176.
- Казанская А.В. Речевые ошибки в мотивационном аспекте. Автореф. дис.. канд. психол. наук. М.: Гос. Университет Гуманитарных Наук, 1998. -23 с.
- Кайдановская И.А. К вопросу об истоках рефлексивных процессов / И. А. Кайдановская // Проблемы логической организации рефлексивных процессов: Тез. докл. науч. конф. Новосибирск, 1986. — С. 230−231.
- Калашникова Н. А. Рефлексия как принцип философского мышления. Дис. канд. филос. наук. Волгоград, 2006. — 35 с.
- Калина Н.Ф. Анализ дискурса в психотерапии / Н. Ф. Калина // Психол. журн. -2000.-Т. 21.-№ 2.-С. 100−107.
- Калмыкова Е., КэхелеХ. Изучение психотерапии за рубежом: история, современное состояние // Журнал практической психологии и психоанализа. 2000. — № 2. — С.20−38.
- Калмыкова Е.С., Мергенталер Э. Нарратив в психотерапии: рассказы пациентов о личной истории (часть 1) / Е. С. Калмыкова, Э. Мергенталер // Психол. журн. 1998. — Т. 19.-№ 5.-С. 97−104.
- Калмыкова Е.С., Мергенталер Э. Нарратив в психотерапии: рассказы пациентов о личной истории (часть 2) / Е. С. Калмыкова, Э. Мергенталер // Психол. журн. 1998. — Т. 19,-№ 6.-С. 112−118.
- Калмыкова Е.С., Чеснова И. Г. Анализ нарративов пациента: CCRT и дискурс-анализ / Е. С. Калмыкова, И. Г. Чеснова // Моск. психотер. журн. 1996. — № 2. — С. 177 201.
- Кант, И. Собрание сочинений: В 8-ми т.-М.: ЧОРО, 1994. Канцер М. Коммуникативная функция сновидений / М. Канцер // Антология современного психоанализа. Т. 1. -М.: Институт психологии РАН, 2000. — С. 228−237.
- Караулов Ю.Н., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А. Русский ассоциативный словарь. — Книга 1. Прямой словарь: от стимула к реакции. — М.: 1994.-784 с.
- Карпов А.В. К проблеме психических процессов / А. В. Карпов // Психол. журн. 1986.-Т. 7.-№ 6.-С. 21−31.
- Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. — М.: Институт психологии РАН, 2004. 424 с.
- Карпов А. В., Скитяева И. М. Психология рефлексии. М.: ИП РАН, 2002. — 304 с. Карпов А. В., Пономарева В. В. Психология рефлексивных механизмов управления.- М.: ИП РАН, 2000. 283 с.
- Козлов В. Свободное дыхание. М., 1992. — 75 с. Кон И. С. Открытие «Я». — М., 1978. — 367 с.
- Копьев А.Ф. Психологическое консультирование. Опыт диалогической интерпретации / А. Ф. Копьев // Вопросы психологии. 1990.-№ З.-С. 17−25.
- Копьев А.Ф. Диалогический поход в консультировании и вопросы психологической клиники / А. Ф. Копьев // Московский психотерапевтический журнал. М., 1992. — № 1. -С. 33−49.
- Корнилова Т.В. Диагностика мотивации и готовности к риску. М.: Изд-во ИП РАН, 1997.- 230 с.
- Корнилова Т.В., Смирнов С. Д. Методологические основы психологии. СПб.: Питер, 2006. — 320 с.
- Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. — М., Институт Психологии РАН. 1997.-431 с.
- Koxym X. Восстановление самости. М.: Когито-Центр, 2002. — 316 с. Красноперое О. В., Панченко А. Л. Субъективные характеристики сна и свойства личности / О. В. Краснопёрое, АЛ. Панченко // Вопросы психологии. — 1991. — № 6. — С. 139−141.
- Кривцун О.А. Художник на сцене воображаемого. Феномен рефлексии в художественном творчестве О. А. Кривцун // Человек. 2005. -№ 3, № 4.
- Кулюткин Ю.Н. Рефлексивная регуляция мышления / Ю. Н. Кулюткин // Деятельность и психические процессы. М., 1977. — С. 72−79.
- Кулюткин Ю.Н. Рефлексивная регуляция мыслительных действий / Ю.Н. Кулюткин//Психологические исследования интеллектуальной деятельности.-М., 1979.- С. 22−28.
- Курек Н.С. Эмоциональное общение матери и дочери как фактор формирования аддиктивного поведения в подростковом возрасте / Н. С. Курек // Вопросы психологии. -1997.-№ 2. -С. 48−59.
- Куттер П. Современный психоанализ. С-Пб.: БСК, 1997. — 348 с.
- Кучеренко В.В. Техника экспликации неосознаваемых субъектом знаний и критерии измененных состояний сознания / В. В. Кучеренко // Индивидуальность как субъект и объект современной жизни. Смоленск, 1996. — С. 45−56.
- Кучеренко В.В., Петренко В. Ф. Взаимосвязь эмоций и цвета / В. В. Кучеренко, В. Ф. Петренко // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. — 1988. — № 3. — С.70−82.
- Кучеренко В.В., Петренко В. Ф., Россохин А. В. Измененные состояния сознания: психологический анализ / В. В. Кучеренко, В. Ф. Петренко, А. В. Россохин // Вопросы психологии. 1998. — № 3. — С. 70−78.
- Кучинский Г. М. Психологический анализ содержания диалога при совместном решении мыслительных задач / Г. М. Кучинский // Психологическое исследование общения.-М., 1985. — С. 252−264.
- Кучинский Г. М. Психология внутреннего диалога. Минск, 1988. — 206 с. Ладенко И. С, Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Философские и психологические проблемы исследования рефлексии. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1989.-315 с.
- Ладенко КС., Семёнов КН., Степанов С. Ю. Формирование творческого мышления и культивирования рефлексии. Новосибирск, 1990. -256 с.
- Латынов В.В. Стили речевого поведения: структура и детерминанты / В. В. Латы нов//Психол. журн. 1995.- № 6. -С. 90−100.
- Латынов В.В. Системное представление картины мира говорящего в виде ментальных карт / В. В. Латынов // Принцип системности в современной психологической науке и практике. Т. 3. — М.: РАН, 1996. — С. 47−48.
- Лейбин В.М. Классический психоанализ: история, теория, практика. М.: МОДЭК, 2001.-1056 с.
- Лейбин В.М. Постклассический психоанализ. Энциклопедия. — М.^Территория будущего, 2006. 1040 с.
- Лейбин В.М. Психоанализ. М.: Реабилитация, 2008. — 768 с.
- Лейбниц, Г. В. Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1983.- 686 с.
- Лекторский В. А. Субъект. Объект. Познание. М.: Наука, 1980. — 358 с.
- Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. — 287 с.
- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. -М.: АПН РСФСР, 1959.-495 с.
- Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1977. 304 с. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. — Т.1. — М.: Педагогика, 1983. -391 с.
- Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. — Т.2. — М.: Педагогика, 1983.-318 с.
- Леонтьев Д.А. Три грани смысла / Д. А. Леонтьев // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа А. Н. Леонтьева. М.: Смысл, 1999. — С. 299−332.
- Леонтьев Д.А. Психология смысла. М., Смысл, 1999. — 487 с.
- Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации / Д. А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. -Вып. 1. М.: Смысл, 2002. — С. 56−65.
- Леонтьев Д.А. Личность как преодоление индивидуальности: контуры неклассической психологии личности / Д. А. Леонтьев // Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра. М.: Смысл, 2006а. — С. 134−147.
- Леонтьев Д.А. Личностный потенциал как потенциал саморегуляции / Д. А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. Вып. 2. — М.: Смысл, 20 066.-С. 85−105.
- Ленский В.Е. Субъектно-ориеитированная концепция компьютеризации управленческой деятельности: Автореф. дис. д-ра психол. наук. -М.: МГУ, 2000. -42 с.
- Лефевр В.А. Рефлексия. М.: Когито-Центр, 2003. — 496 с.
- ЛоккДж. Избранные философские произведения. -Т.1 М.: Соцэкгиз, 1960. — 735с.
- Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984.-444 с.
- Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: Фолио, ACT, 2000. — 846 с.
- Майков В.В. Проблема интеграции сознания в трансперсональной психологии / В. В. Майков // Философские Науки. 1987, № 2. — С. 56−67.
- Мамардашвили М. К, Пятигорский A.M. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. — 217 с.
- Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.— М., 1972. —207 с.
- Матюшкин А. Н. Основные направления исследований по психологии мышления / А. Н. Матюшкин //Психол. журн. 1985. — Т. 6. -№ 1. — С. 3−14.
- Мергенталер Э. Паттерны изменений в психотерапевтическом процессе / Э. Мергенталер // Иностранная Психология. 1997. — № 9. — С. 46−58.
- Мергенталер Э., Калмыкова Е. С., Стинсон Ч. Транскрипты психотерапевтических бесед / Э. Мергенталер, Е. С. Калмыкова, Ч. Стинсон // Психол. журн. 1996. — Т. 17. — № З.-С. 129−137.
- Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: Издательство гуманитарной науки, 1996.-248 с.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Наука, 1999. — 607 с. Мерло-Понти М. Знаки. — М.: Искусство, 2001. — 429 с.
- Молоканов М.В. Свободное дыхание как путь профессионала. М.: Изд-во Трансперсонального института, 1994. — 208 с.
- Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 1988.-144 с.
- Мордвинцева Л.П. Измененные состояния сознания: современные исследования. Аналитический обзор. М., 1995. — 15 с.
- Мотрошшова Н.В. Идеи I Гуссерля как введение в феноменологию. М.: Феноменология-Герменевтика, 2003. -720 с.
- Муканов М.М. Исследование когнитивной эмпатии и рефлексии у представителей традициональной культуры / М. М. Муканов // Исследование рече-мысли. Алма-Ата, 1979.-С. 54−73.
- Огурцов А. П. Альтернативные модели анализа познания: рефлексия и понимание / А. П. Огурцов // Проблемы рефлексии. Новосибирск, 1987. — С. 13−20. Окунь Я. Факторный анализ. — М., 1974. — 199 с.
- Орлов А.Б. Психологическое консультирование и психотерапия: триалогический подход / А. Б. Орлов // Вопр. психологии. 2002. — № 3. — С. 4—20.
- Орлов А.И. Экспертные оценки / А. И. Орлов // Вопросы кибернетики. Вып.58. -М.: Научный совет АН СССР по комплексной проблеме Кибернетика, 1979. — С. 17−33.
- Орлова Ю.О. Интенциональность и рефлексия. Дис. канд. филос. наук. СПб., 2006. — 34 с.
- Павлова Н.Д. Современный диалог-анализ. Обзор зарубежных исследований / Н. Д. Павлова // Иностранная Психология. № 6. — 1996. — С. 62−68.
- Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.-207 с. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. — Смоленск, СГУ, 1997. — 396 с. Петренко В. Ф. Что есть истина? / В. Ф. Петренко // Психология. Журнал Высшей школы экономики.-№ 1.-2005.-С. 93−101.
- Петренко В.Ф. Психосемантические аспекты картины мира субъекта / В. Ф. Петренко // Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т. 2. — № 2. — 2005. — С. 323.
- Петренко В.Ф. Методологические аспекты исторической психологии (поиск парадигмы) / В. Ф. Петренко // Эпистемогогия и философия науки. 2006. -№ 1. — С. 3856.
- Петренко В.Ф., Кучеренко В. В. Цвет и эмоции / В. Ф. Петренко, В. В. Кучеренко // Вестник МГУ. Серия Психология. — № 3. — 1988. — С.70−82.
- Петренко В.Ф., Кучеренко В. В. Искусство суггестивного воздействия / В. Ф. Петренко, В. В. Кучеренко // Российская наука: дорога жизни. М.: РФФИ, 2002. — С. 350 357.
- Петренко В.Ф., Кучеренко В. В., Вялъба Ю. А. Психосемантика измененных состояний сознания (на материале гипнотерапии алкоголизма) / В. Ф. Петренко, В. В. Кучеренко, Ю. А. Вяльба // Психологический журнал. Т. 27. — № 5. — 2006. — С. 16−27.
- Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: Политиздат, 1982.255 с.
- Петровский А.В. Психология и время. М.: Питер, 2007. -448 с. Петровский А. В., Петровский В. А. Индивид и его потребность быть личностью / А. В. Петровский, В. А. Петровский // Вопросы философии. — 1982. -№ 3. — С. 44—53.
- Петровский В.А. К психологии активности личности. Вопросы психологии. -1975. -№ 3.~ С. 26−38.
- Петровский В.А. Предпосылки психологии личности в трудах J1.C. Выготского / В. А. Петровский // Научное творчество J1.C. Выготского и современная психология. М., 1981.— 190 с.
- Петровский В.А. К пониманию личности в психологии / В. А. Петровский // Вопросы психологии. 1982. -№ 2. — С. 40−46.
- Петровский В.А. Принцип отраженной субъектности. — Вопросы психологии. -1985,-№ 4.-С. 17−30.
- Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. — М., 1992. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. — 509 с.
- Петровский В. А, Калипеико В. К., Котова И. Б. Личностно-развивающее взаимодействие. Ростов н/Д: Цв. Печать, 1996. — 88 с.
- Петровский Феномены субъектности в развитии личности. Самара: СГУ, 1997.- 101 с.
- Петровский В.А. «Идея» Гегеля, «оператор осознания» Лефевра и самопричинность «Я» / В. А. Петровский // Рефлексивное управление: Тезисы международного симпозиума17−19 октября 2000 г. -М., 2000.
- Пиаже Ж. Избранные психологические произведения. М., 1969.-213 с. Платон. Менон / Платон // Сочинения: В 3-х т.: пер. с древнегреч. — М.: Мысль, 1972. — Т. 1.- 1968.- 623 с.
- Пономарев Я. А. Психология творчества. — М., 1976.— 302 с. Поттер Дж. Дискурс-анализ как метод исследования естественно-протекающей речи / Дж. Поттер // Иностранная Психология. 1998. — № 10. — С. 36−45. Психология. Словарь. — М., 1990. — 494 с.
- Радзиховский JJ.A. Проблема диалогизма сознания в трудах Бахтина / Л. А. Радзиховский // Вопросы психологии. 1985. -№ 6. -С. 103−116. Райх В. Характероанализ. М.: Республика, 1999.-461 с.
- Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет / П. Рикер // Историко-философский ежегодник. М.: Наука, 1991. — С. 296−316.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Медиум, 1995. —416 с.
- Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика (Московские лекции и интервью). М., 1995. — 159 с.
- Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М.: Искусство, 1996. — 270с.
- Рикер П. Кант и Гуссерль / П. Рикер // Интенциональность и текстуальность. -Томск, 1998.-С. 162−193.
- Розин В.М. Рефлексия в структуре сознания личности / В. М. Розин // Проблемы рефлексии. Новосибирск, 1987. — С. 222−228.
- Романенко Ю.М. Понятие рефлексии и спекуляции в античной философии / Ю. М. Романенко // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. СПб.: изд-во СПбГУ, 2000.-С. 3−12.
- Россохин А.В. Личностная рефлексия в измененных состояниях сознания: Автореф. дисс.. канд. психол. наук. — М., 1993. 35 с.
- Россохин, А.В. Интерактивно-рефлексивный подход как метод разрешения внутриличностных конфликтов в измененных состояниях сознания / А. В. Россохин // Симптоматика и этиология конфликтов. Белгород: БГУ, 1995. — С. 56−67.
- Россохин, А.В. Проявления личности в измененных состояниях сознания / А. В. Россохин // Индивидуальность как субъект и объект современной жизни (психологические аспекты). Смоленск: СГУ, 1996. С. 48−59.
- Россохин, А.В. Рефлексивная активность личности в сновидении / А. В. Россохин, М. В. Егорова // Индивидуальность как субъект и объект современной жизни (психологические аспекты). Смоленск: СГУ, 1996. С. 73−80.
- Россохин, А.В. Интерактивный подход к исследованию измененных состояний сознания // Сознательное и бессознательное в социально-политических процессах современного российского общества, М.: Институт молодежи, 1997. С. 35−47.
- Россохин, А.В. Интерактивная рефлексия как механизм личностной интеграции в измененных состояниях сознания / А. В. Россохин // Образ в регуляции деятельности (К 90-летию со дня рождения Д.А. Ошанина). М.: РПО, 1997. С. 56−58.
- Россохин, А.В. ИСС и проблемы психотерапии наркомании / А. В. Россохин // Психологические аспекты ранней наркомании. Самара: СГУ, 1997.-С. 23−45.
- Россохин, А.В. Виртуальное счастье или виртуальная зависимость (опыт психологического анализа ИСС) / А. В. Россохин // Виртуальная реальность в психологии и искусственном интеллекте. М.: Российская ассоциация искусственного интеллекта, 1998.-С. 247−256.
- Россохин, А.В. Измененные состояния сознания как психическая реальность / В. В. Кучеренко, В. Ф. Петренко, А. В. Россохин // Журнал практикующего психолога. 1998. -№ 4.-С.81 -93.
- Россохин, А.В. Измененные состояния сознания: психологический анализ / В. В. Кучеренко, В. Ф. Петренко, А. В. Россохин // Вопросы психологии. 1998. — № 3. — С. 70−78.
- Россохин, А.В. Исследование динамики рефлексивной активности личности в измененных состояниях сознания / А. В. Россохин // Индивидуальность в современном мире. Смоленск: СГУ, 1999. -С.34−41.
- Россохин, А.В. Эмпирические методы исследования транскриптов психоаналитических сессий / А. В. Россохин, М. Б. Петровская // Индивидуальность в современном мире. Смоленск: СГУ, 1999. С. 147−156.
- Россохин, А.В. Рефлексивные аспекты аналитической позиции / А. В. Россохин // Бытие и время психоанализа. М.: МГЛИ, 2000. С. 34- 40.
- Россохин, А.В. Коллизии современного психоанализа: от конфронтации подходов к их динамическому взаимодействию / А. А. Россохин // Антология современного психоанализа. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 23−77.
- Россохин, А.В. Эмпирические критерии актуализации внутреннего диалога в устной речи / А. В. Россохин, В. Л. Измагурова // Психология созидания. Казань: РПО, 2000. Т.7. -№ 2. — С. 116−119.
- Россохин, А.В. Имплицитиые содержания психоаналитического диалога: экспертные возможности компьютерной психолингвистики / А. В. Россохин, М. Б. Петровская // Психологический журнал РАН. 2001. — № 6. — С. 77−86.
- Россохин, А.В. Рефлексивное «расщепление Я» / А. В. Россохин // Психология субъектности. Киров: ВГПУ, 2001. С. 49−58.
- Россохин, А.В. Неявная диалогизация речи пациента в психоаналитическом процессе / А. В. Россохин // Подготовка и организация работы клинических психологов. М.: МИМСР. 2001. — С. 79 — 88.
- Россохин, А.В. Личность в измененных состояниях сознания (на материале психоанализа) / А. В. Россохин // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. 2002. — № 1. — С. 279−307.
- Россохин, А.В. Сравнительная психологическая характеристика внутреннего и внешнего диалогов / А. В. Россохин, В. Л. Измагурова // Актуальные проблемы истории психологии на рубеже тысячелетий. Ч. 2.-М.: МГСА, 2002.-С. 106−111.
- Россохин, А.В. Психология измененных состояниях сознания личности (на материале психоанализа)/ А. В. Россохин //Вестник РГНФ.-2003.-№ 3.-С. 156−164.
- Россохин, А.В. Психоанализ в России: развитие профессиональной идентичности психоаналитиков / А. В. Россохин // Психологический журнал РАН. 2003. — № 4. — С. 6671.
- Россохин, А.В. Международная психоаналитическая ассоциация: проблемы и надежды в начале XXI века / А. В. Россохин // Психологический журнал РАН. 2003. -№ 4.-С. 72−77.
- Россохин, А.В. Личность в измененных состояниях сознания / А. В. Россохин, В. Л. Измагурова. М.: Смысл, 2004. — 544 с.
- Россохин, А.В. Психоанализ во Франции, или как научиться жить с неопределенностью / А. Жибо, А. В. Россохин // Французская психоаналитическая школа. М.: Питер, 2005.-С. 13−42.
- Россохин, А.В. Влияние рефлексии ИСС на динамику внутренней агрессии (на материале рассказов о сновидениях) / А. В. Россохин // Проблемы коррекции и профилактики агрессивного поведения. М.: АСОУ, 2007. С. 70−81.
- Россохин, А.В. Внутренний диалог и его связь с рефлексией / А. В. Россохин, В. Л. Измагурова // Вопросы психологии. 2008. — № 4. — С. 3−14.
- Россохин А.В. Эмпирическое исследование взаимосвязи внутреннего диалога и рефлексии / А. В. Россохин, В. Л. Измагурова // Вопросы психологии. 2008. — № 5. -С.105−120.
- Россохин, А.В. Основная функция рефлексии: смыслопорождение или управление / А. В. Россохин // Вестник университета (Государственный университет управления). -Выпуск: Социология и управление персоналом. -2008. № 12. — С. 119−122.
- Россохин, А.В. Рефлексия измененных состояний сознания: психолингвистический анализ / А. В. Россохин // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Психологические науки». — 2009. — № 1. — С. 12−20.
- Россохин, А.В. Рефлексия нерефлексивного или управление ИСС / А. В. Россохин // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2009. — № 1. — С. 87−92.
- Ротенберг B.C., Тихомиров O.K. О возможном механизме связи сновидений с творчеством B.C. Ротенберг, O.K. Тихомиров // Вопросы психологии. 1979. — № 4. — С. 130−133.
- Рубинштейн C.JI. Бытие и сознание. М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 328 с.
- Рубинштейн C.JI. Принципы и пути развития психологии. М.: Изд-во АН СССР, 1959.-354 с.
- Рубинштейн C.JI. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. — 424 с.
- Рубинштейн С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии. М&bdquo- 1973. — С. 255−382.
- Семёнов И. Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач. -М.: НИИОПП АПН СССР, 1990. 215 с.
- Семёнов И.Н. Психологические проблемы развития творческих способностей в условиях гуманизации образования. Инновационная деятельность в образовании. -№ 1. Красноярск, 1994. — С 20−30.
- Семенов И.Н., Степанов С. Ю. Рефлексивно-инновационный процесс: модель и метод изучения / И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов // Психология творчества. -М.: Наука, 1990.-С. 64−91.
- Скитяева И. М., Карпов А. В. Рефлексивные механизмы переживания кризиса / И. М. Скитяева, А. В. Карпов // Мат. Междунар. симпозиума по социальной психологии. Ярославль, 2000. — С. 47−49.
- Скитяева И.М., Карпов А. В. Экспериментальное изучение рефлексивных стратегий / И. М. Скитяева, А. В. Карпов // Ярославский психологический вестник. 2000. — Вып. 3. -С. 28−38.
- Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека / В. И. Слободчиков // Вопросы психологии. 1986. -№ 6. — С. 14−22.
- Слободчиков В.И. Становление рефлексивного сознания в раннем онтогенезе / В. И. Слободчиков // Проблемы рефлексии. Новосибирск, 1987. — С. 60−68.
- Слободчиков В.И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Автореф. дисс.. доктора психол. наук. М., 1994. — 45 с.
- Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте / В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман // Вопросы психологии. -1990. -№ 3.-С.25−36.
- Смирнова Е.В., Сопиков А. П. Рассуждение о рассуждениях (рефлексивность сознания личности) / Е. В. Смирнова, А. П. Сопиков И Социальная психология личности. — Л., 1973.-С. 140−149.
- Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. — М., 1968. -256 с.
- Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. — М.: МГУ, 1976.128 с.
- Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М.: МГУ, 1989.-215 с.
- Соколова Е. Т. К проблеме психотерапии пограничных личностных расстройств / Е.Т. Соколова// Вопросы психологии. 1995. -№ 2. — С. 92−105.
- Соколова Е.Т. Общая психотерапия. М.: Тривола, 2001. — 304 с.
- Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика. М., 2002. — 368 с.
- Соколова Е.Т., Бурлакова Н. С. К обоснованию метода диалогического анализа случая / Е. Т. Соколова, Н. С. Бурлакова // Вопросы психологии. 1997. -№ 2. — С. 61−76.
- Соколова Е.Т., Николаева В. В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. — М.: Аргус, 1995. 359 с.
- Соколова Е. Т., Чеснова И. Г. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей / Е. Т. Соколова, И. Г. Чеснова // Вопросы психологии. 1986. -№ 2. — С. 110−117.
- Соколова Е.Т., Чечелъницкая Е. П. Психология нарциссизма. М., 2001. — 90 с.
- Соколова Е.Т., Чечелъницкая Е. П. Моделирование стратегий психотерапевтического общения при патологических внутренних диалогах / Е. Т. Соколова, Е. П. Чечельницкая // Московский психотерапевтический журнал.-№ 1.-2001.-С. 102−121.
- Солоед К.В. Разлука с матерью на первом году жизни: влияние на объектные отношения у детей / К. В. Солоед // Московский психотерапевтический журнал. 2000. -№ 4.-С. 19−27.
- СпивакД. Л. Язык при измененных состояниях сознания. Л.: Наука, 1989. — 89 с.
- Спивак Д.Л. Матрицы: пятая проза? / Д. Л. Спивак // Родник. 1990. — № 9. — С. 1519.
- Спивак Д.Л. Многообразие религиозного опыта (к столетию публикации книги У. Джеймса) / Д. Л. Спивак // СПб.: Точки-Puncta, 2002. № 3−4.
- Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. -М., 1972. 188 с.
- Степанов С.Ю. Проблема концептуально-методического отображения процесса мышления / С. Ю. Степанов // Вопросы психологии. 1988. — № 5. — С. 38−46.
- Степанов С. Ю., Семенов И. Н. Проблема формирования типов рефлексии в решении творческих задач / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов // Вопросы психологии.1982.-№ 1.-С. 99−104.
- Степанов С. Ю., Семенов И. Н. Современные проблемы творческой рефлексии и проектирования / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов // Вопросы психологии. 1983. -№ 5.-С. 162−164.
- Степанов С. Ю., Семенов И. И. Психология рефлексии: проблемы и исследования / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов // Вопросы психологии. 1985. -№ 3. — С. 31−40.
- Степанов С. Ю. Семенов И. Н. Организация и развитие рефлексивных процессов / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов // Проблемы логической организации рефлексивных процессов. Новосибирск, 1986.-С. 45−47.
- Стопин В.В. Самосознание личности. М.: МГУ, 1983.-284 с. Тарт Ч. Состояния сознания / Ч. Тарт // Магический кристалл. — М. 1992. — С. 180 247.
- Тарт Ч. Измененные состояния сознания. М.: ЭКСМО, 2003. — 287 с. Тихомиров О. К. Структура мыслительной деятельности человека. — М.: Изд-во МГУ, 1969.-304 с.
- Тихомиров O.K. Психология мышления. М.: МГУ, 1984. — 270 с. Томэ X., Кохеле X. Современный психоанализ. — М.: Прогресс, 1996. — 576 с. Томэ Г., Кэхеле X. Современный психоанализ: исследования. — М.: Прогресс, 2001. -245 с.
- Тулъвисте Т. Происхождение рефлексии в мышлении: обзор исследований по детской и межкультурной психологии. Тарту, 1984. — 156 с.
- Тулъвисте П., Тулъвисте Т. О причинах появления в мышлении рефлексии / П. Тульвисте, Т. Тульвисте // Проблемы логической организации рефлексивных процессов. Новосибирск, 1986. — С. 24−26.
- Тульчинский Г. Л. Проблемы осмысления действительности. -JJ., 1966. 175 с. Тюков А. А. О путях описания психологических механизмов рефлексии / А. А. Тюков // Проблемы рефлексии. — Новосибирск, 1987. — С. 68−76.
- Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. М.: Смысл, 2001. — 263 с. Ухтомский А. А. Письма / А. А. Ухтомский // Пути в незнаемое. — Сб. 10. — М., 1973. -С. 371−435.
- Ушакова Т. Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы. М., 1979. — 248 с.
- Ушакова Т.Н. Проблема внутренней речи / Т. Н. Ушакова // Вопросы психологии. -1985,-№ 2.-С. 39−51.
- Ушакова Т.Н. Методы исследования речи в психологии / Т. Н. Ушакова // Психол. журн. 1986. — Т.7. — № 3. — С. 26−39.
- Ушакова Т.Н., Латынов В. В. Оценочный аспект конфликтной речи / Т. Н. Ушакова // Вопросы психологии. 1995. — № 5. — С. 33−41.
- Ушакова Т.Н., Павлова Н. Д. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса. СПб.: Алетейя, 2000. 316 с.
- Ушакова Т.Н., Павлова Н. Д., Зачесова И. А. Психологические исследования семантики речи / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова // Вопросы психологии.1983.-№ 5.-С. 30−41.
- Ушакова Т.Н., Цепцов В. А., Алексеев К. И. Интент-анализ политических текстов / Т. Н. Ушакова, В. А. Цепцов, К. И. Алексеев // Психол. журн. 1998. — № 4. — С. 98−109.
- Ушакова Т.Н., Шустова Л. А., Свидерская Н. Е. Связь сложных психических процессов с функциональной организацией работы мозга / Т. Н. Ушакова, JI.A. шусова, Н. Е. Свидерская // Психол. журн. 1983. -Т.4. -№ 4. — С. 119−134.
- Фихте, И. Г. Сочинения: В 2 т. Т.2. — СПб.: Мифрил, 1993. — 363 с.
- Флоренская Т.А. Диалог как метод психологического консультирования (духовно-ориентированный подход) / Т. А. Флоренская // Психол. журн. 1994. — Т. 15. -№ 5. — С. 45−54.
- Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. — М., 1993. 144 с.
- Фрейд 3. Толкование сновидений. М.: Современные проблемы, 1913. — 448 с.
- Фрейд 3. Лекции по введению в психоанализ. М.: ГИЗ, 1922. — Т. 1. -251 с.
- Фрейд 3. Лекции по введению в психоанализ. М.: ГИЗ, 1922. — Т.2. -250 с.
- Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни. М.: Современные проблемы, 1926.256 с.
- Фрейд 3. Я и Оно. Труды разных лет. М.: Эксмо, 1991. — 864 с.
- Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993.447 с.
- Хайдеггер М. Что это такое философия? / М. Хайдеггер // Путь в философию. Антология. — М.: ПЕР СЭ- СПб.: Университетская книга, 2001. — С. 145−159.
- Харре Р. Грамматика и лексика векторы социальных представлений / Р. Харре // Вопросы психологии. — 1993. -№ 1.- С. 118−127.
- Харре Р. Вторая когнитивная революция. Три парадигмы в психологической науке / Р. Харре // Психол. журн. 1996. — Т. 17. — № 2. — С. 3−15.
- Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М.: Барс, 1997. — 391 с.
- Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащие, топики и точка зрения / У. Чейф // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. — М., 1982. — С. 56−87.
- Шаров В. С. О-граниченный человек: значимость, активность, рефлексия. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2000. — 358 с.
- Щедровицкий Г. П. Коммуникация, деятельность, рефлексия / Г. П. Щедровицкий // Исследования рече-мысли и рефлексии. Алма-Ата, 1979. — С. 138−154.
- Щедровицкий Г. П. Проблемы изучения рефлексии и мыследеятельности / Г. П. Щедровицкий // Проблемы логической организации рефлексивных процессов. -Новосибирск, 1986.-С. 60−61.
- Щедровицкий Г. П. Идея рефлексии в самых общих чертах / Г. П. Щедровицкий // Модели рефлексии. Новосибирск, 1995. — С. 327−329.
- Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Дело, 1995. — 759 с. Шкуратов И. Н. Феноменологический подход в психологии: история и перспектива. Дис. кандидата философских наук. — Москва, 2002. — 34 с.
- Шопенгауэр, А. Афоризмы и истины: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.736 с.
- Aron, L.A. Meeting of minds: mutuality in psychoanalysis. Hillsdale, N.Y.: Analytic Press, 1996.
- Aron L.A., Bushra, A. Mutual regression: altered state in the psychoanalytic situation // Journal of the American Psychoanalytic Association. -V. 46. 1988. — P. 389−412.
- Bach, S. Narcissistic states and the therapeutic process. -N.Y.: Aronson, 1985.
- Bach, S. The language of perversion and the language of love. -NJ: Aronson, 1994.
- Balint, M. Changing therapeutic aims and techniques in psychoanalysis // The International Journal of Psycho-Analysis. 1950. — V. 31. — P. 117−124.
- Baudry, F.D. The personal dimension and management of the supervisory situation with a special note on the parallel process / F.D. Baudry // The Psychoanalytic Quarterly. 1993. — V. 62.-P. 588−605.
- Bayle, G. Les clivages / G. Bayle // Revue Fran? aise de Psychanalyse. 1996. — V. 60. -№ Special Congres.-P. 1315−1547.
- Bergmann M.S. Reflections on the history of psychoanalysis / M.S. Bergmann // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1993. — V. 41. — P. 929−955.
- Bird B. Notes on transference / B. Bird // Journal of the American Psychoanalytical Association. 1972. — V. 20. — P. 267−301.
- Blucourt A. Transference, countertransference and acting out in psychoanalysis / A. Blucourt // Int. J. Psychoanal. 1993. — V. 74. — P. 757−773.
- Blum H.P. The value of reconstruction in adult psychoanalysis / H.P. Blum // Int. J. Psychoanal. 1980. — V. 61. — P. 39−52.
- Blum H.P. The position and value of extratransference interpretation / H.P. Blum // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1983. — V. 31. — P. 587−617.
- Bohm D. A New theory of the relationship of mind and body / D.A. Bohm // The Journal Of The American Society For Psychical Research. 1986. — V. 80. — P. 113−135.
- Bollas, C. Forces of destiny. N.Y.: Jason Aronson, 1989.
- Bollas, C. Being a character. N.Y.: Hill and Wang, 1992.
- Boschen P. Dependence and narcissistic resistances in the psychoanalytic process / P. Boschen //Int. J. Psychoanal.-1987.-V. 68.-P. 109−125.
- Bromberg, P.M. Interpersonal psychoanalysis and regression / P.M. Bromberg // Contemp. Psychoanal. 1979. — V. 15. — P. 647−655.
- Bromberg, P.M. «Speak that I may see you»: Some reflections on dissociation, reality, and psychoanalytic listening / P.M. Bromberg // Psychoanal. Dial. 1994. — V. 4. — P. 517−547.
- Bromberg, P.M. Standing in the spaces: The multiplicity of self and the psychoanalytic relationship / P.M. Bromberg // Contemp. Psychoanal. 1996. — V. 32. — P. 509−535.
- Brown A. L., Bransford J. D., Feirara R. A., Campione J. C. Learning, remembering, and understanding / A.L. Brown, J.D. Bransford, R.A. Ferrara, J.C. Campione // Handbook of Child Psychology. 1983,-V.3.-. P. 143−157.
- Brown A. L., Campione J. C. The problem of access / A.L. Brown, J.C. Campione // Intelligence and learning. 1979. — P. 515−529.
- Brown A. L., Campione J. C. Communities of learning and thinking, or a context by any other name / A.L. Brown, J.C. Campione // Developmental Perspectives on Teaching and Learning Thinking Skills. Basel: Karger, 1990. — P. 56−85.
- Bucci W. The development of emotional meaning in free association / W. Bucci // Hierarchical conceptions in psychoanalysis. N.Y., 1993. — P. Ъ-М.
- Bucci W. Patterns of discourse in «good» and trouble hours: a multiple code theory / W. Bucci // Journal of the American Psychoanalytical Association. 1997. — V. 45. — P. 155−187.
- Casement P.J. Learning from the patient. -N.Y.: Guilford Press, 1991.
- CattierM. The life and work of W. Reich. -N.Y., 1975.
- Chervet, B. De la chimere a 'interpretation / B. Chervet // L’art du psychanalyste. Autour de I’oeuvre de Michel de M’Uzan. Paris: Delachaux et Niestle, 1998. — P. 83−98.
- Cheyne J.A., Tarulli D. Dialogue, difference, and the third voice in the zone of proximal development. Canada, 1999.
- Chused J.F. The evocative power of enactments / J.F. Chused // Journal of the American Psychoanalytical Association. 1991. — V. 39. — P. 615−639.
- Coad P. Amplified learning. Posted At Coad. Com. Peter, 1994. Cooke Т., Campbell D. Quasi-experimentation. — Boston, 1979.
- Crits-Christoph P., Luborsky L., Dahl L., Popp C., Mellon J. Clinicians can agree in assessing relationship patterns in psychotherapy / P. Crits-Christoph, L. Luborsky, L. Dahl, C. Popp, J. Mellon // Arch. Gen. Psychiat. 1988. — V. 45. — P. 1001−1004.
- Curtis J.Т., Silberschatz G., Sampson H., Weiss J. The plan formulation method / J.T. Curtis, G. Silberschatz, H. Sampson, J. Weiss // Psychotherapy Research. 1994. — P. 197−207.
- Dahl H. A quantitative study of a psychoanalysis // Psychoanalysis and Contemporary Science. 1972. — P. 237−257.
- Dahl PI. The measurement of meaning in psychoanalysis by computer analysis of verbal contexts / H. Dahl // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1974. — V. 22. — P. 37−49.
- Dahl H., Spence D., Mayes L. Monitoring the analytic surface / H. Dahl, D. Spence, L. Mayes // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1994. — V. 42. — P. 43−64.
- Dahl II, Teller V., Moss D., Trujillo M. Countertransference examples of the syntactic expression of vvarded-off contents / H. Dahl, V. Teller, D. Moss, M. Trujillo // Psychoanal Q. -1978. V. 47.-P. 339−363.
- Dahl H., Teller V. The characteristics, identification and application of FRAMES / H. Dahl, V. Teller // Psychotherapy Research. 1994. — V. 4. — P. 252−274. De M' Usan M. Chimera and interpretation. — Paris, 1985.
- Flavell J. H. Metacognitive aspects of problem solving / J.H. Flavell // The nature of in telligence. -N.Y., 1976. P. 231−235.
- Flavell J. H. Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive-developmental inquiry / J.H. Flavell // American Psychologist. 1979. — V. 34. — P. 906−911.
- Flavell J.H. Cognitive monitoring / J.H. Flavell // Children’s oral communication skills. Academic Press, 1981. — P. 35−60.
- Fliess R. The metapsychology of the analyst / R. Fliess // Psychoanal. Quart. 1942. -V.l 1. — P. 211−227.
- Fliess R. Countertransference and counteridentification / R. Fliess // Journal of the American Psychoanalytical Association. 1953. — V. 1. — P. 268−284.
- Fonagy P. An open door review of outcome studies in psychoanalysis. Report prepared by the research Committee of the IPA. — London: University College, 1999.
- Fonagy P. An open door review of outcome studies in psychoanalysis. Report prepared by the research Committee of the IPA. — London: University College, 2002.
- Gendlin, E.T. Experiencing and the creation of meaning. N.Y.: Glencoe Free Press, 1982.
- Gill, M. M. Analysis of transference. -V.l. N.Y.: Int. Univ. Press, 1982. Gill M., Muslin H. Early interpretation of transference / M. Gill, H. Muslin // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1976. — V. 24. — P. 779−794.
- Glucksman, M. L. Altered states of consciousness in the analyst / M.L. Glucksman // Journal of the American Academy of Psychoanalysis. 1998. — V. 26. — P. 197−207.
- Gray P. On helping analysands observe intrapsychic activity in psychoanalysis / P. Gray // The Science of Mental Conflict — Essays in Honor of Charles Brenner. N.Y.: Analytic Press, 1986.-P. 245−262.
- Green, A. Le discours vivant: la conception psychanalytique de l’affect. Paris: Presses Universitaire France, 1973.
- Green, A. Surface analysis, deep analysis. The role of the preconscious in psychoanalytical technique / A. Green // International Journal of Psychoanalysis. 1974. — V.l. -P. 415−423.
- Green, A. La pratique fondamentale de la psychanalyse / A. Green // Revue Fran9aise de Psychanalyse. 1988. — V. 52. — P. 569−595.
- Green, A. Le temps eclate. Paris: Ed. de Minuit, 2000.
- Green, A. Time in psychoanalysis: Some contradictory aspects. London: Free Association Books, 2001.
- Green, A. Idees directrices. Paris: Presses Universitaire France, 2002.
- Guillaumin, J. Transfert, contre-transfert. Bordeaux-Paris: L’esprit du temps, 1998.
- Hunt H. A cognitive psychology of mystical and altered-state experience / H. Hunt // Perceptual and motor skills. 1984. — V. 58. — P. 467−513.
- Hartog J. Die methode des zentralen beziehungs-konflikt-themas / J. Hartog // Eine Linguistische Kritic Medizinishe Kommunikation. 1994. — P. 306−326.
- Haskell N.F., Blacker K.H., Oremland J.D. The fate of the transference neurosis after termination of a successful analysis / N.F. Haskell, K.H. Blacker, J.D. Oremland // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1976. — V. 24. — P. 471198.
- Heimann P. The evaluation of applicants for psychoanalytic training / P. Heimann // Int. J. Psychoanal. 1968. — V. 49. — P. 527−539.
- Hermans H.J.M. Self as organized system of valuations: Toward a dialogue with the person / H.J.M. Hermans//Journal of Counseling Psychology. 1987. — V. 34. — P. 10−19.
- Hermans H.J.M. The dialogical self: toward a theory of personal and cultural positioning / H.J.M. Hermans // Culture & Psychology. 2001. — V. 7. — P. 243−281.
- Hermans H.J.M. The construction of a personal position repertoire: method and practice / H.J.M. Hermans // Culture & Psychology. 2001. — V. 7. — P. 323−365.
- Jacobs T.J. The use of the self. Madison. Int. Univ. Press, 1991.
- Ouartier-Frings, F. Langage ct interpretation / F. Quartier-Frings // Une thcorie vivante l’ceuvre d’Andre Green. Paris: Delachaux et Niestle, 1995.
- Kelman, H. Altered states of consciousness in therapy / H. Kelman // Journal of the American Academy of Psychoanalysis. 1975. — V. 3. — P. 187−204.
- Kernberg O. Convergences and divergences in contemporary psychoanalytic techniques / O. Kernberg // Int. J. Psychoanal. 1993. — V. 74. — P. 659−673.
- McDougall, J. Le contre-transfert et la communication primitive / J. McDougall // Plaidoyer pour une certaine anormalite. Paris: Gallimard, 1978. P. 35−76.
- Mclaughlin J. Transference, psychic reality and countertransference / J. Mclaughlin // Psychoanal. Q. 1981. — V. 50. — P. 639−664.
- Mclaughlin J. Clinical and theoretical aspects of enactment / J. Mclaughlin // Journal of the American Psychoanalytical Association. 1991. — V. 39. — P. 595−614.
- Metcalfe J., Shimamura A. P. Metacognition: Knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.
- Miller G.A. Some psychological reality of grammar / G.A. Miller // American Psycholog. 1962.-V.17.-№ 11.-P. 511−523.
- Miller H. Narrarive / H. Miller // Critical terms for literary study. Chicago: University of Chicago Press, 1990.-P. 127−140.
- Miller H. Reading narrative. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1998. Mitchell S.A. Relational concepts in psychoanalysis. — Cambridge: Harvard Univ. Press, 1988.
- Morin A. Inner speech and conscious experience. Talking to ourselves is important / A. Morin // Science and Consciousness Rev. 2003. — V. 4. — P. 1−5.
- Oatley K. Integrative action of narrative / K. Oatley // Cognitive science and clinical disorders. San Diego, 1992.
- Pine F. The bearing of psychoanalytic theory on selected issues in research on marginal stimuli / F. Pine // Journal of Nerv. and Ment. Disease. V. CXXXVIII. — 1964. — P. 205−222.
- Polkinghorne D.E. Narrative and self-concept / D.E. Polkinghorne // Journal of Narrative and Life History. 1991. — V. 1. — P. 41−68.
- Prince G. Narratology: the form and functioning of narrative. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton Publishers, 1982.
- Racker H. The meanings and uses of countertransference / H. Racker // Psychoanal. Q. -1957. -V. 26.-P. 303−357.
- Rapaport, D. Organization and pathology of thought. New York: Columbia University Press, 1951.
- Rapaport, D. States of consciousness / D. Rapaport // The Collected Papers of David Rapaport. N.Y.: Basic Books, 1967. — P. 385−404.
- Rather L. Collaborating with the unconscious other / L. Rather // International Journal of Psychoanalysis. 2001. — V. 82. — P. 515−531.
- RaufS. There is a best seller in your brain. -N. Y., 2003.
- Rayner E. The independent mind in British psychoanalysis. Northvale, NJ: Aronson, 1991.
- Robbins M. Narcissistic personality as a symbiotic character disorder / M. Robbins // Int. J. Psychoanal. 1982. — V. 63. — P. 457−469.
- Sandler, J. & Sandler, A.-M. The past unconscious, the present unconscious, and the vicissitudes of guilt / J. Sandler, A.-M. Sandler // The International Journal of Psycho-Analysis. 1987.- V. 68.-P. 331−341.
- Schneider W., Pressley M. Memory development between 2 and 20. N.Y.: Springer-Verlag, 1989.
- Shergill S.S., Brammer M.J., Fukuda R. Modulation of activity in temporal cortex during generation of inner speech / S.S. Shergill, M.J. Brammer, R. Fukuda // Human Brain Mapping. -London, 2002.-V. 16. P. 219−227.
- Silverberg W. V. The concept of transference / W.V. Silverberg // Psychoanal. Quart. -1948.-V. 17.-P. 309−310.
- Singer M. Understanding coherent discourse / M. Singer // Psychology of language. An introduction to sentence and discourse processes. New Jersey, 1990. — P. 113−165.
- Spence D.P. Narrative truth and historical truth: meaning and interpretation / D.P. Spence //Psychoanalysis.-N.Y., 1982.
- Spence D.P., Dahl II., Jones E.E. Impact of interpretation on associative freedom / D.P. Spence, H. Dahl, E.E. Jones // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1993. — V. 61. -P. 395−402.
- Sterba R. The fate of the Ego in analytic therapy / R. Sterba // International Journal of Psychoanalysis.- 1934.-V. 15.-P. 117−126.
- Stone L. The psychoanalytic situation and transference: postscript to an earlier communication / L. Stone // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1967. — V. 15.-P. 3−58.
- Tart C.T. Psychodelic experiments associated with a novel hypnotic procedure / C.T. Tart // Altered States of Consciousness. -N.Y., 1969. P. 291−308.
- Tart C.T. States of consciousness. N.Y., 1975.
- Tart C.T. Altered states of consciousness: putting the pieces together / C.T. Tart // Expanding dimensions of consciousness. -N.Y., 1978. P. 56−98.
- Treurniet, N. What is psychoanalysis now / N. Treurniet // The International Journal of Psycho-Analysis. 1993. — V. 74.-P. 873−891.
- Tumanov V. Unframed direct interior monologue. Amsterdam/Atlanta, 1997.
- Urtubey, L. de. Du cote de chez 1'analyste. Paris: Presses Universitaire France, 2002.
- Walsh R.N., Vaughan F. What is a person? / R.N. Walsh, F. Vaughan // Beyond Ego. Transpersonal Dimensions in Psychology. -N.Y., 1980.
- Wandel J. E. Use of internal speech in reading by hearing and hearing-impaired students in oral, total communication and cued speech programs. N.Y.: Columbia University Teachers College, 1989.
- Wellman H. M. Metamemory revisited / H.M. Wellman // Trends in Memory Development Research. Basel: Karger, 1983. — P. 31−51.
- White RS. Transformations of transference / R.S. White // Psychoanal. St. Child. 1992. -V. 47.-P. 329−348.
- WilberK. The spectrum of consciousness. Wheaton. 1977.
- Winnicott, D. W. Transitional objects and transitional phenomena / D.W. Winnicott // The International Journal of Psycho-Analysis. 1953. — V. 34. — P. 89−97.
- Wyalt F. The narrative in psychoanalysis: psychoanalytic notes on storytelling. Listening and interpreting / F. Wyatt // Narrative Psychology: the Storied Nature of Human Conduct. -N.Y., 1986.-P. 193−210.