Мифопоэтические аспекты жанровой эволюции в русской литературе конца XIX — начала XX в
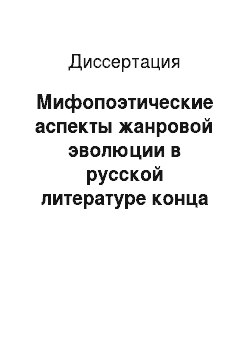
Результаты работы были апробированы при чтении лекционных курсов по истории русской литературы конца XIX — начала XX в. и литературы русского зарубежья на историко-филологическом факультете РГГУ (2005 — 2008 гг.), подготовке к изданию диссертантом в качестве соавтора и ответственного соредактора (наряду с В.А.Келдышем) академического коллективного труда «Поэтика русской литературы конца XIX… Читать ещё >
Содержание
- РАЗДЕЛ I.
- Мифопоэтические импульсы и общая динамика художественных форм в русской литературе рубежа XIX — XX веков
- Глава.
- 1. 1. Мифопоэтика и прозаические формы
- Мифологизация и основные векторы эволюции прозы
- Историософская проза. Постановка проблемы
- Глава.
- 1. 2. Мифопоэтика и лирические формы
- Глава.
- 1. 3. Мифопоэтика и драма
- Мистерия и трагедия
- Чеховский след в драматургии символистов
- РАЗДЕЛ II.
- Индивидуальная модель мифопоэтики: случай Д.С. Мережковского
- Глава II. 1. Жанровый фон и концептуальный аппарат историософского творчества
- Глава II. 2. Историософская критика
- Глава II. 3. Историософская биографика
Мифопоэтические аспекты жанровой эволюции в русской литературе конца XIX — начала XX в (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Гуманитарии, занятые описанием мировоззренческого и художественного опыта конца XIX — начала XX века, приложили немало усилий, чтобы показать глубокую связь между эпохальным кризисом «традиционных ценностей» и мифологией в качестве нового универсального познавательного инструмента, который объемлет самый широкий спектр значений — от научной дисциплины как части классической филологии и фольклористики до мифопоэтики как языка литературы, искусства и утопических идеологий. Эту взаимозависимость между переживанием эпохи провозглашенной Ницше «смерти бога» и архаикоцентризмом культурных интересов эмблематично выразил М. Хайдеггер: «Обезбоженность (Entgotterung) есть состояние, при котором невозможно прийти к решению относительно Бога или богов. Образовавшаяся пустота заполняется историческим и психологическим исследованием мифов"1.
В науке уже стали традиционными рассуждения о том, что на рубеже XIX—XX вв.еков кризис социальной характерологии классического романа и исторической эволюционности вообще предопределил «пафос мифологизма» — свойственное ему «обнаружение постоянных и вечных принципов, скрытых под обыденной поверхностью и сохраняющихся неизменными при любых исторических изменениях"2, его связь с фрейдистским и юнгианским психоанализом, свидетельствующую об эмансипации индивидуума от общественного контекста. В результате личность в литературе универсализируется, «что позволяет ее интерпретировать в терминах символико-мифологических"3.
1 Heidegger М. Holzwege. Frankfurt / М., 1950. S.70. Здесь и далее, если иное не оговорено особо, переводы из иноязычных источников — автора диссертации.
2 Мелетииский Е. М. От мифа к литературе. М., 2000. С. 129.
3 Там же. С. 130.
Исследование мифологизации как одного из центральных устремлений русского модернизма в последние десятилетия превратилось не только в очень востребованный литературоведческий сюжет, но и в предмет бесчисленных квазинаучных спекуляций, породило множество филологических курьезов. Безмерное расширение сегодня понятия миф (как и соответствующих дериватов: мифологизм, мифопоэтика, мифологема и т. п.) и напористая легковесность х попыток его приложения в качестве универсального интерпретационного ключа к самому разнообразному кругу явлений заставляют вспомнить предложенное в свое время Максом Мюллером классическое определение мифа как «болезни языка». Но при этом наполнить это определение не научно-дескриптивным, а, так сказать, метафорическим смыслом: миф, действительно, стал в «мейнстриме» нынешней филологии болезнью, зачастую разрушающей и дискредитирующей сам научный язык.
В наши задачи не входит обсуждение вопроса о научной основательности мифологической критики (Дж. JI. Уэстен, М. Бодкин, Дж. Кэмпбелл, Р. Чейз, Н. Фрай, М. Элиаде и др.) как таковой с ее уязвимой установкой на восприятие мифа в качестве тотальной порождающей структуры по сути всякого художественного творчества. Достаточно констатировать, что такая установка сама по себе порождена гносеологическими рефлексиями рубежа веков. И она вписывается в круг проблем, очень актуальных если и не для всей русской литературы конца XIX — начала XX столетий, то по крайней для ее наиболее ориентированной на новаторство части — для модернизма. Причем актуальных в том числе и в контексте жанровых вопросов, пусть и понимаемых достаточно широко. Имеется в виду в высшей степени важное для символистской эстетики напряжение между полем искомых/конструируемых универсальных структур и вариантами их реализации в разнообразных художественных формах, которые теперь осознаются как проблемные. При этом напряжение такого рода возникает во многом именно в связи с кризисом канонической жанровой системы на рубеже веков, что, как мы увидим, приводит к формообразованию с неизбежной проекцией на инвариантный мифологический механизм.
Символистские поиски универсального мифологического инварианта литературных форм были отчасти предопределены логикой развития отечественной историко-культурной мысли второй половины XIX столетия. На рубеже веков интерес русских символистов к этой теме реанимировал вопросы, поставленные еще в 1870 году А. Н. Веселовским: «<.> не ограничено ли поэтическое творчество известными определенными формулами, устойчивыми мотивами, которое одно поколение приняло от предыдущего, а это от третьего, которых первообразы мы неизбежно встретим в эпической старине и далее, на степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова? Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых, и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое собственно и составляет ее прогресс перед прошлым?"4.
Эти размышления ученого служили предпосылкой к осознанию на изломе столетий возможности (или даже неизбежности) скрытого, имплицитного присутствия архетипических структур в любом художественном высказывании — и, соответственно, готовности выявить подобный глубинный потенциал, задействовать его способность генерировать приемы литературного письма.
Актуализация такой диахронической памяти словесных форм соседствовала в модернизме с попытками комбинаторного структурирования порождающего механизма в плане синхронии. Выстраивание символистами своих сочинений по принципу частных реализаций нескольких базовых метасюжетов (ницшеанство, соловьевская софиология и т. п.) логично предопределило характерное для современной науки осмысление их наследия как единого «гипертекста», или «пратекста», что, по замечанию А. Ханзена-Леве, «вполне соответствует символистскому самопониманию» и.
4 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 51. представляет собой весьма интересную аналогию тезису о том, что каждый отдельный мифологический текст является «развертыванием» единого и единственного «мифа» «5. В раннем младосимволизме (прежде всего в кружке «аргонавтов"6), в котором мифогенные токи модернистской эстетики получают наибольшее ускорение, общая укорененность в едином «пратексте» приводит к выработке уже четко очерченного и структурированного мифологического кода. С конкретными художественными, философскими и прочими высказываниями он соотносится как «язык» с «речью» в знаменитой соссюровской дихатомии. Причем этот язык вполне мифопоэтически наделяется не конвенциональным, а онтологическим статусом. Ошибки в его использовании чреваты не просто непониманием, прозаическим сбоем в коммуникации, а трагедиями, преодолевающими границы литературности и выплескивающимися в пространства «жизни и духа». Именно об этом свидетельствует в воспоминаниях о своем окружении А. Белый: «Говорили всегда не о том, что в словах, а о том, что — под словомпрочитывая шифры друг друга, мы достигали невероятного понимания <.> Когда не умели прочесть, между нами вставала ужасная путаница, угрожающая катастрофой» .
Применительно к литературе проистекающие отсюда процессы смыслопорождения были емко описаны в программной статье З. Г. Минц как феномен символистского неомифологизма. Предложенный исследователем концепт сочетает точность с многоаспектностью в осмыслении словесного феномена, объемля самые разные его уровни — от лингвостилистики до текстовой «модели мира». Этим обусловлена и эвристическая ценность идей ученого, и их популярность в современном литературоведении — со всеми сопутствующим издержками: растиражированностью и «фетишизацией» сказанного. Отсюда у многих современных филологов — соблазн легких.
5 Ханзен-Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999. С. 11.
66 См.: Лавров А. В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф — фольклор — литература. JL, 1978. С. 137−170.
7 Белый А. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 182.
8 Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Блоковский сборник. Тарту. 1979. Т. 3. (Ученые записки Тартуского университета. Вып. 459). Далее работа цитируется по републикации: Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб., 2004. С. 59−97. решений и описания под «мифопоэтическим» углом зрения любых явлений модернистской эстетики, пренебрегая сложностью и несходством разных ее составляющих.
Поскольку предметом обозрения в диссертации становятся именно жанровые следствия мифопоэтических поисков литературы рубежа XIX — XX веков, большая часть проблем, сопряженных с понятием «неомифологизма», окажется вне нашего поля зрения. Равно как за скобки выводятся любые транскрипции мифов и мифологических категорий в художественный текст, если они не подразумевают хотя бы в какой-то степени перестройки или внутренней динамики жанра и жанровой системы. Тут, однако, мы сталкиваемся с серьезной методологической сложностью.
Тотальность мифопоэтических структур в модернистской эстетике «серебряного века» обусловлена парадоксальным сочленением в ней «панхронизма» с «атемпоральностью», в результате чего «течение исторического времени прерывается мессианским актом тотального обновления и все предыдущие эпохи предстают в новом идеальном синтезе», при этом «понятие культурной традиции, доминировавшее в сознании предшествующего столетия, заменяется идеей культурного мифа», а «историческая последовательность уступает место мифологической симультативности"9. Порождаемый подобным сознанием хронотоп базируется на феномене, который М. М. Бахтин определяет как «вертикальное время»: «Временная логика этого вертикального времени — чистая одновременность всего (или «сосуществование всего в вечности»). Все, что на земле разделено временем, в вечности сходится в чистой одновременности существования. Эти рассуждения, эти «раньше» и «позже», выносимые временем, несущественны, их нужно убрать, чтобы понять мир, нужно сопоставить все в одном времени, то есть в разрезе одного момента, нужно видеть весь мир как одновременный.
9 Gasparov В. The «Golden Age» and Its Role in the Cultural Mythology of Russian Modernism // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley, Los Angeles, Oxford. 1992. P. 2.
Только в чистой одновременности или, что-то же самое, во вневременности может раскрыться истинный смысл того, что было, что есть и что будет, ибо то, что разделяло их, — время, — лишено подлинной реальности и осмысливающей силы. Сделать разновременное одновременным, а все временно-исторические разделения и связи заменить чисто смысловыми, вневременно-иерархическими разделениями и связями, — таково построение мира по чистой вертикали"10. Именно этот аспект преодоления временных перегородок, актуального присутствия высокой архаики в настоящем и ее способности предначертать будущее Вяч. Иванов выдвигает как основополагающий для новой эстетики, сочувственно цитируя работу «Вагнер как учитель» главного теоретика «античного сегодня»: «Верно судит Ницше о незамечаемом, но действенном участии эллинского наследия в современности, говоря: «Мы переживаем явления необъяснимые вне соотношения с пережитыми Грецией. Между Кантом и Элеатами, Шоненгауэром и Эмпедоклом, например, так близко родство и тесна связь, что ясно видишь всю ограниченность наших разграничений по категории времени. Почти кажется, что многое, разъединенное веками, — одно целое и что время — только облако, препятствующее нам разглядеть это <. .> в бледных очертаниях начинает снова мерцать образ эллинства, но еще такой далекий и призрачный.» «11.
Подобное положение вещей подразумевает не просто принципиальную переоценку всех институтов культурной преемственности нового времени, в том числе и канонической жанровой системы. Оно влечет за собой также опрозрачивание границ между традиционно-каноничным и новаторски-экспериментальным, их зеркальную обратимость, результирующую в симбиоз археологизма и авангардной футуристичности. Как следствие, в одном и том же тексте могут соприсутствовать ориентация на определенную каноническую форму, актуализация архаической «памяти» протожанра (на стадии мифа и/или ритуала) и индивидуально-авторский мифологизаторский эксперимент, при.
10 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 307.
11 Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 2. С. 59. котором жанровая перспектива оказывается подчиненной новациям в области эйдологии, образности и языка. В таких случаях бывает очень трудно провести четкую границу между жанровыми и нежанровыми аспектами мифопоэтики. И подобное объемлет едва ли не большую часть литературного материала «серебряного века», так или иначе связанного с мифологизацией. В связи с этим мы будем, за редким исключением, ограничиваться обозначением в основном только тех литературных фактов, в которых ориентация на мифологизм более или менее явственно у автора сопрягается с рефлексией по поводу жанровой формы.
Вторая — и не менее важная — проблема связана с дискуссионностью понятий миф и мифологема как элементов поэтики художественного текста. В пределах данного исследования мы считаем нужным лишь оговорить, что эти и родственные им термины (мифологизация, мифопоэтика и т. п.) будут употребляться в основном как обозначение определенных стратегий (и их последствий) обнажения глубинных повествовательных структур прозаического текста, восходящих к архаико-традиционным формам. В этом смысле упомянутые термины будут служить аппаратом скорее не собственно мифопоэтического (на наш взгляд, излишне спекулятивного и зачастую плохо верифицируемого), а по большей части семантического и историко-типологического метода анализа, достаточно удачно применявшегося, в.
1 9 частности, в трудах В. Н. Топорова и ранних работах И. П. Смирнова. Изучение в таком ключе конкретного литературного произведения должно выявить уходящую в прошлое последовательность семантических напластований, обусловленных «памятью» жанра и отдельных реликтов архаичных жанровых форм, выживших или актуализированных в условиях новейшей литературы. «По мере художественной эволюции древнейшие жанры словесного творчества.
12 В первую очередь см.: Топоров В. Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX века: Роман А. Л. Кондратьева «На берегах Ярыни». Trento, 1990; Топоров В. Н. Миф, ритуал, символ, образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995; Смирнов И. П. Место мифопоэтического подхода к литературному произведению среди других толкований текста // Миф — фольклор — литература. М., 1978; Смирнов И. П. Диахронические трансформации литературных жанров и мотивов (Wiener Slavvistischer Almanach, Sbd.4). Wien, 1981. претерпевают разного рода сложные превращения. Однако при этом они не умирают, но становятся подпочвой позднейшей литературы. Цель историко-типологического подхода к произведениям, созданным в условиях господства авторских, персональных традиций, заключена в том, чтобы реконструировать праформу, праобраз исследуемого художественного текста и вместе с тем.
1 Я раскрыть трансформации, которым эта праформа подверглась" .
Историко-типологический метод анализа, восходящий к компаративистской школе А. Н. Веселовского, представляется нам одним из наиболее адекватных поставленной в этой работе цели, поскольку он, во-первых, наряду с концепциями «внутренней формы» А. А. Потебни, отозвался в повороте к «праосновам» художественного мышления внутри собственно модернистской эстетики, и, во-вторых, предопределил пафос внимания к преемственным трансформациям архаических (и шире — изначальных, любых порождающих) моделей повествования у представителей самых разных, зачастую конфликтующих между собой, научных направлений — от «марристов» И.Г. Франк-Каменецкого и О. М. Фрейденберг до В. Я. Проппа, М. М. Бахтина и московско-тартусских структуралистов. Апологет «яфетической» теории так формулирует предпосылку подобного подхода: «Преемственность унаследованных форм и восприятий, сохраняющих то или иное значение в последующей стадии по преодолении свойственного им актуального значения в предшествующей, свидетельствует о непрерывности развития человеческой мысли, уничтожая резкие грани между пройденными ею отдельными этапами"14.
При этом, что особенно существенно, проистекающее отсюда внимание к эволюции архетипов и «изначальных формул» на уровне теории логически подразумевает повышенное внимание к динамике жанра как ценностно-художественной целостности, наиболее последовательно консервирующей.
13 Смирнов И. П. Диахронические трансформации литературных жанров и мотивов. С. 59.
14 Франк-Каменег/кий И. Г. Первобытное мышление в свете яфетической теории и философии // Язык и литература. Вып. 3. Л., 1929. С. 108. предшествующий опыт. Такой теоретический подход противостоит формалистскому взгляду на литературную эволюцию как историю «разрывов» и «зияний», распада старых канонических форм и рождения из их осколков самостоятельных эстетических систем. И по логике вещей следовало бы ожидать особого интереса к этим жанровым аспектам проблемы со стороны историков русской словесности именно рубежа XIX—XX вв.еков, учитывая сложную диалектику самоопределения литературы эпохи — на стыке классики и постканонического, сугубо экспериментального искусства.
Однако до сих пор дело по большей части обстоит совершенно иначе.
Мифопоэтическая проблематика русской литературы «серебряного века» начала привлекать к себе самое пристальное внимание исследователей на волне возродившегося интереса к отечественному модернизму и теории мифа с конца 1960;х. 1970;1980;е годы заложили основу концептуальных подходов к этому материалу — в первую очередь в исследовании различных аспектов неомифологизма. Упомянутой выше статье З. Г. Минц предшествовали и сопутствовали программные работы Д. Е. Максимова и А.Л. Григорьева15. Заметным импульсом к развитию мифопоэтических аспектов младосимволистского феномена «жизнетворчества» послужила статья А. В. Лаврова «Мифотворчество аргонавтов"16. Важнейшей вехой на этом пути стало формирование (во многом благодаря методологии К. Тарановского) целой школы (из числа по преимуществу исследователей московско-тартусского структуралистского круга и их западных коллег) контекстуально-подтекстуального анализа центонной поэтики русского постсимволизма. Ее представители развернули свои концептуальные предпосылки в статье-«манифесте» «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная.
15 Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока // Блоковский сборник: труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972; Максимов Д. Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока (Предварительные замечания) // Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III. Ученые записки Тартуского университета. Вып. 459. Тарту, 1979; Григорьев А. Л. Мифы в поэзии и прозе русских символистов //Литература и мифология. Л., 1975. 1 Миф — фольклор — литература. Л., 1978. парадигма" и ряде иных работ. Ими были описаны мифопоэтические функции цитатного модернистского материала, благодаря которым «переход от одной единицы к другой (от строки к строке, от фразы к фразе, от слова к слову) соответствует переходу от одного источника к другому"18, что обычно влекло за собой переключение исследовательского взгляда с историко-типологического метода изучения произведения на выявление и анализ его интертекстуального пространства.
Достижения представителей этого, структурно-семантического, филологического направления в изучении русской литературы рубежа веков трудно переоценить. Для нас существенно, что они в сущности сформировали базу научного анализа литературных мифологем как семантических пучков, обеспечивающих включение подтекста и контекста в созидание системы смыслового целого произведения, формирующих «особый способ поэтизации мира через наложение на густой, нерасчлененный поток жизненных событий отстоявшихся, получивших образное, пластическое выражение и несущих закрепленные смыслы сюжетов мировой культуры"19. Рожденное таким подходом значение термина мифологема как устойчивой модели, подразумевающей четко дешифруемые культурные коды, тоже включается в понятийный аппарат нашей работы.
Предварительные итоги наиболее активному этапу освоения мифопоэтической проблематики мировой славистикой были подведены публикацией А. Коджаком, К. Поморской и С. Руди в 1985;м в США сборника.
17 Левин Ю. И., СегалД.М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. Amsterdam, 1974. № 7/8- Мейлах М. Б., Топоров В. Н. Ахматова и Данте // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1972. Vol. XVРонен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril Taranovsky. The Hague — Paris, 1973; Тименчик P.Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Ахматова и Кузмин//Russian Literature. 1978. VI/3- Taranovsky К. Essays on Mandel’stam. Cambridge, Mass. — London, 1976 и др.
18 Тименчик Р. Д., Топоров B.H., Цивьян Т. В. Ахматова и Кузмин. С. 246.
19 Приходько И. С. Ответ оппоненту <�М.Л. Гаспарову> // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания (Воронеж). Выпуск 8. 1997. С. 13. статей, посвященному мифу в литературе20, гамбургским симпозиумом «Mythos in der Slawischen Moderne» 1986 года и выпуском в свет его материалов21.
В литературоведении последних десятилетий наиболее последовательно и системно вопросы мифопоэтики русской литературы рубежа веков разрабатывались А. Ханзеном-Леве. Германский исследователь довел до предела концептуализацию этого понятия, сочетав в нем систему мотивного анализа текста и функцию тотальной метаописательной структуры, которая характеризует общие стратегии освоения мира языком модернистской культуры и замещает собой традиционную «поколенческую» схему «смены вех» в русском символизме, рассматривая как «мифопоэзию» всю целокупную эстетику развитого русского модернизма22.
И все же при самом напряженном интересе к мифопоэтической проблематике исследователи практически не уделяли и не уделяют внимания ее системным связям с оюанровой эволюцией русской литературы рубежной эпохи — притом, что подобная связь, как кажется, предопределена самой природой художественного материала «серебряного века» и общим вектором развития филологической науки XX столетия. Это заставляет констатировать недостаточную степень изученности исследуемой нами темы в отечественном и зарубежном литературоведении, равно как и обусловливает актуальность предпринятого в этой работе исследования.
Методологической базой диссертации является сочетание историко-типологического (в широком смысле термина: традиция А. Н. Веселовского, различные аспекты жанровой теории Б. А. Грифцова и М. М. Бахтина, В. Н. Топоров, И.П.Смирнов), структурно-семантического (К.Тарановский, О. Ронен, Р. Д. Тименчик, Т. В. Цивьян, Д. М. Сегал и др.), мотивного (А.Ханзен-Леве) и классического структурального (З.Г.Минц, Ю.М.Лотман) методов.
20 Myth in Literature. Ed. A. Kodjak, K. Pomorska, S. Rudy. Columbus, 1985.
21 Mythos in der Slawischen Moderne (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 20). Wien, 1987.
22 См.: Hansen-Love A.A. Zur Mythopoetik des russischen Symbolismus // Mythos in der Slawischen Moderne (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 20). Wien, 1987; Ханзен-Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999; Ханзен-Леве А. Мифопоэтический символизм. СПб., 2003. анализа текста с междисциплинарным (О.Матич, Э. Клус, Б.Дж.Розенталь, Л. Силард и др.) и традиционным историко-литературным (Д.Е.Максимов, Л. К. Долгополов, A.JI. Григорьев, С. С. Аверинцев, А. В. Лавров, В. А. Келдыш, Н. А. Богомолов, A.M. Грачева, Л. А. Колобаева, Д. М. Магомедова, Н. Ю. Грякалова, И. С. Приходько, М. Цимборска-Лебода, Т. Пахмусс, П. Барта и др.) подходами к осмыслению феномена модернистского «мифотворчества» и поэтики художественного произведения, а также отечественной религиозно-философской герменевтикой (А.Ф.Лосев) и теорией мифологических архетипов в новой литературе (школа Е.М.Мелетинского).
Основным материалом исследования послужили художественные, литературно-критические и теоретико-эстетические тексты Д. Мережковского, В. Соловьева, А. Белого, Вяч. Иванова, И. Анненского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, А. Кондратьева, А. Ремизова, В. Розанова, М. Волошина, В. Брюсова, М. Кузмина, А. Чехова, С. Сергеева-Ценского, И. Шмелева, А. Амфитеатрова и ряда иных писателей конца XIX — начала XX столетия.
В перспективе проблематизации жанрового аспекта мифопоэтики сразу укажем, что такой очевидный сюжет, как «литература рубежа XIX — XX веков и фольклор», при всей его важности, объемности и близости — в основном, правда, опосредованной — к нашей теме, предметом пристального обозрения не становится. Это совершенно самостоятельная проблема, требующая применения особой филологической методологии, и в частности — смещения акцентов с историко-типологических и поэтологических вопросов на проблемы источников художественного текста.
Беспрецедентно большое значение мифологизма/неомифологизма для литературы порубежного периода, прошитость им самых разных литературных страт, очень высокая продуктивность соответствующих моделей, чрезвычайно широкий круг их художественных функций и порождаемых ими текстов заставляют в этой работе сосредоточиться на обобщенной обрисовке некоторых основных векторов жанровой эволюции, обусловленной мифопоэтическим, что влечет за собой отказ от каталогизации и систематизации самых разных и более чем многочисленных вариантов мифорефлексов в жанровой поэтике литературы. Этим, думается, оправдано и употребление в заглавии данной работы понятийного сочетания «мифопоэтические аспекты», уводящего от обязывающей и недостижимой всеохватности общего термина «мифопоэтика».
Наиболее важные тенденции, связанные с нашей темой, будут продемонстрированы локально, на примере ограниченного набора репрезентативных текстов и литературных явлений. Возникает необходимость во взгляде на материал соединить относительно широкую оптику охвата общих процессов в литературе со вниманием к деталям мифопоэтизации текста через подробный анализ отдельных литературных образцов. По большей части в качестве таких образцов будут выступать сочинения Д. С. Мережковского. Его творчество представляется нам в этом смысле чрезвычайно показательным, поскольку, будучи одним из «отцов-основателей» русского модернизма, он в своей творческой эволюции наиболее последовательно и неуклонно воплощал в жизнь однажды выбранные для себя в качестве путеводных принципы символистской эстетики. В целом они никогда не подвергались Мережковским ревизии, и даже в 1920;1930;е годы, когда те из символистов, кто перешагнул революционный порог, как правило, переводили свою художественную систему в авангардистские, неотрадиционалистские и прочие новые для себя стилистические ряды, писатель оставался верен прежней литературной системе. Разумеется, его эмигрантские сочинения, в которых вымысел и беллетризация постепенно вытесняются историософской эссеистичностью, в жанровом отношении отличаются от дореволюционных. Но особенность поздних произведений Мережковского как раз и заключается в том, что в них наиболее наглядно проявляется тот потенциал поэтики, который изначально присутствовал — порой в относительно свернутом виде — в его творчестве эпохи расцвета символизма. В эмиграции эти черты письма выходят наружу с особой яркостью, символистский код здесь выговаривает себя с очевидностью формулы. И потому есть все основания утверждать, что типологически наследие Мережковского-эмигранта остается фактом культуры «начала века», реализующим ее программные установки в новых исторических условиях. Творчество писателя всегда отличалось на все лады развенчиваемыми критикой схематизмом и педалированностью приема в ущерб суггестивности и многомерности поэтического языка. Но то, что читатели и критики неизбежно воспринимают как художественный порок, для исследователя в данном случае становится материалом особенно благодатным, поскольку подобные «недостатки» способствуют наглядности и стерильности текстопорождающего механизма. В поздних произведениях Мережковского степень такой наглядности и стерильности значительно возрастает. Этим и обусловлено пристальное внимание в диссертации к сочинениям писателя эмигрантских лет. Равно как и к жанрам историософской прозы, связанным прежде всего с именем этого классика «серебряного века», но в то же время раскрывающим важнейшие стороны общелитературной эволюции под влиянием мифопоэтических факторов.
Подобный подход предопределяет и структуру работы — наличие в ней двух разделов: «Мифопоэтические импульсы и общая динамика художественных форм в русской литературе рубежа XIX — XX в.» и «Индивидуальная модель мифопоэтики: случай Д.С.Мережковского». Каждый из разделов состоит, в свою очередь, из трех глав: «Мифопоэтика и прозаические формы», «Мифопоэтика и лирические формы», «Мифопоэтика и драма» (раздел I) — «Жанровый фон и концептуальный аппарат историософского творчества», «Историософская критика», «Историософская биографика» (раздел II). Некоторые главы дополнительно подразделяются на параграфы. Отдельно отметим, что такого подразделения, в частности, лишена последняя пространная глава раздела II, поскольку она строится на детальном анализе репрезентативных сочинений Д. С. Мережковского и их контекста, что в общем обусловливает ее роль как целостной развернутой иллюстрации ряда важных теоретических положений диссертационного исследования. Основной корпус работы обрамлен «Введением», «Заключением» и «Списком использованных источников».
Наконец, стоит оговорить, что в работе сознательно не рассматриваются авангардные — и, шире, постсимволистские — явления мифопоэтики (за исключением некоторых показательных и концептуально для нас важных примеров более или менее пограничного характера). Во-первых, окончательно развернув свой потенциал по большей части уже в 1920;е годы, системно-эстетически (в отличие от поздних произведений того же Д.С.Мережковского) они принадлежат скорее следующему этапу развития литературы, а во-вторыхоказываются гораздо более проблематичными с точки зрения анализа именно жанрового аспекта художественной фактуры и, наконец, по причинам, перечисленным выше, нуждаются в отдельном аналитическом исследовании.
Основная цель работы состоит в том, чтобы выявить и научно описать внутреннюю взаимосвязь между мифопоэтизацией текста и наиболее существенными процессами эволюции различных жанровых форм в русской литературе конца XIX — начала XX в.
Главные задачи исследования заключаются в обнаружении тех аспектов художественной мифологизации русской литературы, которые оказали наибольшее влияние на перестройку ее жанровой системы в эпоху рубежа вековв анализе конкретных процессов мифопоэтического воздействия на основные художественные формы прозы, лирики и драмы, а таюке мифопоэтических стратегий отдельных писателей при рецепции предшествующей традиции, попытках возрождения архаики и экспериментальном преображении канонических жанровв раскрытии взаимозависимости между мифопоэтизацией литературного произведения и его важнейшими жанрообразующими признаками (строение сюжета, персонажные структуры, формы авторского присутствия и т. п.) — в выявлении религиозно-философского, социально-культурного и реально-биографического контекста мифопоэтических опытов литераторов — носителей модернистской идеи «жизнетворчества», наконец, в том, чтобы проследить судьбу отдельных новаторских жанров с большим мифогенным потенциалом (мистерия, мелопея, историософский роман и т. п.) и показать, как соотносятся общие закономерности жанровой трансформации под влиянием мифопоэтических импульсов с их индивидуальным преломлением в творчестве конкретного писателя.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые в русистском литературоведении раскрывается системная взаимосвязь между перестройкой жанровой системы в отечественной литературе на рубеже XIX — XX в. и глубинной мифопоэтизацией структуры текста. При этом описаны различные механизмы подобной мифопоэтизации, показаны способы инверсии архетипических протоформ в творчестве писателей-модернистов, проанализирован мифопоэтический пласт в реалистической прозе, исследованы пути скрытого воздействия чеховской поэтики на драматургию старших символистов, всесторонне изучен жанровый феномен историософской прозы на материале позднего творчества Д. С. Мережковского, который до сих пор не становился предметом столь пристального научного внимания ни в российской, ни в зарубежной филологии.
Теоретическая значимость работы предопределена тем, что в ней кризис канонической жанровой системы в литературе рубежа XIX — XX в. концептуально обусловлен увеличением мифопоэтической емкости художественного текстапоказано, как благодаря этому формируется новая систематика литературных форм, в которой традиционные элементы аристотелевско-гегельянской эстетики отчасти уступают место более общим семантическим оппозициям (дифференциации и синтеза) — продемонстрированы принципы обнажения архетипических схем в прозе при переходе от модернизма к авангардувыявлена сравнительно низкая степень актуализации генетического мифологического потенциала наиболее архаичных по происхождению жанров при сопутствующей опосредованной мифологизации иных строфических формобосновывается неразрешимость младосимволистской задачи по возрождению синкретических архаичных жанров (прежде всего — культовой мистерии) — дается классификация биографических жанров в литературе XX веканаходят разностороннее теоретическое осмысление историософская проза как особый мифопоэтический феномен и модели, реализующие принципы позднего модернистского жизнетворчества в ситуации господства утопико-тоталитарных идеологий (на материале творчества Д.С.Мережковского).
Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в построении академической истории русской литературы конца XIX — первой половины XX в., при выработке новых принципов научного подхода к исторической и теоретической поэтике, при разработке вузовских курсов по истории отечественной словесности данного периода и теории литературы, при комментировании текстов в научно-критических изданиях классиков русской литературы рубежа XIX — XX веков.
Результаты работы были апробированы при чтении лекционных курсов по истории русской литературы конца XIX — начала XX в. и литературы русского зарубежья на историко-филологическом факультете РГГУ (2005 — 2008 гг.), подготовке к изданию диссертантом в качестве соавтора и ответственного соредактора (наряду с В.А.Келдышем) академического коллективного труда «Поэтика русской литературы конца XIX — начала XX в. Динамика жанра: Общие вопросы. Проза» (М.: ИМЛИ РАН, в печати), а также в 49 научных публикациях, включая монографию «Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца XIX — начала XX в.» (М., «Наука». 2008), и докладах, прочитанных более чем на 20 международных научных конференциях, в том числе: «Вагнер и Россия». (Тюбинген, ГерманияМосква, 1999), «Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX вв.еков» (Петрозаводск, 2000), «К столетию Санкт-Петербургских религиознофилософских собраний 1901;1903 годов» (Санкт-Петербург, 2001), «Творчество Пушкина в мировом культурном контексте» (Псков, 2003), «Художественный мир И. С. Шмелева и традиции славянских литератур» (Алушта, Украина, 2003), «Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя» (София, Болгария, 2004), «Век после Чехова» (Стамбул, Турция, 2004), «Наследие В. В. Розанова и современность» (Москва, 2006), «Перспективы славистики» (Регенсбург, Германия, 2006), «Брюсовские чтения — 2006» (Москва, 2006), «Поэт — мыслитель — ученый. К 140-летию со дня рождения Вячеслава Иванова» (Москва, 2006), «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы» (Гранада, Испания, 2007), «Творческое наследие М. А. Волошина: проблемы изучения и интерпретации. К 130-летию поэта» (Москва, 2007), «Европа в России» (Хельсинки, Финляндия, 2007), «Россия и иностранные модели», (Лилль, Франция, 2007), «Мультилингвизм и генезис текста: лингво-культурный аспект» (Москва, 2007), «Первые Международные Дживелеговские чтения» (Ереван, Армения, 2008), «Смена взглядов. Перспективы славянского модерна для международного литературоведческого диалога» (Ольденбург, Германия, 2008).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Итак, при всей важности той роли, какую сыграла мифопоэтика в художественном преображении русской литературы «серебряного века», в сфере именно жанровой эволюции ее новаторское воздействие оказалось более или менее локальным.
В области эпики оно предопределило актуализацию архетипических схем контраверсы космоса/хаоса, что в результате привело к снижению динамичности прозаических форм на уровне сюжетной синтагматики, но расширило парадигматическую объемность текста, причем в творчестве не только символистов, но и неореалистов (И.Шмелев, С. Сергеев-Ценский и др.). Однако модернистская мифопоэтизация, как правило, подразумевала при этом еще и серьезную семантическую корректировку исходных архетипических моделей.
В свое время происходящий на рубеже веков уникальный исторический слом, вызванный кризисом доверия к цельности человека и материальной стороне мира, призванной воплощать бытийственные ценности духа, Бердяев связал с двумя разнонаправленными линиями исхода из лона классической эстетики. Оба они — добавим — подразумевали мифопоэтизацию художественной формы как актуальную задачу.
По первому пути двинулись те, кто искал синтеза через «пассеизм», теургию, «проповедь соборности», «обращенную назад», которая потому оказывается «не имманентной нашему времени», а ему «совершенно трансцендентной» (прежде всего Вяч. Иванов)1. В жанровой перспективе пределом эстетических чаяний такого рода должна была стать возрожденная мистерия. Мифологизация текста здесь в общем была обречена на роль инструмента в утопико-археологическом проекте по реконструкции мистериальной формы в новых условиях. И хотя на этом пути русская литература обогатилась немалым числом замечательных сочинений,.
1 Бердяев Н. Кризис искусства. С. 5. эксперимент в целом не удался: мистерия не состоялась, а сама эта задача свидетельствовала не только о кризисе классического канона, но и о глубокой от него зависимости: в исканиях синтеза «многое сохраняется от старого и вечного искусства <.> В стремлении к синтезу ничто не разлагается, космический ветер не сносит художников творцов и художественные творения с тех вековечных мест, которые им уготовлены в органическом строе земли"2.
При этом понятийная размытость в трактовках символистами жанра мистерии непосредственно проистекала из модернистской теории дионисийского мифологизма. Неудачам младосимволистских попыток создать полноценную синкретическую культовую мистерию сопутствовала аморфность в интерпретациях этого понятия.
Опыт «разложения», «распада», «распыления» «всякого органического синтеза и старого природного мира"3, открывающий путь к преодолению фигуративного искусства устойчивых материальных форм, был отражен второй эстетической тенденцией, по Бердяеву, — тенденцией аналитической. И адекватным языком, воплощающим этот опыт в художественной эпике, становится вычленение архетипической схемы повествования, ее разложение и выворачивание наизнанку — прежде всего в прозе А. Белого и близких ему по эстетическому мышлению художников. Именно на этом рубеже — между синтетизмом младосимволизма и аналитизмом авангарда — и в таком изводе — с инверсией архаичной модели — мифологизация воздействовала на художественную систему и структуру прозаических жанров наиболее глубоко.
Последовательно мифопоэтизировались в литературе эпохи и неканонические формы, ориентированные на синтез словесной и музыкальной фактур — в силу структурной одномерности последних мифу. В то же время подобные прозаические сочинения по архитектонике своего внутреннего смыслового пространства оказались во многом тождественны модернистским лирическим циклам и циклическим новообразованиям, где мифопоэтический.
2 Там же. С.6−7.
3 Там же. С. 7. принцип построения выдерживался наиболее последовательно (Бальмонт, Вяч. Иванов и др.). А тем, в свою очередь, по глубинным законам организации художественной ткани оказываются родственны «неомифологические» лирические драмы, которые рождались вне теургических установок на созидание мистериальных сочинений.
В целом в драматургии глубже всего потенциал мифологического обновления жанра проходил испытание на прочность в неявной полемике между носителями двух антагонистичных моделей восприятия трагедии и мифа: Вяч. Ивановым (синтетизм) и И. Анненским (аналитизм). Что же до опытов старших символистов в этом литературном роде, то они обнаруживают серьезную зависимость от элементов поэтики Чехова, которая, как ни парадоксально, служит инструментом подспудной дискредитации модернистских мифологем и идеологий.
При этом характерно, что стилизаторские модернистские формы (мифологические романы и рассказы А. Кондратьева) и традиционные канонические жанры архаического происхождения (элегии В. Брюсова, Ю. Балтрушайтиса и др.) не проявляют особой склонности к глубинной мифопоэтизации текста — в отличие от экспериментальных образований, ориентированных на преодоление границ чистой «литературности» («Посолонь» Ремизова, мелопея «Человек» Вяч. Иванова и др.).
Наконец, в общем мифопоэтика, не посягая на внешние границы между разными типами письма, делает прозрачными и проницаемыми межжанровые и межродовые перегородки, выстраивая принципиально новую систематику литературных форм. В ее основе, как показывает драматичная история попыток русских модернистов воплотить в трагедии мистерию и «опыт современной души», будут лежать уже не столько аристотелевско-гегельянские категории классической эстетики, сколько гораздо более общие, интегральные семиотические оппозиции, в частности — дифференгщации и синтеза, которые, в свою очередь, зеркально соотносятся с архетипической антитезой косм оса/хаоса.
Так смыкается смысловой круг мифопоэтики жанра в русской литературе рубежа конца XIX — начала XX века.
В едва ли не наиболее чистом виде художественный потенциал антитетичности литературной мифопоэтики проявился в историософском творчестве Д. С. Мережковского — писателя, последовательно сохранявшего верность модернистским культурным моделям на протяжении всего жизненного пути. В том числе в эмиграции, где он создавал тексты, в которых компилировался и трансформировался мифопоэтический материал рубежа веков. В них этот материал пытался до конца развернуть свои возможности, не всегда полностью задействованные в литературе 1900;1910;х годов. У позднего Мережковского базовые глубинные смысловые оппозиции обнажались до голых, рациональных и минимально осложненных схем. Те, в свою очередь, обслуживали потребность модернистского сознания в утопии и формировали тип литературного письма, в котором установка на актуализацию архетипических смыслов сопрягалась с попытками снять противоречие между тезисом и антитезисом в синтезе грядущего откровения «третьего завета». Такое положение вещей привело к двум разнонаправленным векторам эволюции прозаической формы. Первый — ее максимальная мифопоэтизация, архаизация глубинных стуктур текста и их подчинение метажанровой стуктуре мистерии, способной продуцировать бесконеное число мифологических зеркал героя («Наполеон», отчасти профетическое письмо трилогии «Тайна Трех»). Второй — постепенное разрушение мифопоэтической многомерности повествовательного полотна, его редукция к эссеистско-публицистическим формам, к прямому идеологическому высказыванию («Данте» и поздние биографии). Но в обоих случаях поисходила диффузия разных жанровых образований, их взаимопроникновение и постепенная дискредитация устойчивых границ между каноничными формами. Жанр оказывался фикцией.
Разные сочинения тяготели к тому, чтобы стать «книгой вообще» (М.Бланшо), стремящейся вобрать в себя на разных взаимосоотнесенных уровнях полижанровые пласты (житие, трагедия, роман, драма, мистерия, эссе, проповедь и т. д.), контрапункт цитат и культурных традиций: «Важна лишь книга сама по себе, вне зависимости от жанров и прочих подразделений — прозы, поэзии <.>, — которым она отказывается подчиняться и за которым не признает права определять себе место и форму. Книга больше не принадлежит жанру"4.
Книги позднего Мережковского «больше не принадлежат жанру», но при этом цементируется их макроциклическое единство. Они совокупно образуют единый профетико-историсофский хилиастский «текст», в пределах которого произведения как бы разных жанров взаимокомментируются и отсылают друг к другу. В сущности это целостный мифологический корпус, индивидуальное подобие общесимволистского «гипертекста» рубежа XIX—XX вв.еков, где всякое литературное высказывание, как отдельный мифологический мотив, в свернутом виде несет в себе память о целокупности всего мифа.
Наконец, мифопоэтика в судьбе разных жанров становилась инструментом литературной полемики (Вяч. Иванов, И. Анненский, М. Волошин, М. Кузмин, символистский взгляд на А. Чехова) и даже политики (Д. Мережковский и Б. Муссолини). Но, осваивая пространство за пределами художественного текста, пространство «жизни», она далеко не всегда сохраняла в себе способность различать границу между реальностью и культурным знаком. И жизнетворчество по мифогенным лекалам заводило порой далеко в утопию и слишком близко к химерам тоталитарной эпохи.
4 Blanchot М. Le livre a venir. Paris. 1975. P. 5.
Список литературы
- Брюсов, В.Я. Письма к А.И. Малеину // ОР РНБ. Ф.263, ед.хр. 98-
- Волошин, М.А. Подготовительные материалы к венку сонетов «Lunaria» // РО ИР ЛИ. Ф.562, оп.1, ед.хр. 7-
- Леман, Б.А. Письма к М.А.Волошину//РО ИР ЛИ. Ф. 562, оп. 3, ед.хр. 777-
- Мережковский, Д.С. Записные книжки 1891 г. // ОР РНБ. Ф.150, ед. хр. 279-
- Мережковский, Д.С. Конспекты и выписки 1891 г. // РО ИР ЛИ. Ф.177, оп.1, ед. хр. 208-
- Мережковский, Д.С. Письма к М.О. Гершензону // ОР РГБ. Ф.746, карт. 37, ед. хр. 31-
- Розанов, В.В. Черновые наброски 1902 1910 гг. // ОР РГБ. Ф.249, карт.5, ед. хр.14-
- Ясинский, В., прот. Письма к Д. С. Мережковскому // РО ИР ЛИ. Ф.177, оп.1, ед. хр. 192.
- Авксентьев, НД. Сверхчеловек. Культурно-этический идеал Ницше. / Н.Д.
- Авксентьев. СПб.: Север, 1906- Ю. Аврелий (Брюсов, В.Я.). Вехи. III. Чорт и хам / В. Я. Брюсов // Весы. — М., 1906, №¾.-С. 75−78- 11. Адамович, Г. «Жанна Д’Арк» Д. С. Мережковского / Г. Адамович // Последние новости. Париж, 1938, № 6464, 8 декабря. — С. З-
- Иллюстрированная Россия. Париж, 1929, № 28. — С.8- 13. Адамович, Г. Одиночество и свобода / Г. Адамович. — М.: Республика, 1996- 14. Алданов, М. Д. Мережковский. «Тайна Запада» / М. Алданов // Современные Записки. — Париж, 1931, №XLVI. — С. 489 — 491-
- Аммиан Марцеллин. Римская история. Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни / Аммиан Марцеллин. М.: ACT- Ладомир, 2005-
- Амфитеатров, А. Зверь из бездны: В 4 кн., 2 т. / А. Амфитеатров. — М.: Алгоритм, 1996-
- Андреев, JJ.H. Собр. соч.: В 6 т. / Л. Н. Андреев. М.: Худож. лит., 1990 -1996-
- Аннеиский, И. Драматические произведения. / И. Анненский. М.: Лабиринт, 2000−2d.Анненский, И. История античной драмы / И. Анненский. СПб.: Гиперион, 2003−2.Анненский, И. Книги отражений / И. Анненский. М.: Наука- сер. «Лит. памятники», 1979-
- Анненский, И.Ф. «Дафнис и Хлоя» Лонга в переводе Д.С. Мережковского / И. Ф. Анненский // Филологическое обозрение. СПб., 1897, Т. 12, 1. Отд. 2. -С. 34−39.
- Анненский, И.Ф. Античный миф в современной французской поэзии / И. Ф. Анненский // Гермес. СПб., 908, № 7. — С. 177 — 185- № 8. — С. 209 — 213- № 10. — С. 236 — 240- № 10. — С. 270 — 278-
- Анненский, И. Ф. Дионис в легенде и культе / И. Ф. Анненский // Вакханки: трагедия Эврипида. Стихотв. пер. с соблюдением метров подлинника, в сопровождении греческого текста <.> И. Ф. Анненского. СПб.: Имп. Академия наук, 1894. — С. LXVII — С-
- Анненский, И.Ф. Таврическая жрица у Еврипида, Руччелаи и Гете / И. Ф. Анненский // Театр Еврипида. Т. III. М.: б.и., 1921. С. 154 — 165-
- Анненский, И.Ф. Художественная обработка мифа об Оресте, убийце матери, в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида / И. Ф. Анненский // Журнал министерства народного просвещения- Отд. класс, фил. СПб., 1900, № 4 (июль — август). — С. 1 — 62-
- Антон Крайний (З.Н. Гиппиус). Еще о пошлости / З. Н. Гиппиус // Новый путь. СПб., 1904, № 4. — С. 238 -243-
- Антон Крайний (З.Н. Гиппиус). Что и как. 1 Вишневые сады. II Триптих / З. Н. Гиппиус // Новый путь. СПб., 1904, № 5. — С.251 — 267-
- Арцьгбашев, М.П. Санин / М. П. Арцыбашев. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1908.
- Базаров, В. Христиане Третьего Завета и строители Башни Вавилонской / В. Базаров // Базаров В. На два фронта. СПб.: Прометей. 1910. — С. 35 — 75-
- Балтрушайтис, Ю. Земные ступени: Элегии, песни, поэмы / Ю. Балтрушайтис.-М.: Скорпион, 1911-
- Ъ2.Бальмонт, К Полное собрание стихов. Т. 1 10. / К. Бальмонт. — М.: Скорпион, 1908- 1913-
- Ъ А. Белый, А. Вишневый сад / Андрей Белый // Весы. М., 1904, № 2. — С. 45 -48-
- ЪЪ.Белый, А. Воспоминания о Блоке / Андрей Белый. -М.: Республика, 1995-
- Белый, А. Луг зеленый: Книга статей / Андрей Белый. М.: Альциона, 1910-
- Белый, А. Мастерство Гоголя / Андрей Белый. М.: Изд-во Моск. ассоц. лингвистов-практиков, 1996-
- ЪЪ.Белый, А. Москва / Андрей Белый. М.: Сов. Россия, 1989-
- Белый, А. Начало века / Андрей Белый. -М.: Худож. лит., 1990.
- Белый, А. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Андрей Белый. -М.: Автограф, 1997−41 .Белый, А. Пасть ночи: Отрывок из задуманной мистерии / Андрей Белый // Золотое руно. М., 1906, № 1.-С. 62−71.
- Белый, А. Петербург / Андрей Белый. М.: Наука- сер. «Лит. памятники», 1981-
- Белый, А. Пришедший / Андрей Белый //Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903. — С. 2 — 25-
- Белый, А. Символизм: Книга статей / Андрей Белый. М.: Мусагет, 1910-
- Белый, А. Симфонии / Андрей Белый. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1991-
- Аб.Белый, А. Собр. соч. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака / Андрей Белый. М.: Республика, 1997-
- Белый, А. Собр. соч. Серебряный голубь. Рассказы / Андрей Белый. М.: Республика, 1995−48 .Бердяев, Н. Философия творчества, культуры, искусства: В 2 т. / Н. Бердяев. — М.: Искусство, 1994-
- Бердяев, Н. Кризис искусства / Н. Бердяев. М.: Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1918-
- Бердяев, Н. Мутные лики. Типы религиозной мысли в России / Н. Бердяев. -М.: Фило-пресс, 2004−51 .Бердяев, Н. О новом религиозном сознании / Н. Бердяев // Вопросы жизни. -СПб., 1905, № 9. С. 125 — 140-
- Бердяев, Н. Самопознание / Н. Бердяев. -М.: Лениздат, 1991−53 .Бицилли, П. Д. Мережковский. «Франциск Ассизский» / П. Бицилли // Русские записки. Париж, 1938. № 11. — С. 199 — 200-
- Блок, А.А. Собр. соч.: В 6 т. / А. А. Блок. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1980- 1983-
- Брашовский, А. «Три завета». Знакомство с Валерием Брюсовым / А. Браиловский // Новое русской слово. Нью-Йорк, 1949. 26 июня. — С.7-
- Брюсов, В.Я. О радости и о драме Д.С. Мережковского (Художественный театр 3 февраля 1916 г.) / В. Я. Брюсов // Утро России. М., 1916, № 35, 4 февраля. — С.6-
- Брюсов, В.Я. Собр. соч.: В 7 т. /В.Я. Брюсов. -М.: Худож. лит, 1973 1975−5%. Бугае в, Б. (А. Белый). На Перевале. III. Искусство и мистерия / Андрей Белый // Весы. М., 1906, № 9. — С. 45 — 48.
- Булгаков, С.Н. Владимир Соловьев и Анна Шмидт / С. Н. Булгаков // Булгаков С. Н. Тихие думы. -М.: Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1918-
- Булгаков, С. Купина Неопалимая / С. Булгаков. Париж: Б.и., 1927−6.Булгаков, С., прот. Избранные произведения / прот. Сергий Булгаков. — Киев: Богословское наследие, 1992-
- Волошин, М. Стихотворения и поэмы / Максимилиан Волошин. СПб.: Наука Библ. поэта: Большая сер., 1995-
- Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Советский писатель, 1990-
- Гете, И.-В. Прометей: Драматический отрывок / И.-В. Гете // Гете И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. -М.: Худож. лит., 1977-
- Гинзбург, Л.Я. Записи 1920−1930-х годов. Из неопубликованного / Л. Я. Гинзбург // Новый мир. М., 1992, № 6. — С. 144 — 186-
- Гиппиус, 3. Задумчивый странник (О Розанове) / 3. Гиппиус // Окно. -Париж, 1924, № 3. С. 290 — 302-
- Ю.Гиппиус, З. Н. Дмитрий Мережковский: Воспоминания / З. Н. Гиппиус // Мережковский Д. С. 14 декабря. Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 234 — 508-
- Гофман, М. Д.С.Мережковский. «Наполеон». T.l. / М. Гофман // Руль. -Берлин, 1929, № 2567, 8 мая. С. 4-
- Гумилев, Н.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 1 7. / Н.С. Гумилев- РАН, Ин-трус. лит. (Пушк. дом). М.: Воскресенье, 1998 — 2006- 1Ъ. Данте Алигъери. Малые произведения / Данте Алигьери. — СПб.: Азбука, 1996-
- А.Иванов, В. И. Дионис и прадионисийство / В. И. Иванов. — СПб.: Алетейя. —1994-
- Иванов, Вяч. О поэзии Иннокентия Анненского / Вячеслав Иванов // Аполлон. 1910. Январь! № 4. — С. 15 — 28-
- Иванов, Вяч. По звездам: Статьи и афоризмы / Вячеслав Иванов. СПб.: Оры, 1909-
- Иванов, Вяч. Религия Диониса. Ее происхождение и влияния / Вячеслав Иванов // Вопросы жизни. СПб., 1905. № 6. — С. 185 — 220- № 7. — С. 122 -148−81 .Иванов, Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия: В 2 кн. / Вячеслав Иванов. -СПб.: Акад. проект, 1995-
- Иванов Вяч. Человек / Приложение. Статьи и материалы. М.: Прогресс-Плеяда, 2006-
- Ильин, И.А. Творчество Мережковского / И. А. Ильин // Москва. М., 1990, № 8. — С.55 — 68-
- Каменский, А. Люди / Анатолий Каменский. СПб.: Прогресс, 1910-
- Книга о русских писателях последнего десятилетия: Критич. очерки / Под ред. М. Гофмана. СПб.- М.: Т-во М. О. Вольф, 1909-
- Кондратьев, А. Сны: романы, повесть, рассказы / Александр Кондратьев. -СПб.: Северо-Запад, 1993-
- Кузмин, М. Избранные произведения / М. Кузмин. Л.: Худож. лит., 1990- 91. Лосский, Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция /
- Н.О. Лосский. -М.: Республика, 1995- 92. Лукаш, И. Мережковский. По поводу его книги «Наполеон» / И. Лукаш //
- Возрождение. Париж, 1929. № 1395. — С. З- 9Ъ. Лундберг, Е. «Апокалипсис» В. В. Розанова / Е. Лундберг // Знамя труда. — 1918, № 1. — С. 7 — 8-
- Лундберг, Е.Г. Мережковский и его новое христианство / Е. Г. Лундберг. -СПб.: Тип. Г. А. Шумахера и Б. Д. Брукера, 1914-
- Малахиева-Мирович В. Новая пьеса Д. С. Мережковского / В. Малахиева-Мирович // Русская мысль. М- СПб., 1916, № 3. — С. 24 — 27-
- Мандельштам О.Э. Соч.: В 2-х т. / О. Э. Мандельштам. М.: Худож. лит., 1990−91 .Мандельштам, Ю. «Лица святых». Новая книга Д.С. Мережковского / Ю. Мандельштам // Возрождение. Париж, 1936, № 4053, 21 ноября. — С.9-
- Мережковский, Д. Как В. Розанов пил кровь / Д. Мережковский // Речь. -СПб., 1913, 20 ноября. С. 8-
- Мережковский, Д. О новом религиозном действии / Д. Мережковский // Вопросы жизни. СПб., 1905, № 10/11. — С. 115 — 126-
- Мереэ/сковский, Д. Старый вопрос по поводу нового таланта / Д. Мережковский // Северный вестник. СПб., 1888. № 11. — С. 77 — 99-
- Мережковский, Д. Суворин и Чехов / Д. Мережковский // Русское слово. М., 1914, № 17, 22 января. — С.7-
- Мережковский, Д.С. Блаженства / Д. С. Мережковский // Числа. — Париж, 1933, № 7/8. С. 56 — 76-
- Мережковский, Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет / Д. С. Мережковский. М.: Сов. писатель, 1991-
- Мережковский, Д.С. Грядущий Хам. Чехов и Горький / Д. С. Мережковский. СПб.: М. В. Пирожков, 2004-
- Мережковский, Д.С. Данте / Д. С. Мережковский. Томск: Водолей, 1997-
- Мережковский, Д.С. Две реформы / Д. С. Мережковский // Вестник Русского христианского движения. Париж, 1984, IV, № 143. — С. 67 — 86-
- Мережковский, Д.С. Драматургия / Д. С. Мережковский. Томск: Водолей, 2000-
- Мережковский, Д.С. Иисус Неизвестный / Д. С. Мережковский. М.: Республика, 1996-
- Мережковский, Д.С. Л.Толстой и Достоевский. Вечные спутники / Д. С. Мережковский. М.: Республика, 1995-
- Мережковский, Д.С. Лица святых от Иисуса к нам / Д. С. Мережковский. Берлин: Б.и., 1938-
- Мережковский, Д.С. Мудрость Пушкина / Д. С. Мережковский // Сегодня. — Рига, 1937, № 38, 7 февраля. С.5-
- Мережковский, Д.С. Наполеон / Д. С. Мережковский. М.: Республика, 1993-
- Мережковский, Д. С. Не мир, но меч. К будущей критике христианства /Д.С. Мережковский. СПб.: М. В. Пирожков, 1908-
- Мережковский, Д.С. Письма из Парижа в Вильнюс / Д.С. Мережковский- публ. А. Йокубайтиса // Вильнюс, 1990, № 1. С. 147 — 156-
- Мережковский, Д.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. / Д. С. Мережковский. -СПб.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1911−1913-
- Мережковский, Д.С. Поли. собр. соч.: В 24 т. / Д. С. Мережковский. -М.: Изд. т-ва Сытина, 1914 1915- .
- Мережковский, Д.С. Пушкин с нами / Д. С. Мережковский // Последние известия. Ревель, 1926, № 1341, 20 июня. — С. 3-
- Мережковский, Д.С. Собр. соч.: В 4 т. / Д. С. Мережковский. М.: Правда, 1990-
- Мережковский, Д.С. Тайна Трех / Д. С. Мережковский. М.: Республика, 1999-
- Мережковский, Д.С. Эстетика и критика: В 2 т. Т.1. / Д. С. Мережковский. -М.: Искусство- Харьков: СП «Фолио», 1994-
- Мережковский, Д.С.- Гиппиус З.Н. Данте. Борис Годунов: Киносценарии / Д.С. Мережковский- З. Н. Гиппиус. Нью-Йорк: Русское слово, 1990-
- Минский, Н.М. От Данте к Блоку / Н. М. Минский. Берлин: Мысль, 1922-
- Налимов, А. Ницшеанство у русских беллетристов / А. Налимов // Интересные романы, повести и рассказы лучших писателей. СПб., 1910, № 3. -С.94−99-
- Ницше, Ф. Сочинения: В 2 т. / Фридрих Ницше. М.: Мысль, 1990-
- Переписка П. Флоренского с Андреем Белым / П. Флоренский- Андрей Белый- публ. Е. В. Ивановой // Контекст -1991. М.: Наука- ИМЛИ АН СССР, 1991.-С. 25−79-
- Поплавский, Б. По поводу «Атлантиды Европы» / Борис Поплавский // Числа. — Париж, 1931, № 4. — С. 161 — 165.
- Ремизов, А. Крашеные рыла. Театр и книга / А. Ремизов. Берлин: Грани, 1922-
- Ремизов, А. Письмо в редакцию / А. Ремизов // Русские ведомости. — М., 1909, № 205, 6 сентября. С. 9-
- Ремизов, A.M. Собр. соч.: В Ют. / A.M. Ремизов- Ред. кол.: A.M. Грачева (главн. ред.) и др. М.: Русская книга, 2000 — 2003-
- Розанов, В.В. Апокалипсис нашего времени / В. В. Розанов. М.: Республика, 2000-
- Розанов, В. Напоминания по телефону / В. Розанов // Новое время. -СПб, 1913, 18 ноября. С. 8-
- Розанов, В.В. Религия и культура / В. В. Розанов — СПб.: П. Перцов, 1899-
- Розанов, В.В. Уединенное /В.В. Розанов. М.: Сов. писатель, 1990-
- Сабанеев, Л. Л. Воспоминания о Скрябине / Л. Л. Сабанеев. М.: Муз. сектор Гос. изд., 1925-
- Савинков, Б. Конь бледный. Конь вороной / Б. Савинков. М.: Терра, 2004-
- Салтыков, А. Апокалипсис Мережковского / А. Салтыков // Возрождение. Париж, 1930, № 1773, 10 апреля. — С. 3 — 4-
- Сергеев-Ценский, С. Лесная топь / С. Сергеев-Ценский // Лит.-худ. альманах изд-ва «Шиповник». Кн.1. СПб.: Шиповник, 1907. — С. 43 — 132-
- Соловьев, В. Идея сверхчеловека / Владимир Соловьев // Мир искусства. СПб., 1899, № 9. — С. 45 — 50-
- Соловьев, B.C. Судьба Пушкина // Пушкин в русской философской критике: конец XIX первая половина XX вв. М., 1990. С. 30 — 39-
- Соловьев, С.М. Богословские и критические очерки / С. М. Соловьев. -Томск: Водолей, 1996-
- Сологуб, Ф. Соб. соч.: В 6 т. / Федор Сологуб. М.: Интелвак, 2000 -2002-
- Сологуб, Ф. Театр одной воли / Федор Сологуб // Театр: Книга о новом театре. СПб.: Шиповник, 1908-
- Терапиано, Ю. Встречи / Ю. Терапиано. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953-
- Троцкий, Л. О Бальмонте / Лев Троцкий // Восточное обозрение. -Иркутск, 1901, № 61, 18 марта. С.4-
- Трубецкой, Е.Н. Философия Ницше / Е. Н. Трубецкой. М.: Тип. лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904-
- Устрялов, Н. О форме и содержании религиозной мысли (по поводу последнего доклада Вяч. И. Иванова в Религиозно-философском обществе) / Н. Устрялов // Утро России. М., 1916, 16 апреля. — С. 5-
- Федотов, Г. П. Святые Древней Руси / Г. П. Федотов. М.: Прогресс, 1990-
- Философов, Д. Серьезный разговор с нитчеанцами / Д. Философов // Мир искусства. СПб., 1903, № 7/8. — С. 36 — 40-
- Флоренский, П. У водоразделов мысли / П. Флоренский // Символ. -Париж, 1992. № 28. С. 150 — 221-
- Флоренский, П. О символе и бытии / П. Флоренский. СПб.: Амфора, 1997-
- Флоровский, Г., прот. Пути русского богословия / прот. Георгий Флоровский. Париж: YMCA, 1983-
- Цетлин, М. Д.С. Мережковский. Наполеон. Т.1 — Наполеон как человек- Т. 11 — Жизнь Наполеона. Белград, 1929 / М. Цетлин // Современные записки. Париж, 1929, №XL. — С. 539 — 543-
- Чехов, А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. / А. П. Чехов. М.: Наука, 1974- 1983-
- Чуковский, К.И. Сквозь человека (о романах Д.С.Мережковского) / К. И. Чуковский // Чуковский К. И. Собр. соч.: В 6 т. Т.6. М., 1969. — С. 35 -47.
- Шершеневич, В. Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910 1925 гг. / Вадим Шершеневич // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. — М.: Моск. рабочий, 1990-
- Шлосберг, Л. «Тайна Трех». Дм. Мережковский / JI. Шлосберг // Виленское утро. Вильно, 1927, № 1887, 15 января. — С. 3-
- Шмелев, КС. Собр. соч.: В 5 т. / И. С. Шмелев. М.: Русская книга, 1998-
- Эйхенбаум, Б. О мистериях Поля Клоделя / Б. Эйхенбаум // Северные записки. СПб., 1913, № 9. — С. 121 — 136-
- Эллис (Кобылинский, JI.JI.). Иммортели: сб. стих. / Эллис М.: Моск. гор. Арнольдо-Третьяковск. учил, глухо-немых, 1904, Вып. 1-
- Эллис (Кобылинский, JI.JJ.). Русские символисты / Эллис. — М.: Мусагет, 1910-
- Эллис (Кобылинский, JI.JI.). Учитель веры // Труды и дни. 1914. № 7. С. 63−78.
- Эрберг, К. (Сюннерберг, К.А.) Воспоминания / Константин Эрберг // Гречишкин С. С., Лавров А. В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб.: Скифия: ТАЛАС, 2004-
- Я.Л. Д. С. Мережковский. «Данте» // Русские записки. Париж, 1939, № 20/21.-С. 203−204.
- Dante. Tutte le opera / Dante Alighieri. Roma: Lingua classica, 1997.
- Heidegger, M. Holzwege / Heidegger. Frankfurt am Main.: RAD, 1950-
- Mann T. Briefe. 1889 -1936 / T. Mann. Frankfiirt am Main: RAD, 1961.
- Maurois A. Aspects de la biographie / A. Maurois. P.: Ed. Plus, 1925.
- Аверинцев, С.С. Плутарх и античная биография / С. С. Аверинцев. -М.: Наука, 1973-
- Аверинцев, С.С. Предварительные замечания / С. С. Аверинцев // Вячеслав Иванов. Человек. Приложение. Статьи и материалы. М.: Прогресс-Плеяда, 2006. С. 51 — 65-
- Асоян, А.А. «Почтите высочайшего поэта.»: Судьба «Божественной комедии» Данте в России / А. А. Асоян. М.: Книга, 1990-
- Борковская, Н.В. Поэтика символистского романа / Н. В. Барковская. -Екатеринбург: УрГПУ, 1996-
- Барсова, И. Мифологическая семантика вертикального пространства в оркестре Рихарда Вагнера / И. Барсова // Проблемы музыкального романтизма. Л.: ЛГИТМИК, 1987-
- Бахтин, М.М. Работы 1920-х годов / М. М. Бахтин. Киев: Next, 1994-
- Бахтин, М.М. Собр. соч.: В 7 т. / М. М. Бахтин Т.2. М.: Рус. словари: Языки славян, культуры, 2000-
- Бахтин, М.М. Эпос и роман / М. М. Бахтин. СПб.: Азбука, 2000-
- Бахтин, Н. Мережковский и история / Н. Бахтин // Бахтинология: исследования, переводы, публикации. — СПб.: Алетейя, 1995-
- Белъчевичен, С.П. Проблема взаимосвязи культуры и религии в философии Д.С.Мережковского / С. П. Бельчевичен. Тверь: ТвГУ, 1999-
- Бёрд, Р. Мелопея Вяч. Иванова и мистерия А. Н. Скрябина / Р. Бёрд // Вячеслав Иванов Человек. Приложение. Статьи и материалы. М.: Прогресс-Плеяда, 2006. С ЛОЗ — 114-
- Болдырева, Е.М. «Котик Летаев» Андрея Белого как модернистская версия традиционной автобиографии / Е. М. Болдырева // Русская классика: между архаикой и модерном. СПб.: Изд-во РГПУ, 2002. — С. 156 — 160-
- Борисова, JI.M. На изломах традиции: Драматургия русского символизма и символистская теория жизнетворчества / Л. М. Борисова. — Симферополь: Изд-во ТНУ, 2000-
- Бочаров, С.Г. Филологические сюжеты / С. Г. Бочаров. М.: Языки славянских культур, 2007-
- Брагинская, Н. Славянское возрождение античности / Нина Брагинская // Русская теория: 1920−1930-е годы: Материалы Десятых Лотмановских чтений. М.: Изд-во РГГУ, 2004. — С. 49 — 80-
- Бэлза, С. Брюсов и Данте / С. Бэлза // Данте и славяне. М.: Наука, 1965.-С. 60−97-
- Валевский, A.JI. Биографика как дисциплина гуманитарного цикла / А. Л. Валевский // Лица. Биографический альманах. 6. М.- СПб.: Феникс, 1995.-С. 32−69-
- Вахтелъ, Э. Замечания о взаимоотношении художественных и научных произведений Тынянова / Эндрю Вахтель // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига- М.: Б. и, 1996. С. 222 — 231-
- Венгеров, С.А. Мережковский Дмитрий Сергеевич / С. А. Венгеров // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Дополнительный том II. СПб.: Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон, 1906. — С. 172-
- Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. Л.: Гослитиздат, 1940-
- Вилькин, А. Отчего стрелялся Константин? / А. Вилькин // Современная драматургия: Лит.-худож. альманах. -М.: Искусство, 1988, № З.-С. 205−212-
- Винокур, Г. О. Биография и культура / Г. О. Винокур. М.: Мосполиграф, 1927-
- Гайденко, 77.77. Владимир Соловьев и философия Серебряного века / П. П. Гайденко. М.: Прогресс-Традиция, 2001-
- Герасимов, Ю.К. Театр Алексея Ремизова / Ю. К. Герасимов // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. / Отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1994. — С. 178 — 192-
- Гервер, JI.JI. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских символистов (первые десятилетия XX века) / JI.JI. Гервер. М.: Индрик, 2001-
- Грачева, A.M. Алексей Ремизов и древнерусская культура / A.M. Грачева. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000-
- Гречишкин, С. С., Лавров, А.В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный ангел» / С.С. Гречишкин- А. В. Лавров // НовоБасманная, 19. М.: Худож. лит., 1990. С. 530 — 589-
- Гречишкин, С.С., Лавров, А.В. Андрей Белый и Н. Ф. Федоров / С.С. Гречишкин- А. В. Лавров // Блоковский сборник. Вып.З. — Тарту: Изд-во Тарту с. ун-та, 1979. — С. 147 — 164-
- Грифцов, Б.А. Теория романа / Б. А. Грифцов. М.: Гос. акад. худож. наук: Мосполиграф, 1927-
- Данилевский, А.А. О дореволюционных «романах» A.M. Ремизова / А. А. Данилевский // Ремизов, А. Избранное. — JL: Лениздат, 1991. С. 596 -605-
- Додеро Коста M.-JJ. О книге Мережковского «Данте» / М. Л. Додеро Коста // Д. С. Мережковский: Мысль и слово. М.: Наследие, 1999. С. 82 — 88-
- Евзлин, М. Космогония и ритуал / Михаил Евзлин. М.: Радикс, 1993-
- Елисеев, А. История есть символ? / А. Елисеев // Гуманизм и история. СПб.: Престиж, 1994. С. 61 — 72-
- Задражилова, М. Символизированное пространство в исторической прозе Мережковского / М. Задражилова // Д. С. Мережковский: Мысль и слово. М., 1999.-С. 19−30-
- Захарова, Т. Семантика и символика дня в ранней лирике В. Брюсова / Т. Захарова // Брюсовские чтения 1983 года. Ереван: Советакан грох, 1985. -С. 48−53-
- Зелинский, Ф.Ф. Античная Ленора / Ф. Ф. Зелинский // Вестник Европы. Спб., 1906, № 3. — С. 167 — 193-
- Иванов, В.В., Топоров, В.Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных жанрах / Вяч. Вс. Иванов- В. Н. Топоров // Типологические исследования по фольклору. Сб. ст. памяти В. Я. Проппа (1895 1970). — М.: Наука, 1975. — С.54 — 81-
- Иванов, В.В. Профессор Коробкин и профессор Бугаев / Вяч. Вс. Иванов // Москва и «Москва» Андрея Белого. М.: Изд-во РГГУ, 1999. — С. 11−28-
- Иванова, Е.В. Чехов и символисты: непроясненные аспекты проблемы // Чеховиана: Чехов и «серебряный век». М.: Наука, 1996. — С. 25 — 38-
- Иваск Ю. Поэты русского модернизма и мистическое сектантство / Юрий Иваск // Russian Modernism. Culture and the avant-garde, 1900−1930 / Ed. by George Gibian and H.W. Tjalsma. Ithaka- L.: Cornell univ. press, 1976. -P. 110−138-
- Илъев, С.П. К вопросу о жанровой природе «Огненного Ангела» Валерия Брюсова / С. П. Ильев // Брюсов. Исследования и материалы. — Ставрополь: СтГПИ, 1986. С. 90 — 108-
- Илъев, С.П. Русский символистский роман. Аспекты поэтики / С. П. Ильев. Киев: Лыбидь, 1991−234., Исупов, КГ. Русская эстетика истории / К. Г. Исупов. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1992-
- Ищук-Фадеева Н. И. Новаторство драматургии Чехова / Н.И. Ищук-Фадеева. Тверь: ТГУ, 1990-
- Кипарскш, В. О языке потровской эпохи в романе «Петр и Алексей» Д.С. Мережковского / В. Кипарский // Scando-Slavica. Copenhagen, 1975. Т. 21. — С. 67−71-
- Клюс, Э. Ницше в России. Революция морального сознания / Эдит Юное. СПб.: Академический проект, 1999-
- Кодрянская, Н. Алексей Ремизов / Наталья Кодрянская. Париж: Сор., 1959-
- Козлов, C.JI. Любовь к андрогину: Блок Ахматова — Гумилев / С. Л. Козлов // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. -Рига: Зинатне, 1994. — С. 155 — 172-
- Козырев, А. Владимир Соловьев и Анна Шмидт в чаянии «Третьего Завета» / Алексей Козырев // Россия и гнозис. М.: Рудомино, 1996. С. 23 -42-
- Колобаева, Л.А. Русский символизм / Л. А. Колобаева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000-
- Корнилова, Е.Н. Мифологическое сознание и мифопоэтика западноевропейского романтизма / Е. Н. Корнилова. М.: Наследие, 2001-
- Котрелев, Н.В. Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета / Н. В. Котрелев // Труды по русской и славянской филологии. — Тарту: Уч. зап. Тартус. гос. ун-та: Вып. 209, 1968. С. 310 — 345-
- Кошарный, В.П. Религиозно-революционная теория Д.С. Мережковского: предпосылки и основные идеи / В. П. Кошарный // Из истории русской философии. М.: ВИА, 1993. — С. 3 — 33-
- Кузьмин, Д.В. «Отдельно взятый стих прекрасен!» / Д. В. Кузьмин // Арион. М., 1996, № 2. — С. 68 — 78-
- Кузьмин, Д.В. Моностихи Брюсова: факты и догадки / Д. В. Кузьмин // Брюсовские чтения 1996 года. Ереван: Лингва, 2001. С. 63 — 67-
- Кулешова, О.В. Притчи Дмитрия Мережковского. Единство философского и художественного / О. В. Кулешова. М.: Наука, 2007-
- Кулъюс, С. К Формирование эстетических взглядов Брюсова и философия Лейбница / С. К. Кульюс // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. -Тарту. Вып. 620, 1983.-С. 50−63-
- Куприяновский, П.В. А.П. Чехов и журнал «Северный вестник» / П. В. Куприяновский // Учен. зап. Ивановского гос. пед. ин-та. Иваново, 1968. -Т.13.-С. 25−51-
- Купченко, В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877 1916 / В. П. Купченко. — СПб.: Алетейя, 2002-
- Лавров, А.В. Андрей Белый в 1900-е годы / А. В. Лавров. М.: НЛО: Научн. прил. Вып.4, 1995-
- Лавров, А.В. Вячеслав Иванов «Другой» в стихотворении И.Ф.Анненского / А. В. Лавров // Лавров, А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. — С.407 — 414-
- Лавров, А.В. Наполеон Неизвестный Д.С. Мережковского / А. В. Лавров // Лавров, А. В. Русские символисты. Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 427 — 439-
- Лавров, А.В. У истоков творчества Андрея Белого / А. В. Лавров // Белый, А. Симфонии. Л.: Худож. лит, 1991. — С. 5 — 34-
- Лайэнштайн, Д. Элевсинские мистерии / Дитер Лауэнштайн. — М.: Энигма, 1996-
- Леви-Cmpoc, К. Структурная антропология / Клод Леви-Строс. М.: Наука, 1985-
- Лекманов, О.А. Тынянов и Мережковский // Материалы XII Тыняновских чтений. М.- Рига: Зинатне. В печати-
- Лихачев, Д.С. Избранные работы / Д. С. Лихачев. Т.З. — Л.: Наука, — 1987-
- Ломтев, С.В. Проза русских символистов / С. В. Ломтев. М.: Интерпракс, 1994-
- Лосев, А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А. Ф. Лосев. М.: Учпедгиз, 1957-
- Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев // Лосев, А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990-
- Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. -М.: Искусство, 1976-
- Лотман, Ю. О характеристиках пространства в средневековых текстах / Юрий Лотман // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Труды по знаковым системам. — Тарту. Вып. 234,1974. — С. 20 — 36-
- Лотман, Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освящении / Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. — Таллин: Александра, 1992. — С. 224 — 242-
- Магомедова, Д.М. Автобиографический миф в творчестве А.Блока / Д. М. Магомедова. Тверь: Мартин, 1997-
- Магомедова, ДМ. К.Д. Бальмонт. «Четверогласие стихий»: Заглавие и конструктивный принцип цикла / Д. М. Магомедова // Искусство поэтики — искусство поэзии: К 70-летию И. В. Фоменко. Тверь: ТвГУ, 2007. — С. 59 — 65-
- Магомедова, Д.М. «Переписывание классики» на рубеже веков: сфера автора и сфера героя / Д. М. Магомедова // Аспекты теоретической поэтики: К 60-летию Н. Д. Тамарченко. Тверь: ТвГУ, 2001. — С. 212 — 218-
- Максимов, Д.Е. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока / Д. Е. Максимов // Блоковский сборник: труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А.А.Блока- Тарт. гос. ун-т- отв. ред. З. Г. Минц. Тарту, 1972. — С. 5 — 32-
- Максимов, Д.Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока (Предварительные замечания) / Д. Е. Максимов // Творчество А. А. Блока и русская культура XX века / Блоковский сборник III- Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Вып. 459. — Тарту, 1979. — С. 4 — 26-
- Мамардашвили, М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М. К. Мамардашвили. М.: Логос, 2004-
- Маркосъянц, А. Поэтические словосочетания в стихотворных • произведениях В.Я. Брюсова / А. Маркосьянц // Брюсовские чтения 1963 года. Ереван: Советакан грох, 1964. — С. 170−175-
- Марченко, Т. Русские писатели и Нобелевская премия (1901 1955) / Татьяна Марченко. — Koln- Weimar- Wien: Bohlau Verlag, 2007-
- Матич, О. Христианство Третьего Завета и традиция русского утопизма / Ольга Матич // Д. С. Мережковский: Мысль и Слово. М.: Наследие, 1999. — С. 106 — 119-
- Мейлах, М.Б., Топоров, В.Н. Ахматова и Данте / М.Б. Мейлах- В. Н. Топоров // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. L., 1972, XV.-P. 8−48-
- Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. М.: Наука, 1976-
- Минц, З.Г. А. Блок и русский символизм / З. Г. Минц // А. Блок: Новые материалы и исследования. Кн.1. — М.: Наука, 1980. — С. 94 — 111-
- Минц, З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов / З. Г. Минц // Блоковский сборник- Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Вып. 459. Т. 3. — Тарту, 1979. — С. 5 — 69-
- Минц, З.Г. О трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» / З. Г. Минц // Мережковский, Д. С. Христос и Антихрист. Трилогия. М.: Книга, 1989.-С. 5−26-
- Минц, З. Г Поэтика русского символизма / З. Г. Минц. СПб.: Искусство-СПб, 2004-
- Минц 3., Пустыгина Н. «Миф о пути» и эволюция писателей-символистов / 3. Минц- Н. Пустыгина // Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту: Тартус. гос. ун-т, 1975. — С. 17 — 36-
- Мозговая, Э.Я. B.C. Соловьев и Д. С. Мережковский / Э. Я. Мозговая // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. -Вып. 19. М.: АОН, 1996. — С. 123 — 125-
- Муриня, М.А. Чеховиана начала XX века (структура и особенности) / М. А. Муриня // Чеховиана: Чехов и «серебряный век». М., 1996. — С. 1221- г
- Панова, Л.Г. Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина: В 2 кн. / Л. Г. Панова. М.: Водолей Publishers- Прогресс-Плеяда, 2006-
- Паперный, З.С. «Вишневый сад» Чехова и «Соловьиный сад» Блока / З. С. Паперный // Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту: Тартус. гос. ун-т, 1975. -С. 116−117-
- Пастораль в системе культуры: Метаморфозы жанра в диалоге со временем. — М.: Альфа, 1999-
- Пискунов, В. Второе пространство романа А.Белого «Петербург» / В. Пискунов // Андрей Белый: Проблемы творчества. М.: Сов. писатель, 1988.-С. 195−202-
- Полоцкая, Э.А. «Вишневый сад». Жизнь во времени / Э. А. Полоцкая. -М.: Наука, 2004-
- Пономарева, Г. М. «В Европу прорубить окно.» / Г. М. Пономарева // Русская речь. М., 1991, № 4. — С. 18 — 19-
- Порфиръева, А. Русская символистская трагедия и мифологический театр Вагнера (драматургия Вячеслава Иванова) / А. Порфирьева // Проблемы музыкального романтизма. Л.: ЛГИТМИК, 1987. — С. 31 — 58-
- Порфиръева, А.Л. Вячеслав Иванов и некоторые тенденции развития условного театра в 1905 1915 годах / А. Л. Порфирьева // Русский театр и драматургия 1907−1917 годов. — Л.: ЛГИТМИК, 1988. — С. 34 — 47-
- Приходъко, КС. Мифопоэтика А. Блока / И. С. Приходько. -Владимир: ВГГГУ, 1994-
- Приходько, КС. Ответ оппоненту
- Пустыгина, Н. «Петербург» Андрея Белого как роман о революции 1905 года: (К проблеме «революции сознания») / Н. Пустыгина // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та- Блоковский сборник VIII: Ал. Блок и революция 1905 г. — Вып. 813. Тарту, 1988. — С. 56 — 67- .
- Рихард Вагнер в России: Сборник исследований в 2 т. / Skripten des Slavischen Seminars der Universitat Tubingen. Nr. 34. — Tubingen, 2001-
- РицциД. 1911 год: к истокам «московского текста» Андрея Белого / Д. Рицци // Москва и «Москва» Андрея Белого. М, 1999. С. 58 — 66-
- Родина Т.М. Александр Блок и русский театр XX века / Т. М. Родина. — М.: Наука, 1972-
- Розенталъ, Б. Мережковский и Ницше (к истории заимствований) / Бернис Розенталь // Д. С. Мережковский: Мысль и слово. М., Наследие, 1999.-С. 119−136-
- Ронен, О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама / Омри Ронен // Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril Taranovsky. The Hague- P.: AcP, 1973. P. 112 — 131-
- Силард, JI. Античная Ленора в XX веке / Лена Силард // Studia Slavica Hungarica. Budapest, 1982. Т. 18. — С. 331 — 351-
- Силард, JI. Дантов код русского символизма / Лена Силард // Силард, Л. Герметизм и герменевтика. -М.: Иван Лимбах, 2002. С. 162 -205-
- Силард, JI. Заметки к учению Вяч. Иванова о катарсисе / Лена Силард // Cultura е memoria. Atti del terzo Simposio Internazionale dedicato a Vjaceslav Ivanov. T.2. — Firenze: Ed. Univ., 1988. — P. 110 — 137-
- Силард, JI. О структуре Второй симфонии А.Белого / Лена Силард // Studia Slavica. Budapest, 1967. Т.13. — P. 311 — 322-
- Силард, Л. Поэтика символистского романа конца XIX начала XX вв. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) / JI. Силард // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. — С. 265 — 284-
- Силард, Л. Чехов и проза русских символистов / Лена Силард // Anton P. Cechov. Werk und Wirkung. Vortrage und Diskussionen eines internationalen Simposiums in Badenweiler im Oktober 1985. Teil II. — Wiesbaden, 1990. -S.792−793-
- Силъма, H. Д.С. Мережковский (1866−1941) теоретик и прозаик (вариант религиозного волюнтаризма) / Н. Сильма // Acta Univ. Szegediensis de Attila Jozsef nominatae <.> Diss. Slavicae. — Szeged, 1989, № 20. — C. 143 -159-
- Слобин, Г. Н. Проза Ремизова. 1900−1921. / Слобин Грета Н. СПб.: Академический проект, 1997-
- Соловьев, Э.Ю. Биографический анализ как вид историко-философского исследования / Э. Ю. Соловьев // Вопросы философии. М., 1979, № 9.-С. 135- 152-
- Стеблин-Каменский, М. И. Труды по филологии / М.И. Стеблин-Каменский. СПб.: СПбГУ, 2003-
- Тамарченко, Н.Д. Проблема «роман и трагедия» у Вячеслава Иванова и Ницше / Н. Д. Тамарченко // Вячеслав Иванов. Творчество и судьба: К 135-летию со дня рождения. М.: Прогресс-Плеяда, 2002. — С.71 — 76-
- Тарышкина, Е.В. Сны и явь героинь «Крестовых сестер» A.M. Ремизова / Е. В. Тарышкина // Алексей Ремизов: Исследования и материалы- Отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. — С. 53 — 57-
- Тименчик, Р.Д., Топоров, В.Н., Цивъян, Т. В. Ахматова и Кузмин / Р.Д. Тименчик- В.Н. Топоров- Т. В. Цивьян // Russian Literature. Amsterdam, 1978, VI/3.-C. 225−269-
- Томпакова, О. А. Скрябин и поэты Серебряного века: Вячеслав Иванов / О. Томпакова. М.: Музыка, 1995-
- Топоров, В.Н. Миф, ритуал, символ, образ: Исследования в области мифопоэтического / В. Н. Топоров. М.: Прогресс- Культура, 1995-
- Топоров, В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре / В. Н. Топоров. — Т.1. — М.: Языки славянской культуры, 1995-
- Успенская, А.В. Античность в русской поэзии второй половины XIX века / А. В. Успенская. СПб.: БАН, 2005-
- Успенский, Б.А. История и семиотика / Б. А. Успенский // Успенский, Б. А. Избранные труды. Т.1. — М.: Гнозис, 1994. — С. 5 — 59-
- Федотова, С.В. В лабиринте формы мелопеи «Человек» / С. В. Федотова // Вячеслав Иванов. Человек. Приложение. Статьи и материалы. -М.: Прогресс-Плеяда, 2006. С. 99 — 110-
- Флорова, JI.H. Проблемы творчества Д.С. Мережковского / JI.H. Флорова. М.: МГОПУ, 1996-
- Фрейд 3. Леонардо да Винчи / Зигмунд Фрейд. М.: Лабиринт, 1991-
- Фридлендер, Г. М. Д.С. Мережковский и Генрик Ибсен (У истоков религиозно-философских идей Мережковского) / Г. М. Фридлендер // Фридлендер, Г. М. Пушкин. Достоевский. «Серебряный век». СПб.: Наука, 1995.-С. 411−434-
- Ханзен-Леве, А. Мифопоэтический символизм / А. Ханзен-Леве. -СПб.: Академический проект, 2003-
- Ханзен-Леве, А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм / А. Ханзен-Леве. СПб.: Академический проект, 1999-
- Хансен-Леве, А. Бахтинские мотивы в мифопоэтике русского символизма / А. Хансен-Леве // Telling Forms. 30 essays in honour of Peter Alberg Jensen. Stokholm: Univ. PL, 2004. — P. 105 — 120-
- Цимборска-Лебода, M. Театральные утопии русского символизма М. Цимборска-Лебода // Slavia. Praha, 1984. Rocnik 53, №¾. — С. 358 — 367-
- Чудаков, А.П. Чехов и Мережковский: два типа художественно-философского сознания / А. П. Чудаков // Чеховиана: Чехов и «серебряный век». М.: Наука, 1996. — С. 50 — 67-
- Шах-Азизова, Т. А. П. Чехов и символисты // Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века» / Татьяна Шах-Азизова. — Тарту: Тартус. гос. ун-т, 1975. — С. 159-
- Шмаков, Г. Михаил Кузмин и Рихард Вагнер / Г. Шмаков // Studies in the life and works of Mixail Kuzmin. Wien: Univ. Verlag, 1989. — P. 30 — 47-
- Эткинд, А. Эрос невозможного: История психоанализа в России / А. Эткинд. М.: Гнозис, 1994-
- Poyntner E. Циклизация у Вячеслава Иванова / Е. Poyntner // Вячеслав Иванов и его время. Материалы VII Международного симпозиума. Вена 1998. Frankfurt am Main- Berlin, etc.: Gerion, 2002. — C. 81 — 89-
- Skaza, А. Роман «Петербург» Андрея Белого и поэма «Медный всадник» А.С.Пушкина: Поэтологический аспект / A. Skaza // Slavisticna rev. Ljubljana, 2003. L.51, st. 4. — С. 4 — 12.
- Avalle-Arce, J.В. La novella pastoral Espanola / J.B. Avalle-Arce. -Madrid: LDP, 1974-
- Barta, P. Bely, Joyce and Doblin: Peripatetics in the Modernist City Novel / Peter Barta. Gainesville: ISO-Publishers, 1996-
- Barta, P. Echo and Narcissus in Russian Simbolism / Peter Barta // Metamorphoses in Russian Modernism. Budapest: Central Europ. univ. press, 2000.-P. 5−29-
- Bedford, C.H. D. Merezhkovskiy. The Third Testament and the Third Humanity / C.H. Bedford // The Slavonic and East European Studies. -1963. Vol.42, № 98.-P. 66−98-
- Bedford, C.H. The Seeker: D.S. Merezhkovsky / C.H. Bedford. Kansas: Univ. press, 1975-
- Bell, M. Literature, Modernism and Myth: Belief and Responsibility in the Twentieth Century / M. Bell. Cambridge: Univ. press, 1997-
- Benz, E. Ecclessia Spiritualis / E. Benz. Stuttgart: Spiritus, 1964-
- Blanchot, M. Le livre a venire / Maurice Blanchot. P.: Avenir, 1975-
- Blanch, K. Boborykin. Studien zur Theorie und Praxis des naturalistischen Romans in Russland / K. Blanck. Wiesbaden- Univ. Verlag, 1990-
- Bonnet, C. Napoleon et son mythe europeen / C. Bonnet. P.: Guillot, 1984-
- Caprioglio, N. Spengel, G. Dmitrij Merezkovskij e Dante Alighieri / N. Caprioglio- G. Spengel // Dantismo russo e cornice europea. Vol I. — Firenze: Lan-Phoenix, 1989. — P. 72 — 79-
- Cioran, S.D. The Apocalyptic Symbolism of Andrei Belyi / S.D. Cioran. -The Hague- P.: Mouton, 1973-
- Clowes, E.W. The Integration of Nietzche’s Ideas of History, Time, and «Higher Nature» in the Early Historical Novels of Dmitry Merezhkovsky / E.W. Clowes // Germano-Slavica. Copenhagen, 1981. V.3. № 6. — P. 401 -416-
- Crouzet, R. Monstres et merveilles: poetique de rAndrogyne / R. Crouzet // Romantisme. P., 1984, № 45. P. 25 — 41-
- Cymborska-Leboda, M. Le drame, la musique et le theatre: la conception symboliste de l’homme / M. Cymborska-Leboda // Cahiers du monde russe. P., Janvier-Juin 1994. Vol. XXXV (1−2). — P. 191 — 208-
- Danteau, F. Plutarche comme biographe et penseur / F. Danteau. P., 1982-
- Davidson, P. The Poetic Imagination of Vyacheslav Ivanov: A Russian Symbolist’s Perception of Dante / P. Davidson. Cambridge: Cambridge univ. press, 1989-
- Edel, L. Literary Biography / L. Edel. NY.: Garden City, 1959-
- Eliade, M. Rites and symbols of initiations / M. Eliade. NY.: Lotos, 1965-
- Eliasberg, A. Russische Literaturgeschichte / A. Eliasberg. Munchen: Univ. Verlag, 1922-
- Gasparov, B. The «Golden Age» and Its Role in the Cultural Mythology of Russian Modernism / B. Gasparov // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley, Los Angeles- Oxford: INT-Press, 1992. P. 1−12-
- Goodheart, E. Leon Edel’s Henry James / E. Goodheart // The Biographer’s Art. L.: Fine Arts, 1989-
- Gras, M. Die Religionphilosophie von D.S. Merezkowski mit besonderer Beruecksichtigung der Drei Testamente / M. Gras. Munchen: Univ. Verlag, 1955-
- Hansen-Love, A.A. Mythos als Wiederkehr. Ein Essay / A.A. Hansen-Love. // Mythos in der Slawischen Moderne. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 20,1987. — S. 9 — 23-
- Hansen-Love, A.A. Zur Mythopoetik des russischen Symbolismus / A.A. Hansen-Love. // Mythos in der Slawischen Moderne. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 20, 1987. — S. 61 — 103-
- Hart, P. Time Transmuted: Merezkovskij and Bijusov’s Historical Novels / P. Hart // Slavic and East Europian journal. Tempe, 1987. Vol. 31, № 2. — P. 187−201-
- Jonas, H. The Gnostic Religion / H. Jonas. Boston: Oecumenica, 1958-
- Kelly, C. Classical Tragedy, and the «Slavonic Renaissance»: the Plays of Viacheslav Ivanov and Innokentii Annenskii Compared / C. Kelly // Soviet and East European Journal. L, 1989, № 33. — P. 236 — 240-
- Kelly, C. Vyaceslav Ivanov as the «Other»: A contribution to the «Drugomu» Debate / C. Kelly // Cultura e memoria. Firenze, 1988. V.l. — P. 151−161-
- Kendall, P.M. The art of Biography / P.M. Kendall. NY.: Humanities Press, 1965-
- Klimowicz, T. Wokol wiersza Briusova O, zakroj swoi blednyje nogi / T. Klimowicz // Slavica Wratislaviensia. Wroclaw, 1989, № 1039 (50). — C. 25 -33-
- Lednicki, W. D.S. Merezhkovsky, 1865−1941 / W. Lednicki // The Russian Review. L., 1942. Vol, 1, № 2 (April). — P. 20 — 28-
- Lenant, F. W. Dilthey et les autres: philosophic, biographie et religion / F. Lenant. P.: Gallimard, 1965-
- Levi-Strauss, CI. Myth and Meaning / CI. Levi-Strauss. L.: Penguin, 1978-
- Levi-Strauss, CI. Mythologiques. V. l 4. / CI. Levi-Strauss. — P.: Gallimard, 1964-
- Lowith, K. Meaning in History / K. Lowith. Chicago: NW Univ. Press, 1949-
- Malmstad, J., Shmakov, G. Kuzmin’s «The trout breaking through the ice» / J. Malmstad- G. Shmakov // Russian Modernism: Culture and the Avant-Garde. 1900−1930. Ithaka- L.: Cornell univ. press, 1976. P. 135 — 164-
- Markov, V. Kommentar zu den Dichtungen von K.D. Bal’mont / V. Markov. Teil I. 1890 — 1909. — Koln- Wien: Bohlau, 1988- Teil II. 1910 — 1917. Koln- Wien: Bohlau, 1992-
- Masing-Delich I. Abolishing Death. A Salvation Myth of Russian Twentieth-Century Literature / I. Masing-Delich. Stanford: Stanford univ. press, 1992-
- Mirsky, D.S. Modern Russian Literature / D.S. Mirsky. L.: Star press, 1925-
- Myth and Literature. Contemporary Theory and Practice. Lincoln: AcademiaPl., 1966-
- Nietzsche and Soviet Culture: Ally and Adversary. / Ed. by Bernice Glatzer Rosenthal. Cambridge: Cambridge univ. press, 1994-
- Nietzsche in Russia / Ed. by Bernice Glatzer Rosenthal. Princeton (N.J.): Princeton univ. press, Cop., 1986-
- Pachmuss, T. D.S. Merezhkovzky in Exile. The Master of the Genre of Biographie Romancee / Temira Pachmuss. NY., Bern, Frankfurt am Main, P.: UA-Press, 1990-
- Pachmuss, T. Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Gippius / Temira Pachmuss. Mtinchen: Bohlau, 1972-
- Pachmuss, T. Zinaida Gippius: An Intellectual Profile / Temira Pachmuss. Carbondale: M-Press, 1971-
- Poggioli, R. The Oaten Flute: Essays on Pastoral Poetry and Pastoral Ideal / R. Poggioli. Cambridge (Mass.): Univ. press, 1975-
- Potthoff, W. Dante in Russland: Zur Italienrezeption der russischen Literatur von der Romantik zum Symbolismus / W. Potthoff. Heidelberg: Winter, 1991-
- Rodin, P. The Trickster / P. Rodin. L.: Laterna press, 1956-
- Rosenthal, B.G. Eschatology and the Appeal of Revolution / B.G. Rosenthal // California Slavic Studies.- 1980, № 11. P. 122 — 124-
- Rosenthal, B.G. Merezhkovsky and the Silver Age: The Development of a Revolutionary Mentality / B.G. Rosenthal. The Hague: Mouton, 1975:
- Rosenthal, B.G. New Myth, New World: From Nietzsche to Stalinism / B.G. Rosenthal. University Park, PA: Perm State University Press, 2002-
- Rosenthal, B.G. Nietzsche in Russia: The case of Merezhkovsky / B.G. Rosenthal // Slavic Review. L., 1974, № 3. — P. 429 — 452-
- Rosenthal, B.G. Stages of Nietzscheanism: Merezhkovsky’s Intellectual Evolution / B.G. Rosenthal // Nietzsche in Russia / Ed. by Bernice Glatzer Rosenthal. Princeton (N.J.): Princeton univ. press, Cop., 1986 — P. 69 — 95-
- Slonim, M. From Chekhov to the Revolution: Russian Literature 1900−1917 / M. Slonim. -N.Y.: Oxford univ. press, 1962-
- Spengler, U. Merezhkovskij als Literaturkritiker / U. Spengler. Lucerne- Frankfurt am Main: Libreria Verlag, 1972-
- Stammler, H. D.S. Merezhkovskij, 1865−1965. A Reappraisal / H. Stammler. // Die Welt der Slaven. Mtinchen, XII. № 2. — S. 95 — 99-
- Stammler, H. Russian Metapolitics: Merezhkovsky’s Religious Understanding of the Historical Process / H. Stammler. // California slavic studies. Berkeley, 1976, № 9. — P. 123 — 138-
- Taranovsky, К. Essays on Mandel’stam / K. Taranovsky. Cambridge (Mass.) — L.: Univ. press, 1976:
- Tarasti, E. Myth and Music. A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth and Music, Especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky / E. Tarasti. -Helsinki: ActaMusicilogicaFennica, ll, 1978-
- The craft of Literary Biography / Ed. M. Perry. L.: VtPl., 1985-
- Turner, V. W. The Ritual Process / V.W. Turner. Ithaka: Aldine, 1977-
- Venclova, T. On Russian Mythological Tragedy: Vjaceslav Ivanov and Marina Cvetaeva / T. Venclova // Myth in Literature / Ed. Andrej Kodjak, Krystyna Pomorska, Stephen Rudy. Columbus (New York Univ. Slav. Papers- 5), OH: Slavica, 1985. -P. 89- 109-
- Wachtel, M. The Veil of Isis as a Paradigm of Russian Symbolist Mythopoesis / M. Wachtel // The European Foundations of Russian Modernism / Ed. Peter Barta. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1991. — P. 25 — 50-
- Ward, D. The Divine Twins / D. Ward. Los Angeles: Cal. Human. Press, 1968-
- Zingarelli, N. La vita, i tempi e le opere di Dante / N. Zingarelli. Milano: Ulli, 1986.