«Новый журнализм» в сравнительно-исторической перспективе (программы литературного освоения факта в США 1960-х годов и в России 1920-х
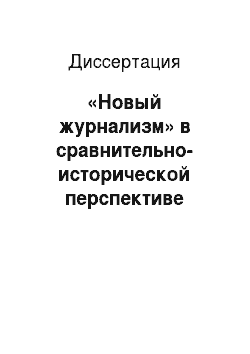
Наша диссертационная работа посвящена сопоставлению, во-первых, двух форм фактуального («невымышленного», документального) письма, сложившихся в сходных социокультурных ситуациях — советской «литературы факта», возникшей в 1920;х годах, и американского «нового журнализма», появившегося несколько десятилетий спустя и, во-вторых, двух фигур, представлявших — в качестве теоретиков… Читать ещё >
Содержание
- Введение.стр
- Глава I. Две программы гиперреализма". стр
- 1. Исторический факт как ценность. Контексты и способы обоснования. стр
- 2. Опыт газеты: pro и contra
- 2. а. «Литература факта»: газета как ориентир. стр
- 26. «Новый журнализм»: восстание против объективности". стр
- 3. Опыт романа: избирательное сродство. стр
- За. «Новый журнализм»: реабилитация реализма в контексте постмодерна. стр
- 36. «Литература факта»: ревизия русской реалистической традиции. стр
- Глава II. Писатель как «антенна века»: автотехнологии В. Шкловского и Т. Вулфа
- 1. Амплуа «полномочного представителя» литературного авангарда. стр
- 2. Остранение 1. Скандал как прием. стр
- 3. Остранение 2. Стиль, или Эстетизация быта
- 4. После «звездного десятилетия»
- Глава III. Опыт экспериментально-исторического письма: «Сентиментальное путешествие» и «Электропрохладительный кислотный тест». стр
- 1. Парадокс вовлеченного свидетельствования. стр
- 2. Гротеск как стилевой аналог «революционного карнавала». стр
«Новый журнализм» в сравнительно-исторической перспективе (программы литературного освоения факта в США 1960-х годов и в России 1920-х (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Наша диссертационная работа посвящена сопоставлению, во-первых, двух форм фактуального («невымышленного», документального) письма, сложившихся в сходных социокультурных ситуациях — советской «литературы факта», возникшей в 1920;х годах, и американского «нового журнализма», появившегося несколько десятилетий спустя и, во-вторых, двух фигур, представлявших — в качестве теоретиков и практиков-экспериментаторов — то и другое направление. В. Шкловский и Т. Вулф интересуют нас как носители авангардного сознания (Шкловский в данном случае выступает уже не только как «фактовик», но также и даже прежде всего как создатель формальной школы и ее «представитель перед общественностью») и — в этом качестве — субъекты специфического поведения, как бытового, так и творческого. Предметом непосредственного анализа станут манифесты «литературы факта» (1929) и «нового журнализма» (1973), а также первые значительные опыты Шкловского и Вулфа в области экспериментального письма с характерной для него установкой одновременно на «литературность» и на «документальность» -(«Сентиментальное путешествие» (1923) и «Электропрохладительный кислотный тест» (1968). В отдельной главе, на основе биографических и автобиографических свидетельств, рассматривается семиотика отдельных аспектов бытового поведения этих авторов, свидетельства сознательного «сочинения» ими себя в качестве «культурных персонажей», свидетелей и участников вершащейся истории.
Прямой связи между «литературой факта» и «новым журнализмом» нет. Тем интереснее отмечать совпадения в теории и практике этих направлений и наблюдать симметрию в устройстве их систем. Сопоставление позволяет выявить и поставить ряд проблем, связанных с понятием т.н. фактуального письма, призванного в данном случае запечатлевать «историю современности», отражать те радикальные и стремительные перемены, которое претерпевало советское общество в 1920;х и американское в 1960;х годах.
Литература
факта" декларативно отказывается от всякой «литературности»: ее теоретики хотят порвать с традиционной эстетикой, сделать фактографическое письмо инструментальным, начисто исключив из него развлекательный момент и поставив на службу жизнестроению, то есть укреплению нового строя, нового уклада жизни. Ориентиром должна стать газета, она для фактовиков — идеальное письмо: свободное от «субъективности» и беллетристической «неправды», анонимное и коллективное, оперативно реагирующее на социальные перемены, сориентированное на общее, а не на частное, на социальное, а не на «лирическое». Фактовики отвергают понятие «творческой личности», центральное для литературного производства, делая ставку на «безличность», «объективность» и «целенаправленность». «Литература факта», таким образом, движется от литературы к газете.
Новый журнализм" движется в обратном направлении — от газеты (газетный дискурс, с их точки зрения, «автоматизировался» и неспособен соответствовать исторически беспрецедентным требованиям времени) к литературе. Традиционная эстетика, которую отторгают фактовики, для «новых журналистов» становится объектом парадоксального притяжения: именно через обращение к ней они предполагают создать идеальную систему фактографического письма. Такие категории, как «увлекательность», «субъективность», «психологизм», на их взгляд, не вступают в противоречие с категорией «факта», а призваны, наоборот, обогатить ее, углубить и придать ей новые измерения.
Литературу факта" мы рассматриваем в качестве одной из форм авангардно-формалистской практики. Конфликт между формальным и производственным (условно говоря, «политическим») компонентами фактографической теории воплощен в фигуре В. Шкловского, его теоретической и беллетристической деятельности.
Новый журнализм" тоже оформляется в контексте поиска остроновых способов описания современности. 1960;е годы в Америке характеризуются кризисом реалистического нарратива и бурным развитием т.н. мета-романистики, принципиально уходящей от описательности в рефлексию. «Новый журнализм» явился своего рода «реакцией на реакцию», — он заявляет о себе как о радикальной альтернативе модернистским литературным формам (с их точки зрения, «неэффективным») и в то же время новом воплощении давно «преодоленного» реализма. Парадоксальным образом, в условиях Америки 1960х годов классический реализм стал знаменем инноваций, а зоной их — промежуточная область литературно-медийного письма. Если формализму требовался человек, который «новое отношение к самому типу филологической медитации обеспечил бы своим поведением, темпераментом, личностью"1 (во многом именно в этой роли выступил Виктор Шкловский), то и «новый журнализм» нуждался в личности, способной аналогичным образом обеспечить новое отношение к журналистике (и литературе). В итоге Том Вулф2 стал для «нового журнализма» своего рода эмблемой.
1 Шкловский В. Гамбургский счет. Предисловие А.Чудакова. М.: Советский писатель, 1990. С. 9. 2.
Ввиду того, что творческая биография Тома Вулфа (р. 1931) не слишком хорошо известна за пределами Америки, дадим краткую справку. В нашей работе мы сосредоточимся, главным образом, на «новожурналистском» этапе биографии Вулфа, который начинается во второй половине 1960х годов и, по сути дела, заканчивается в 1970х, когда Вулф производит своего рода «переоценку ценностей» и отказывается от некоторых методов, с успехом введенных им в культурный оборот в начале карьеры. В средний период своего творчества Вулф вступает одной из самых заметных и противоречивых фигур новейшей американской литературы. Он — пионер и главный теоретик «нового журнализма» (тут важно отметить, что Вулф получил основательное гуманитарное образование, отразившееся в его теоретических построениях: в Йельском университете он занимался в основном «американистикой» (American Studies), но очевидна и его осведомленность в области европейской культуры), автор «Электропрохладительного кислотного теста» — книги, которая мгновенно обрела устойчивый статус «современной классики» и до сих пор числится среди лучших сочинений, посвященных 1960;м годам.
Новый журнализм" возникал в атмосфере полемики, конфликта, скандала — и тщательно выстраиваемый самообраз Вулфа включал в себя все эти элементыВулф старательно поддерживает репутацию ниспровергателя культурных основ-конвенций, по тем или иным причинам его не устраивающих. «Новый журнализм» был одухотворен пафосом борьбы с модернистским романом — а в 1975 году Вулф пишет книгу «Раскрашенное слово» («The Painted Word»), в которой подвергает критике современную — постмодернистскую — американскую живопись и устройство поля, в котором она находится: это поле, по мнению Вулфа, регулируется узким кругом критиков, формулирующих теоретические принципы, которые затем претворяются в жизнь художниками. Спустя шесть лет он с этих же позиций нападет на современную архитектуру («От Баухауса к нашему дому» («From Bauhaus to Our House»). Эти.
Мы не хотим сказать, что Шкловский и Вулф — фигуры равновеликиедля нас существенно, что в своем времени и своей культурной среде тот и другой выступили и были признаны своего рода полномочными представителями литературного авангарда — и реализовали свои полномочия через обращение к сходным стратегиям. Оба прихотливо и последовательно выстраивали свой социально-бытовой образ, осознавая внелитературное пространство как материал, подлежащий эстетической организации, творческому преодолению, формальной обработке. Шкловского и Вулфа объединяет подчеркнутое, пристальное внимание к понятию формыих литературные тексты, равно как и бытовой мета-текст, — при всем подчеркнутом внимании к факту, к аутентичности переживания и воспроизведения жизненного опыта — рассчитаны на «затрудненное восприятие», предполагают осязаемость сообщения, взывают к ощущению его конструктивного устройства (а не только уяснению содержания). Внимание к форме, интерес к деланию, к самому процессу эстетического созидания, — лейтмотив мета-текста Шкловского и Вулфа.
Шкловский в юности учился на скульптора, он вспоминает об этом в автобиографической книге «Третья фабрика»: «Шервуд (скульптор-наставник — ДХ) объяснил мне, что такое форма и что лепят не для того, книги (уже не имеющие отношения к «новому журнализму») утвердили его в вызывающем качестве «рыцаря реализма», культурного консерватора, в одиночку сопротивляющегося диктату (постмодернистской парадигмы. Очередной же собственно профессиональный — литераторский, так скажем — прорыв состоялся в 1979 году, когда Вулф опубликовал журналистское исследование под названием «То, что надо» («The Right Stuff'), предметом которого стали военные летчики-испытатели, вовлеченные в американскую космическую программу. Эта книга, в которой «новожурналистский» метод и подвергся пересмотру (Вулф отказался от принципиально важных для «классического» «нового журнализма» субъективности и формальной эклектичности), стала вторым, после «Электропрохладительного кислотного теста», важнейшим достижением Вулфа-журналиста. Поздний период творчества Вулфа начинается во второй половине 1980х годов и знаменуется переходом от журналистики к художественной прозе — к реалистическому роману, к традиции, о необходимости возрождения которой Вулф писал еще в 1970;х годах. Его первый опыт — роман «Костры амбиций» (1987) («The Bonfire of the Vanities») — оказался во всех отношениях удачнымна сегодняшний день это его главный, снискавший наибольший успех у критики и у публики, роман. Два других — «Мужчина в полный рост» (1998) («A Man in Full») и «Я — Шарлотта Смммонс» (2004) («I Am Sharlotte Simmons») — написаны в том же социально-реалистическом ключе, но явным образом находятся в тени первого. Тем не менее, ни тот, ни другой не стали провалами и не разрушили славную репутацию их автора, которой, впрочем, уже едва ли возможно нанести ущерб, Вулф занимает видное место на американском культурном горизонте и вряд ли будет оттуда смещен — даже в том случае, если его готовящийся к печати роман (рабочее название — «Зов крови» («Back to Blood») не станет ни бестселлером, ни succes d’estime. чтобы сделать выражение. Он научил меня лепить затылки и искать общую форму. <.>. Я не сделался скульптором, но понял очень много. <.>. Шервуд и мокрая глина научили меня по правильному понимать искусство"1. Тут важно физическое ощущение материала, осязаемая затрудненность в придании ему формы, осознание первичности формы как таковой. Искусство есть способ пережить деланье вещи, скажет Шкловский в статье «Искусство как прием», — и скульптор переживает это деланье, как никто «осязательно»: превращение мокрой глины в скульптуру — куда более явный творческий процесс, чем процесс превращения слов в текст или красок в картину, поскольку бесформенность материала скульптор преодолевает буквальным образом. Специфическое представление о формальном преобразовании как о «лепке», преодолевающей сопротивление материала, Шкловский сохранит в дальнейшем, оставив занятия собственно скульптурой и обратившись к литературной теории и литературе.
Интерес к форме Тома Вулфа проявлялся не столь метафорически наглядно, но не менее устойчиво: прежде, чем заняться журналистикой, он увлекался рисунком (и не оставлял в дальнейшем этого увлечения, например, сборник своих статей 1980 года оформил самостоятельно), а затем пережил краткий период эстетского формализма. В эссе «Преследование чудовища с миллиардом ног» (1989) Вулф пишет: «В колледже. я решил, что буду писать хрустально-прозрачную (crystalline) прозу. Это проза должна была быть такой же вневременной, вечной, изысканной, возвышенной и ошеломительной, как лучшие вещи Скарлатти. Она должна была быть так же внятна читателю из двадцать пятого века, как читателю века двадцатого"2. От идеи совершенной формы, облекающей некое универсальное сообщение, Вулф быстро отказался и обратился к реалистической традиции с ее вниманием к действительности и набором приемов, создающих «эффект» прямого к ней доступа. Впрочем, та действительность, о которой писал Вулф.
1 Шкловский В. Еще ничего не кончилось. М.: Пропаганда, 2002. С. 351.
2 Wolfe, Т. Stalking the Billion-Footed Beast//Harper's Magazine. November, 1989. P.53. и другие «новые журналисты», имела «странные» формы — и «странную» же форму обрел посвященный ей «новожурналистский» нарратив: с формальной точки зрения раннее творчество Вулфа имеет гораздо больше общего с модернистской традицией, которую он декларативно отвергал, чем с традицией реалистической, на которую он настойчиво призывал журналистов и писателей ориентироваться.
Задачи, поставленные в нашей работе, таковы: 1) показать сходство в устройствах систем «литературы факта» и «нового журнализма», а также различия, обусловленные культурным и историческим контекстомна примере этого сопоставления, а также на частных примерах текстов Шкловского и Вулфа нам предстоит (им вослед, но и дистанцируясь, по возможности, от их логики) рассмотреть соотношение «фактуальности» (документальности) и «литературности» (эстетической функциональности) в тексте, уяснить характер существующего между этими категориями конфликта и/или обмена, 2) показать сходство стратегий самопрезентации Шкловского и Вулфа, сосредоточившись на отдельных характерных «приемах», 3) разобрать «Сентиментальное путешествие» и «Электропрохладительный кислотный тест» как образцы экспериментальной историографии, не только не скрывающей субъективной природы письма, но, наоборот, делающей ее повышенно ощутимой (в работе мы описываем этот феномен как «парадокс вовлеченного свидетельствования»). И в этом случае нас интересуют как сходства, так и различия. Как мы увидим, субъективность текстов Шкловского — монологична (он может говорить только о себе), субъективность текстов Вулфа — скорее полифонична (он говорит меньше от своего лица, чем от лиц многочисленных героев своего рассказа), но обоих объединяет установка реконструкцию личного опыта и использование его как метафоры опыта коллективного, то есть исторического.
Сопоставления, к которым мы прибегаем в нашей работе, прежде не становились предметом академической рефлексии: исследований, в которых формализм и «литература факта» сравнивались бы с «новым журнализмом», а фигура Шкловского соотносилась с фигурой Вулфа, не существует. Специфика поставленных задач определила отбор материала: формализм предстает в нашей работе более как факт биографии Шкловского, и во многом в таком же свете — применительно к Вулфу, сквозь призму его творческой биографии — мы рассматриваем «новый журнализм».
Устанавливая соотношение формализма и «литературы факта», мы опирались на монографию О. Ханзен-Лёве «Русский формализм» (1978, русский перевод — 2001) и исследование М. Заламбани («Литература факта. От авангарда к соцреализму» (2003, русский перевод — 2006). Для создания преимущественно «биографического» (а не методологически и исторически полного!) образа формализма мы обращались к посвященным ему основополагающим трудам (монографии В. Эрлиха «Русский формализм. История и теория» (1955, русский перевод — 1996), исследованию К. Поморски «Теория русского формализма и ее поэтический климат» (1968), уже упоминавшейся книге Ханзен-Лёве), а также — к работам современных отечественных исследователей (Я.Левченко, А. Дмитриева, Д. Устинова, К. Кобрина, И. Калинина, Б. Парамонова, С. Зенкина, И. Сироткиной, А. Разумовой, А. Галушкина, А. и М. Чудаковых, И. Сухих, М. Ямпольского). Из суммы привлеченных нами критических суждений складывается представление о Шкловском как о «Главном Формалисте», носителе обостренной профессиональной, исторической и творческой чувствительности, — для которого формализм был единственно возможной (экзистенциально адекватной) формой научной деятельности, научная деятельность была неотъемлема от деятельности литературной, литературная деятельность — от бытового существования, а это последнее — от существования социального («на виду»), исторического (в «гуще событий») и эстетического (в качестве «единицы стиля»). Соответственно, и Шкловский предстает предельно «адекватным» формализму, незаменимым в качестве его символа: «Насколько по-иному смотрятся формалистические положения в научном дискурсе Томашевского, лишенные «шарма» и свежести эссеистического стиля Шкловского!"1. Уникальность фигуры Шкловского, специфика его творческой позиции — общий мотив использованного нами материала, но оценивается и описывается эта позиция в нем по-разномуфигура Шкловского предстает в диапазоне от «плодовитого острослова-забияки» (Эрлих) до «гения романтического склада» (Парамонов).
Ввиду того, что в России история и теория «нового журнализма» никогда не оказывались в фокусе пристального внимания (в нашем распоряжении, по большому счету — одна диссертационная работа, принадлежащая Т. Ротенберг, и отдельные упоминания «нового журнализма» в сборниках статей и монографиях, посвященных литературному процессу в США 1960х-1970х гг.- см. раздел «Библиография»), мы сосредоточились на американских исследованиях, отобрав для работы главный их корпус (оправдывая эту избирательность тем, что нас занимала не система «нового журнализма» как таковая, но место в ней Тома Вулфа). Теоретический (и, опять-таки, «биографический») образ «нового журнализма» в нашей работе сформирован на основе работ Р. Вебера, Д. Хеллмэнна, Д. Холлуэлла, М. Джонсона, М. Вайнгартена, М. Дикстайна, Ф. Фрас, У. Маккина, Б. Рэген, К. Маккинимы таюке использовали два сборника посвященных Вулфу критических отзывов (составители — Д. Шометт и Х. Блум). В этих текстах «новый журнализм» рассматривается как крайне своеобразная форма письма, сочетающая, демонстративно и рискованно, параметры «документальности» и «литературности» и, следовательно, задевающая один из самых болезненных нервов современной теории — проблематику фактуальности и фикциональности. Наш материал позволяет увидеть Вулфа как фигуру, во многом аналогичную фигуре Шкловского. Американские исследователи, на суждения которых мы ориентируемся в работе, признают центральную роль Вулфа в системе «нового журнализма», обращают внимание на его своеобразный социальный и профессиональный статус и, в общем, сходятся.
1 Ханзен-Лёве О. Русский формализм. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 548. на том, что он занимает важное место в американской культурной действительности. Этим мы, разумеется, не хотим сказать, что Вулф не оказывается — причем регулярно! — объектом нелицеприятной и подчас неприязненной критики. Так или иначе, в последней на сегодняшний день книге о Вулфе говорится, что отсутствие у него (как у романиста) имитаторов или последователей объясняется тем, что «его способность сочетать сатиру, иронию, юмор, литературные шутки и документальный реализм остается труднодостижимой и еще в меньшей степени поддающейся воспроизведению"1. Вулф, безусловно, из тех авторов, которых называют «живыми классиками» — и судить о его успехах и неудачах следует, исходя из этого обстоятельства. Само намерение Вулфа стать «секретарем американского общества», вероятно, имеет большее значение для понимания его роли в американской литературе, чем-то, в какой мере общество готово л признать его. Тем более, в определенном смысле Вулф стал этим «секретарем» — благодаря вниманию к приметам времени, к «статусным деталям», к миру вещей — к внешнему облику истории, который, полагает У. Маккин, будет представлять для будущих авторов культурной истории Америки второй половины XX века большую проблему, потому что в их распоряжении не будет «источников, которые были доступны их предшественникам: писем, дневников, записных книжек, — все это вытеснено электронными системами хранения. Для этих несчастливых историков о двадцать первого века книги Тома Вулфа будут божьим даром» .
Методологическая основа работы. При рассмотрении проблемы фактуальности и фикциональности (в терминологии Ж. Женетта), проблемы.
1 МсЕпеапеу, К. Tom Wolfe’s America. Heroes, Pranksters, and Fools. Praeger: Westport, Connecticut, 2009.
P.168. 2.
Вулф — превосходный увеселитель (entertainer), подлинный моралист, а также очень умный и тонкий журналист, Он не Бальзак, но, тем не менее, [то, что он делает] - весьма и весьма впечатляет", пишет знаменитый консерватор и «ретроград» — Х. Блум (Bloom, Н. Introduction// Tom Wolfe. Modern Critical Views. Ed. by H.Bloom. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2001. P. l).
3 McKeen, W. Tom Wolfe. Twayne Publishers, New York, 1995. P.135. литературности, близости и различия исторического и литературного письма мы опирались на опыт современной нарратологии — прежде всего таких ученых, как Р. Барт, Ж. Женетт, М. Риффатер, Х. Уайт, В.Шмид.
Специфика анализируемого в диссертации материала вынуждает нас ставить вопросы, остававшиеся на протяжении последних десятилетий в центре теоретических дебатов: присущ ли момент вымысла всякому повествовательному тексту вне зависимости от того, лежит в его основе последовательность вымышленных или реальных событий? Актуально ли разграничение «литературы» и «нелитературы», если речь идет о повествовательных жанрах (к которым относятся и роман, и историческое повествование, и биография, и многие другие)? Может ли текст запечатлеть факт реальной жизни, то есть — возможно ли в связи с одними текстами говорить о правде с тою же определенностью, с которой мы говорим о вымысле в связи с другими?
М. Риффатер в «Правде вымысла», Женетт в «Вымысле и слоге», Шмид в «Нарратологии» и Уайт в «Метаистории» описывают признаки и модели производства фикциональных и фактуальных текстов. Эти модели и признаки в основном совпадают, что дает основания сделать вывод о том, что в конструктивном отношении фактуальный повествовательный текст не отличается от фикционального. К. Хамбургер полагает, что признаками фикциональности являются детально разработанные сцены, дословно воспроизведенные диалоги, пространные описания, — возражая ей, Ж. Женетт говорит, что с таким же успехом эти характеристики могут выступать и агентами фикциональности в фактуальном тексте: «.все это допустимо и не заказано (да и кем?) и в повествовании историческом, однако наличие подобных приемов несколько снижает его правдоподобие («откуда вам это известно?») и тем самым создает у читателя. впечатление — вполне обоснованное — «фикционализации» повествования"1. Создание текста предполагает изменение фактического материала вследствие его нарративной.
1 Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т.Н. С. 501. и обработки, прилагаемого эстетического усилия, — в результате чего фактуальность неизбежно осложняется фикциональностью.
Уровни концептуализации" исторического материала в процессе построения исторического нарратива (как их описывает X. Уайт1) и «нарративные трансформации» жизненного материала в процессе создания фикционального текста (как их описывает В. Шмид) во многом перекликаются. Подводя итог нарратологической дискуссии, начатой еще русскими формалистами и продолженной французскими структуралистами, Шмид предлагает модель создания текста, состоящую из четырех уровней: события, история, наррация, презентация наррации. У Уайта этим уровням (очень приблизительно!) соответствуют: хроника и история, объясняемая через «построение сюжета» (emplotment), доказательство (argument) и идеологический подтекст (ideological implication). «В отличие от романиста, историк сталкивается с сущим хаосом уже установленных событий, из которых он должен выбрать элементы истории, которую он расскажет. Он делает свою историю, включая одни события и исключая другие, выделяя одни и делая другие подчиненными. То есть он «строит сюжет» (emplois) своей истории"3. Фактографическое знание оказывается таким образом неотделимо от творческого, «сочинительского» усилия.
Развивая эту влиятельную в современной культурной среде логику применительно к интересующему нас материалу, Ф. Фрас пишет, что даже самые добросовестные документальные репортажи суть не «правда», но «всего лишь неполные отчеты о том, что, кажется, произошло, неизбежно искаженные «фильтрацией» через репортеров, наблюдателей, исследователей — а также через язык и используемые ими формы репрезентации"4. «Новый журнализм», по выражению другого его исследователя — Д. Хеллмэнна, может.
1 УайтХ. Метаистория. Ектб.: Изд-во Уральского университета, 2002. С. 25.
2 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 159.
3 Уайт X. Метаистория. Ектб.: Изд-во Уральского университета, 2002. С. 26.
4 Frus, P. The Politics and Poetics of Journalistic Narrative. The Timely and the Timeless. Cambridge University Press, 1994. P.177. быть определен как форма письма, «одновременно полностью фикциональная и полностью журналистская"1 — то есть ориентированная на трансляцию «факта», но неизбежно и непредумышленно искажающая его.
Фактуальный повествовательный текст оказывается в то же время фикциональным, — с одной стороны, отсылая к реальной, невымышленной ситуации, с другой — представляя «измышленный», эстетически обусловленный ее образ. Категории фактуальности и фикциональности относительны, а не абсолютны, и потому взаимопроницаемы, сосуществуют в любом повествовательном тексте. Женетт напоминает о том, что фикциональный текст может включать в себя «островки с нефикциональным или неопределенным статусом». М. Риффатер утверждает, что фикциональный текст бывает до некоторой степени «правдив» (а не правдоподобендля Риффатера «правдивость» возникает как раз тогда, когда правдоподобие бессознательным образом нарушается), в то время как фактуальный текст неизбежно содержит в себе бессознательную, внеинтенциональную «ложность».
Мера фикциональности фактуального повествования во многом определяется сложностью его формального устройства, то есть — его эстетической функциональностью, которая состоит в динамическом отношении с функциональностью коммуникативной, или познавательной: чем эксплицитнее проявляется в повествовании эстетическая функция, тем меньшую роль играет в нем функция коммутикативная. Фикциональное высказывание заключает с реципиентом «договор о взаимной безответственности, <который> может служить превосходной эмблемой знаменитой эстетической незаинтересованности"2 — высказывание же фактуальное заключает с реципиентом договор о взаимной ответственности, иллюстрирующий коммуникативную заинтересованность: мы соглашаемся видеть сквозь эстетический орнамент фактуального сообщения отражение.
1 Hellmann, J. Fables of Fact: The New Journalism as a New Fiction. Urbana: University of Illinois Press, 1981. P. 19.
2 Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. М.: Изд-во нм. Сабашниковых, 1998. T. II, САН. реальной ситуации, предполагая, что отправитель ставил перед собою задачу не только доставить нам эстетическое удовольствие, но и обогатить наше представление о внелитературной действительности, поведав некую «правду». Таким образом, единственное принципиальное отличие фактуального сообщения от сообщения фикционального состоит в том, что первое наделяется читателем большей, чем второе, ценностью в качестве средства формирования картины мира.
Заключение
.
Предпринятое нами сопоставление двух литературных направлений убеждает в актуальности обсуждения границ литературы как письма, основанного на творческом вымышлении. Эта тема и связанные с ней экспериментальные практики остро воспринимались и в России начала XX века, и в Америке середины того же столетия. Сквозь азартность, воинственность формулировок, характеризующие манифесты российских фактовиков и американских «новых журналистов» прорисовывается многомерная культурно-эстетическая проблематика, нимало не утратившая актуальности в наши дни, когда она трактуется уже с учетом богатого «постформалистического» теоретического опыта и широкого междисциплинарного диалога (философов, лингвистов, теоретиков литературоведов, нарратологов, семиотиков), развивавшегося в последние десятилетия на «конструктивистской» основе.
Очевидно, что вымысел имманентно присущ письму как таковому. В той мере, в какой в акте рассказывания осуществляется преодоление материала, приводится в действие фикциональный механизм. Поэтому противопоставление фикционального текста тексту фактуальному носит не онтологический характер (на чем настаивали в пылу литературных баталий фактовики и, с заметно меньшей долей уверенности, — «новые журналисты»), — а исторически условный и даже преимущественно формальный. Реально речь идет о разных формах создания «эффекта реальности» (применительно к фактуальному тексту следовало бы говорить, возможно, об «эффекте гиперреальности»). Конструктивные различия двух типов литературного (все-таки литературного!) письма при ближайшем рассмотрении оказываются минимальны, а более значимы — различия рецептивные: у текста, претендующего на фактуальность, — другая, чем у фикционального, познавательная и эмоциональная валентность. Информация, которую он содержит, имеет для читателя другую ценность и играет другую роль в формировании его картины мира (в свою очередь, то, как будет воспринят и прочитан текст, зависит от того, какого рода установка за ним распознается).
Предпринятое нами сопоставление фигур Шкловского и Вулфа раскрывает жизнь «литературного пограничья» в другом аспекте, позволяя говорить о вариантах «экзистенциализации метода» или «экзистенциализации литературы». Мы сталкиваемся здесь с таким видом отношения к творчеству, таким способом письма, когда (воспользуемся метафорой Соссюра) бытовой текст представляет собою одну сторону бумажного листа, а текст литературный — другую, или когда, говоря словами Б. Парамонова, литература «становится индивидуальной вселенной писателя». При этом бытовой мета-текст последовательно «олитературивается», а литературный так же последовательно «обытовляется», откровенно тяготея к автобиографизму. Предметом анализа в работе стала «экономика» литературной и внелитературной действительности, но не столько обмен как таковой (он неизбежен и обязателен), сколько крайние формы этого обмена в ситуациях, когда литературный текст стремится к максимальной аутентичности передачи социального опыта, а социально-бытовое поведение — к максимальной же эстетизации.
Шкловский и Вулф, — а также типы фактуального письма, которые они стремились обосновать и с которым экспериментировали творчески — могут (и, безусловно, заслуживают того, чтобы) быть рассмотрены в более плотном и разнообразном контексте, чем это сделано в данной работе, с привлечением ряда других параллелей из русской и американской литературных традиций. В качестве возможного примера можно предложить сравнение опытов В. Шкловского и В. Розанова, с одной стороны, и Т. Вулфа и Марка Твена, с другой (из соображений концептуальной целостности и стройности диссертации этот материал отнесен в приложение — в качестве задела для будущей работы).
Общим итогом завершенного нами этапа исследования и одновременно перспективой его продолжения видится постановка проблемы «двойника» (двойника-текста и двойника-персонажа) как инстанции, связующей литературное измерение культурной жизни с повседневно-историческим и «литературную» личность — с личностью бытовой и биографической.
Список литературы
- Адамович Г. Сомнения и надежды. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
- Барт Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1994.
- Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. М.: РИК Культура, 1997.
- Беньямин В. Маски времени. С-Пб.: Symposium, 2004.
- Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992.
- Вулф Т. Новая журналистика. С-Пб.: Амфора, 2008.
- Вулф Т. Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка. С-Пб.: Амфора, 2007.
- Вулф Т. Электропрохладительный кислотный тест. С-Пб.: Амфора, 2004.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986.
- Гинзбург Л. О старом и новом. Л.: Советский писатель, 1982.
- Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
- История и повествование. Сборник статей. М.: НЛО, 2006.
- Каверин В. Эпилог. М.: Вагриус, 2006.
- Карлейль Т. Французская революция. История. М.: Мысль, 1991.
- Компаньон А. Демон теории. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001.
- Мандельштам Н. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990.
- Мендельсон М. Роман США сегодня. М.: Советский писатель, 1977.
- Оцуп Н. Современники. Нью-Йорк: Орфей, 1986.
- Несмелова О.О. Публицистическое творчество Нормана Мейлера и традиции американской документалистики. Диссертация. МГУ, 1982.
- Парамонов Б. Конец стиля. М.: Аграф, 1997.
- По Э. А. Все рассказы. М.: Эксмо, 2009.
- Пяст Вл. Встречи. М.: НЛО, 1997.
- Рассел Б. История западной философии. С-Пб.: Азбука, 2001.
- Розанов В. Уединенное. Петроград: Тип. Т-ва А. С. Суворина -«Новое время», 1916.
- Светликова И.Ю. Истоки русского формализма. Традиция психологизма и формальная школа. М.: НЛО, 2005
- Синявский А. «Опавшие листья» В.В.Розанова. Париж: Синтаксис, 1982.
- Томпсон X. С. Ангелы Ада. М.: Гудьял-пресс, 2001.
- Томпсон X. С. Страх и отвращение в Лас-Вегасе. М.: ACT, 2003.
- Уайт X. Метаистория. Ектб.: Изд-во Уральского университета, 2002.
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2008.
- Хайнлайн Р. Чужак в стране чужой. М.: Эксмо, 2007.
- Ханзен-Лёве О. Русский формализм. М.: Языки русской культуры, 2001.
- Ходасевич В. Портреты словами. М.: Советский писатель, 1987.
- Чуковский К. Дневник 1901−1929. М.: Советский писатель, 1991.
- Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. В 3-х томах. М.: Согласие, 1997.
- Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. М.: Советский писатель, 1961.
- Шкловский В. Жили-были. М.: Советский писатель, 1966.
- Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983.
- Шкловский В. Гамбургский счет. Предисловие А.Чудакова. М.: Советский писатель, 1990.
- Шкловский В. Еще ничего не кончилось. М.: Пропаганда, 2002.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Эрлих В. Русский формализм: история и теория. С-Пб.: Академический проект, 1996.
- Эйхенбаум Б.М. Мой временник. С-Пб.: ИНАПРЕСС, 2001.
- Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987.1.
- Arthur, A. Literary Feuds. A Century of Celebrated Quarrels from Mark Twain to Tom Wolfe. Thomas Dunne Books, New York, 2002.
- Conversations with Tom Wolfe. Ed. by D.Scura. University Press of Mississipi, 1990.
- Dickstein, M. Gates of Eden. American Culture in the Sixties. Basic Books inc, New York, 1977.
- Fishkin, S. F. From Fact to Fiction: Journalism and Imaginative Writing in America. Baltimore: John Hopkins UP, 1985.
- Frus, P. The Politics and Poetics of Journalistic Narrative. The Timely and Timeless. Cambridge University Press, 1994.
- Hartsock, J. C. A History of American Literary Journalism. The Emergence of a Modern Narrative Form. University of Massachusetts Press Amhert, 2001.
- Hellmann, J. Fables of Fact: The New Journalism as a New Fiction. Urbana: University of Illinois Press, 1981.
- Hollowell, J. Fact and Fiction: The New Journalism and the Nonfiction Novel. Chapel Hill: University of North Carolina P, 1977.
- Johnson, M. L. The New Journalism. The University of Kansas Press, 1971.
- Kaplan, J. Mr. Clemens and Mark Twain. Simon and Schuster, NewYork, 1966.
- Mailer, N. Armies of the Night: History as a Novel, the Novel as History. Signet, NewYork, 1968 .
- Mailer, N. The Spooky Art. Some thoughts on Writing. Random House, New York, 2003.
- Norris, F. The Responsibilities of the Novelist and Other Critical Essays. Doubleday, Page & Company, New York, 1903.
- McKeaney, K. Tom Wolfe’s America. Heroes, Pranksters, and Fools. Praeger: Westport, Connecticut, 2009.
- McKeen, W. Tom Wolfe. Twayne Publishers, New York, 1995.
- Pomorska, K. Russian Formalist Theory and its Poetic Ambience. Paris, 1968.
- Ragen, B.A. Tom Wolfe. A Critical Companion. Greenwood Press, Westport, Connecticut, 2002.
- Riffaterre, M. Fictional Truth. Baltimore, London, 1990.
- The Critical Response to Tom Wolfe. Ed. by D.Shoumette. Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1992.
- Tom Wolfe. Modern Critical Views. Ed. by H.Bloom. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2001.
- Trilling, L. Sincerity and Authenticity. London, Oxford University Press, 1972.
- Watt I. The Rise of the Novel. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1957.
- Weber, Ronald. The Literature of Fact: Literary Nonfiction in American Writing. Ohio University Press, Athens, Ohio, 1980.
- Weingarten, M. The Gang That Wouldn’t Write Straight. Three Rivers Press, New York, 2005.
- Winterowd, W. R. The Rhetoric of the «Other» Literature. Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 1990.
- Wolfe, T. The New Journalism. Harper & Row. Publishers, New York, 1973.
- Wolfe, T. The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby. Pocket1. Books, New York, 1973.
- Wolfe, T. Hooking Up. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2000.
- Wolfe, T. The Electric Kool-Aid Acid Test. Bantam Books, New York, 1999.1.l
- Амелин M., Кукулин И., Отрошенко В. Язык как главный герой//Знамя, 2007, № 8.
- Аркадий Белинков. Из архива. Публикация и предисловие Н. Белинковой-Яблоковой//Знамя, 2000, № 2.
- Галушкин А. «И так, ставши на костях, будем трубить сбор.». К истории несостоявшегося возрождения Опояза в 1928—1930 гг.//НЛО, 2000, № 44.
- Дмитриев А., Левченко Я. Наука как прием. Еще раз о методологическом наследии русского формализма//НЛО, 2001, № 50.
- Зенкин С. Приключения теоретика//Дружба народов, 2003, № 12.
- Зенкин С. Вещь, форма и энергия (Русские формалисты и Дюркгейм)//НЛО, 2006, № 80.
- Зенкин С. Русская теория и интеллектуальная история-2//НЛО, 2007, № 87.
- Калинин И. История как искусство членораздельности. НЛО, 2005, № 71.
- Кобрин К. Человек 20-х годов. Случай Лидии Гинзбург (к постановке проблемы). НЛО, 2006, № 78.
- Купман Е. Вспоминая Лидию Яковлевну//Звезда, 2002, № 3. Курсанова М. Птенцы летят следом. .//Знамя, 2003, № 6.
- Левченко Я. Оге А. Ханзен-Лёве. Русский формализм//Новая русская книга, 2001, № 2.
- Левченко Я. Неявка на суд современности (комментарий к одной дневниковой записи)//НЛО, 2008, № 89.
- Материалы диспута «Марксизм и формальный метод» 6 марта 1927 г (публ., подготовка текста, сопроводит, заметки и примеч. Д. Устинова). НЛО, 2001, № 50.
- Новиков В. Филологический роман//Новый мир, 1999, № 10,
- Новикова О., Новиков В. Лихадемик//3везда, 2006, № 11.
- Новикова О., Новиков В. Патент на легендарность//Звезда, 2008, № 5.
- Парамонов Б. Формализм: метод или мировоззрение?//НЛО, 1996, № 14.
- Полотовский С. Том Вулф. Электропрохладительный кислотный тест//Новая русская книга, 2001, № 2.
- Ронен О. «Естество»//Звезда, 2002, № 9.
- Сироткина И. Русская теория: 1920−1930-е годы//НЛО, 2003, № 60.
- Сухих И. Толстой Эйхенбаума: энергия постижения (1919−1959)//Нева, 2009, № 4.
- Тиханов Г. Заметки о диспуте формалистов и марксистов 1927 года (пер. М. Поляковой)//НЛО, 2001, № 50.
- Цивьян Ю. Жест революции, или Шкловский как путаник// НЛО, 2008, № 92.
- Чудаков А. Разговариваю с Гинзбург//НЛО, 2001, № 49.
- Шкловский В. Памятник научной ошибке вторая редакция.//НЛО, 2000, № 44.
- Ямпольский М. История культуры как история духа и естественная история//НЛО, 2003, № 59.
- Ямпольский М. Различие, или По ту сторону предметности (Эстетика Гейне в теории Тынянова)//НЛО, 2006, № 80.
- Интервью 2006 года, данное Вулфом председателю Национального фонда гуманитарных наук Брюсу Коулу. http://www.neh.gov/whoweare/wolfe/interview.html