Проблема психологизма в кабардинской прозе 1960-1990 годов
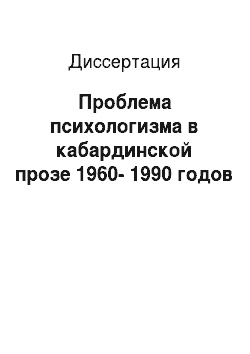
На начальном этапе кабардинской прозы наличествует «свое» понимание положительного героя, испытывающее влияние фольклорной традиции. Позже образ фольклорного героя постепенно преобразуется в значимый, с точки зрения художественного психологизма, литературный тип. Его отдельные отличительные свойства своеобразно трансформируются в характерологические черты современника, при этом в повествование… Читать ещё >
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА I. Психологизм как эстетическая категория (к постановке вопроса)
- ГЛАВА II. Нравственно-психологические принципы кабардинской прозы (рассказ, повесть)
- 2. 1. Зарождение «новой личности» в кабардинской прозе. Национальный характер в контексте исторической действительности
- 2. 2. Нравственно-этическая «иерархия» в повести Ад. Шогенцукова «Назову твоим именем»
- 2. 3. Психологические аспекты темы «человек и война» в рассказах 60−90-х годов
- ГЛАВА III. Психологические аспекты художественного исследования в кабардинском романе 1960−90-х гг
- 3. 1. Элементы психологического анализа в романе «Род Шогемоковых» X. Теунова
- 3. 2. А. Кешоков. «Сабля для эмира». Художественное исследование мотивации поведения как принцип понимания характера
- 3. 3. М. Кармоков. «А тополя все растут». Взаимоотношения среды и духовного мира человека
- 3. 4. Т. Адыгов. «Щит Тибарда»: масштабная событийность как возможность раскрытия характера
Проблема психологизма в кабардинской прозе 1960-1990 годов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Впечатляющая сила отражаемой художественной литературой действительности всегда была неразрывно связана с проблемами изображения человека.
Каждая литературная эпоха открывает новые уровни и приемы психологического анализа. Истинный художник слова, даже всецело доверяя опыту предшественников, стремится найти свой путь раскрытия сложности и многозначности человеческой натуры. Писатель видит то, что обусловлено его собственными установками, и его метод, в свою очередь, тоже является подтверждением характерологической многозначности.
Психологический анализ выступает одним из показателей уровня развития художественного мышления, его исследование уже по этой причине представляется необходимым.
Северокавказские литературоведы, изучая творческое наследие тех или иных писателей, как правило, затрагивают проблему изображения внутреннего мира человека, но последовательность приемов, выявляющая типические и характерологические качества личности, специально предметом исследования не становились. В работе заостряется внимание на художественном познании внутреннего мира, эмоциональной и интеллектуальной сферы личности в ее обусловленности явлениями окружающей жизни. Все эти аспекты функциональны для современной кабардинской прозы, поскольку, как замечает К. Шаззо в отношении тенденций северокавказской литературы, проявившихся в 1960;х гг., «незаметно изменилась структура художественного конфликта: в произведениях сократилось число описываемых событий за счет их драматизациипоступки и воззрения человека, его психология стали осмысливаться в сложнейших переплетениях жизни, вскрывающих закономерности ее эволюцииписательский взгляд координируется на отдельных, но крупных проблемах, способных показать главные тенденции эпохи и связь человеческой судьбы и психологии с ними» [104: 138].
Художественная литература стремится показать человека не только таким, какой он есть, но и таким, каким она хочет его видеть.
Актуальность темы
исследования, обусловлена тем, что рассмотренный аспект литературного творчества способствует определению идеалов и ценностей современности, а также выявлению уровня художественности отдельно взятой литературы. Рассматриваемый нами период — называемый современным — с учетом общего возраста кабардинской литературы, практически является начальным. В связи с чем вызывает интерес то, как преодолеваются издержки «раннего возраста», что именно, перенятое из опыта развитых литератур, приживается в кабардинской прозе как наиболее органичное для определенной этнической среды, какие элементы перекликаются с опытом русской литературы, какие оказываются избыточными.
Рассмотрение внутреннего мира человека может не занимать центральное место в художественном произведении, вместе с тем развернутый «психологизм сам по себе еще не является ключом к открытию жизни и созданию действительно крупных и общезначимых характеров, воплощающих ведущие движения эпохи» [71: 17], а потому важен такой исследовательский подход, при котором анализ конкретных художественных приемов будет осуществляться с учетом тех факторов, в соответствии с которыми избирается тот, а не иной принцип изображения личности. Этот момент, на наш взгляд, не учтен в полной мере в северокавказском литературоведении.
Какой статус имеет в произведении воссоздание особенностей внутреннего мира человека, как выражаются идеалы и нравственные ценности современности в том случае, если психологический ряд занимает в повествовании подчиненное положение — вопросы, вызывающие пристальное внимание к обозначенной в заглавии нашей работы проблеме.
Цели и задачи исследования. Основная цель — исследовать что и почему интересует писателя во внутреннем мире человека, каким отношением к жизни и художественным традициям обусловлен его интерес, и как он проявляется в психологической обрисовке героя. В связи с чем выдвигается необходимость решения следующих задач:
• исследовать понимание психологизма как эстетической категории (к постановке вопроса);
• изучить, как раскрывается психология героев малого и среднего жанров прозы в связи с актуальной для XX века, и особенно для судеб этнических общностей, проблемой нравственного выбора;
• выявить средства художественной изобразительности, посредством которых передается взаимодействие явлений жизни с духовным миром человека;
• проанализировать на конкретных примерах особенности проявления художественного психологизма, обусловленного спецификой жанра.
Научная новизна. В исследовании впервые предпринята попытка монографического изучения проблемы психологизма в кабардинской прозе 1960;1990;х годов. В работе специально исследуется совокупность приемов, позволяющая выделить психологические элементы в потоке художественного повествования, а также определить их место и значимость в общей структуре отдельного произведения. При этом основной упор делается на элементах, характерных для замкнутых художественных систем, какими в данном случае выступают конкретные образцы кабардинской прозы.
Кроме того, впервые объектом комплексного исследования стали некоторые произведения, не являвшиеся ранее объектом специального рассмотрения литературоведов.
Объект исследования. В качестве материала исследования взяты произведения кабардинской прозы 1960;90-х, рассмотренные в контексте б движения северокавказской и русской литератур, проанализированы, в частности, произведения Али Шогенцукова «Пуд муки», X. Теунова «Аслан», «Род Шогемоковых», X. Шекихачева «Ахмедхан», Ахм. Налоева «Водяная бабка», А. Кешокова «Сабля для эмира», Ад. Шогенцукова «Родник», «Весна Софият», «Назову твоим именем», К. Эльгарова «Чуреки из песка», Б. Журтова «Мармажей», М. Кармокова «Жизнь взаймы», «А тополя все растут», Т. Адыгова «Шит Тибарда».
Степень научной разработанности темы. Специальных монографических исследований по теме нет. Однако обойти вниманием приемы воссоздания внутреннего мира человека не приходилось ни одному исследователю, работавшему над теми или иными проблемами прозы, в частности северокавказской. В потоке оказавшейся для нас доступной литературы наиболее ценными представляются подходы, исследованные в трудах северокавказских ученых, среди них: J1. Бекизова. От богатырского эпоса к роману (Черкесск, 1974) — Р. Камбачокова. Адыгский исторический роман (Нальчик, 1999) — Л. Кашежева. Кабардинская советская проза (Нальчик, 1962) — А. Мусукаева. Северокавказский роман (Нальчик, 1993) — 3. Толгуров. В контексте духовной общности (Нальчик, 1991) — Ю. Тхагазитов. Адыгский роман (Нальчик, 1987), Эволюция художественного сознания адыгов (Нальчик, 1996) — X. Хапсироков. Пути развития адыгских литератур (Черкесск, 1968), К. Шаззо. Художественный конфликт и эволюция жанров в адыгских литературах (Тбилиси, 1978).
Стабильная установка автора на соотнесение художественного опыта северокавказских литератур с национальными и художественными традициями, характеризующая указанную монографию JI. Бекизовой, сыграла определенную роль в выборе нами исходных координат литературоведческого анализа. Более аспектной разновидностью подобного подхода являются, на наш взгляд, работы Ю. Тхагазитова, углубляющие наши представления об истоках национального мировосприятия.
Фиксация существенных для развертывания нашей концепции проблемных граней интересующих произведений — тема народа и личности, тема личности в истории и т. д. — осуществляется в монографиях JI. Кашежевой, Р. Камбачоковой, А. Мусукаевой и Р. Шетовой, Ф. Урусбиевой.
Труды 3. Толгурова, К. Шаззо и X. Хапсирокова дают необходимое при рассмотрении произведений конкретной национальной литературы представление о контекстном поле, в данном случае — это достижения северокавказской литературы, — что позволяет избежать субъективности в формулируемых выводах.
Теоретические проблемы психологического анализа художественных текстов, а также убедительные образцы этого анализа, послужившие важным подспорьем в наших собственных научных изысканиях, содержатся в трудах М. Арнаудова, Б. Блока, JI. Гинзбург, Б. Грифцова, Т. Хмельницкой и др.
Методологической основой диссертационного исследования явились труды теоретиков литературы, в частности: Ю. Барабаша, М. Бахтина, Г. Гачева, А. Иезуитова, В. Кожинова, Д. Лихачева, А. Лосева, В. Тимофеева, Б. Успенского и других.
Также учтены работы северокавказских литературоведов: А. Гутова, У. Панеш, И. Пшибиева, X. Хапсирокова, Т. Чамокова и некоторых других.
Основными методологическими принципами явились историзм, системность, единство содержания и формы.
Базовые методы работы — культурно-исторический и типологический.
Теоретическая значимость диссертационного труда состоит в дальнейшей разработке одной из актуальных проблем литературоведения: проблемы психологизма национальной прозы, а также в уяснении концепции человека в современной кабардинской прозе.
Полученные результаты могут способствовать сравнительно-типологическому изучению прозаических жанров литератур Северного Кавказа и тем самым выявлению их национальных особенностей.
Практическая значимость. Выводы и основные положения работы могут быть использованы при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров по изучению поэтики и проблематики кабардинской литературы, а также могут дополнить сведения при монографическом изучении художественных систем отдельных авторов.
Апробация работы. Основные положения исследования доложены на Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива — 2005» (Нальчик, 2005) и на международном научно-методическом симпозиуме «Лемпертовские чтения VI 18−19 мая 2004» (Пятигорск, 2004), а также отражены в пяти публикациях.
Диссертационное исследование обсуждено на расширенном заседании кафедр русской литературы, кабардинского языка и литературы Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова.
Структура диссертации определена поставленными в ней целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Предпринятое исследование позволяет прийти к некоторым обобщающим результатам по затронутой проблеме.
Основополагающий фактор, который определил направленность наших размышлений, образован тем, что молодой возраст кабардинской литературы создает условия, которые не могут не сказаться на принципах ее исследования. В основном приходится не столько судить о сложившихся формах художественного психологизма, сколько определять их в общем потоке повествования, констатировать их художественную значимость. На начальных этапах литературы задача установления сложности и неоднозначности духовного богатства человека не осознается писателями настолько четко, чтобы об этом можно было судить как о явлении.
Тенденции расширения или сужения сферы психологического анализа непосредственно связаны с вопросом о том, как показывать человекапрежде всего через его дела и поступки или же, вторгаясь во внутренний мир, обнажать течение его мыслей, чувств и переживаний. Изображение людей через их дела и поступки порой приобретает прямолинейное и упрощенное толкование, но такая тенденция больше характерна для самых первых опытов кабардинской прозы.
На начальном этапе кабардинской прозы наличествует «свое» понимание положительного героя, испытывающее влияние фольклорной традиции. Позже образ фольклорного героя постепенно преобразуется в значимый, с точки зрения художественного психологизма, литературный тип. Его отдельные отличительные свойства своеобразно трансформируются в характерологические черты современника, при этом в повествование «вкрапливаются» определенные речевые обороты, афористические характеристики, узнаваемые поведенческие стереотипы, особо активизируются приемы создания психологического портрета, возрастает роль пейзажа, символизируются бытовые детали, что особенно наглядно проявляется в рассказах и повестях.
Писатель всегда приходит к определенному решению в психологическом наполнении характеров, эти решения могут быть сходными у разных авторов, но в самой системе психологических мотивировок у кабардинских авторов наблюдаются немаловажные различия, обусловленные не только правдивостью индивидуальных характеров, но и структурными особенностями каждого из произведений.
Произведения рассматриваемого периода, в подавляющем большинстве, не были прямо рассчитаны на исследование психологии человека, что ни в коей мере не умаляет их художественных достоинств. Предпочтение подчас отдается событийному ряду, а не психологическому. Объяснение внутренних побуждений человека в таких случаях не является идейным или сюжетным центром произведения. В центре оказывается нечто другое, и это вполне закономерно: не следует забывать, что психологизм — не только показатель уровня художественного мастерства писателя, но такжеопределенная составная конкретного произведения, и в этом качестве может быть подчинен реализации других, наиболее значимых с точки зрения структуры произведения, задач.
В кабардинской литературе 1960;1990;х гг. однозначно превалирует реалистический психологизм. При этом переживания героев могут отслеживаться как в линейной, так и в концентрической последовательности.
Началом, создающим и организующим в повествовании характеры, выступает сюжет. Ярким примером тому служит историко-философский роман, выдвигающий в личности героя на первый план видовое, всечеловеческое. Важно подчеркнуть, что в общем объеме «.адыгский эпос тяготеет к исторической тематике. Это в первую очередь обусловлено самой судьбой народа, теми событиями, которые имели место в его жизни» [41: 54]. Роман такого плана активизирует функцию авторского начала, которое, в свою очередь, обнаруживается у разных художников слова по-разному, но приводит в результате к выявлению каких-то сторон, граней идейного замысла, авторских концепций, изображению явлений жизни во взаимодействии с духовным миром человека.
Не исключено, что в романе реализация идейного замысла может не вмещаться в рамки единой событийной основы. Но безучастность, отстраненность повествовательного начала в большом жанре кабардинской прозы всегда кратковременна. Существенной особенностью композиции романа является сменяемость значительных по масштабам и размерам сцен, эпизодов, представляемых в каких-то своих гранях то монологом героя, то лирическим отступлением, то несобственно-прямой речью.
Историко-философский и историко-бытовой романы (X. Теунов, А. Кешоков, Т. Адыгов) представили немало интересных проявлений авторской субъективности, связанной с жанровыми особенностями произведения и нацеленной именно на изображение внутреннего мира, психологии человека.
Взаимодействие явлений жизни с духовным миром человека сложно и в каждом отдельном случае неповторимо. Оно передается разными средствами художественной изобразительности. Но, «как бы ни декларировал художник, что его интересует жизнь в целом, вся действительность — это всегда декларация неосуществимого. На деле он делает выбор» [44: 100].
Вряд ли можно усомниться в том, что жанровые особенности прозы позволяют полнее охватить проявления человеческой натуры. Так, в жанрах малой прозы психологизм более напряженный, в романе — более развернутый, но для кабардинского романа воссоздание своеобразия личности, духовного бытия, не является первоочередной задачей. На это можно возразить, что объем задействованного в представленном исследовании материала не дает оснований для подобных выводов. Действительно, из довольно значительного романного достояния кабардинской литературы нами отобрано лишь несколько наименований. За исключением произведения X. Теунова, во всех случаях наш выбор диктовался малой степенью освещенности разбираемых нами романов в критических работах. Кроме того, размышления над жанром романа играют здесь роль, подчиненную общей логике исследования. Для нас важно уяснить: как проявляются особенности художественного психологизма под воздействием специфики жанра. Тем не менее, познания, имеющиеся относительно романного творчества писателей, имена которых не вошли в наше исследование, а также особенности некоторых других произведений затронутых нами авторов, позволяют сделать определенные выводы.
Несмотря на то, что принцип всестороннего исследования характера имеет больше шансов быть выраженным в эпически протяженных произведениях, изученный материал свидетельствует: кабардинских романистов не интересует сама по себе многогранность и сложность человеческой психологии. Писателей преимущественно волнует, если можно так выразиться, «преобразующая» способность человеческой личности, то, как совмещаются последней разные веяния времени, преодолеваются обстоятельства, преображается действительность — все богатство средств психологического анализа подчиняется раскрытию этой задачи.
Характер человека в кабардинской прозе гораздо реже является тайной, нежели фактором движения жизни, чем, вероятно, обусловлено преобладание в больших и малых жанрах эксплицитного психологизма.
Предпринятое исследование, осветив лишь некоторые аспекты обозначенной темы, может послужить отправной точкой для обработки ее более частных моментов, таких, например, как специфика построения диалогической речи, как средства психологического анализа, индивидуальные методы психологизации пейзажа в кабардинской прозе и др.
Список литературы
- Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. М., 1987. — 384 с.
- Барабаш. Алгебра и гармония. М., 1977. — 224 с.
- Батенин С. Человек в его истории. Л., 1976. — 295 с.
- Бахтин М. М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. — 336 с.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. — 318 с.
- Бекизова Л. От богатырского эпоса к роману. Черкесск, 1974. — 288 с.
- Белая Г. Художественный мир современной прозы. -М., 1983. 191 с.
- Веселовский А. Историческая поэтика. Л., 1989. — 404 с.
- Гагаев А. А., Гагаев П. А. Художественный текст как культурно-исторический феномен. Теория и практика прочтения. -М., 2002. -184с.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М., 1998. — 432 с.
- Гачев Г. Д. Образ в русской художественной культуре. М., 1981. -247 с.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968.-302 с.
- Герасименко А. Русский советский роман 60−80-х годов. М., 19 898. -202 с.
- Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1977. -412 с.
- Грифцов Б. А. Психология писателя. М., 1988. — 462 с.
- Гулыга А. В. Уроки классики и современность. М., 1990. — 288 с.
- Гуртуева Т. Б. Маленький человек с большой буквы: Очерки творчества. Нальчик, 1994. — 207с.
- Гутов А. М. Поэтика и типология адыгского нартского эпоса. -М., 1993.-198 с.
- Гутов А. М. Слово и культура. Нальчик, 2003. — 160 с.
- Джусойты Н. Книга друзей. Нальчик, 2003. — 176 с.
- Днепров В. Проблемы реализма. Л., 1960. — 352 с.
- Добин Е. Сюжет и действительность. М., Советский писатель, 1976. -317с.
- Заблуждающийся разум. Многообразие вненаучного знания. М., 1990.-464 с.
- Заморий Т. П. В поисках героя-современника: героическое начало в современной прозе. — Киев, 1990. 210 с.
- Затонский Д. Художественные ориентиры XX века. М., 1988. — 416 с.
- Иванников В. А. Психология сегодня. М., 1981. — 96 с.
- Иванова Л. Современная советская проза о Великой Отечественной Войне.-М., 1979.-200 с.
- Иванова Н. Б. Точка зрения: о прозе последних лет. М., 1988. — 213 с.
- История русского советского романа. М.- Л., 1965. — 715 с.
- Камбачокова Р. Адыгский исторический роман. Нальчик, 1999. — 116 с.
- Кауфов X. В зеркале социальной жизни. Нальчик, 1980. — 256 с.
- Кашежева Л. Н. Кабардинская советская проза. Нальчик, 1962. — 148 с.
- Кашина Н. В. Человек в творчестве Ф. М. Достоевского. М., 1986. -318 с.
- Кожинов В. Происхождение романа. М., 1963. — 439 с.
- Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972. — 495 с.
- Культурная диаспора народов Кавказа. Генезис, проблемы изучения. -Черкесск, 1993.-206 с.
- Лазутин С. Поэтика русского фольклора. М., 1981. — 223 с.
- Лурия А. Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону, 1998. — 416 с.
- Манн Ю. Диалектика художественного образа. М., 1987. — 320 с.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. -М., 1976. 408 с.
- Мир культуры адыгов. Майкоп, 2002. — 516с.
- Мир культуры. — Нальчик, 1990. 206 с.
- Многонациональный советский роман. Закономерности развития современного романа. М., 1966. — 307 с.
- Мусукаева А. X. Ответственность перед временем. Нальчик, 1987. -167 с.
- Мусукаева А. X. Поиски и свершения. Нальчик, 1978. — 140 с.
- Мусукаева А. X. Северокавказский роман. Нальчик, 1993. — 191 с.
- Мусукаева А. X., Шетова Р. А. Художественный мир Хачима Теунова. Нальчик, 2002. — 92 с.
- Надъярных Н. Типологические особенности реализма. М, 1972. — 246 с.
- Образ человека и индивидуальности художника в западном искусстве XX века. -М., 1984.-е.
- Оскоцкий В. Роман и история. Традиции и новаторство советского исторического романа. М., 1980. — 384 с.
- Проблема национальной идентичности в культуре и образовании России и Запада. Материалы научной конференции в 2-х т. -Воронеж, 2001.
- Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. — 325 с.
- Психология эмоций. Тексты. — М., 1984. 288 с.
- Пшибиев И. Эхо времени. Нальчик, 2000. — 168 с.
- Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М., 1979. -392 с.
- Рубинштейн С. JI. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. М., 1957. — 312 с.
- Современный словарь иностранных слов. М., 1992. — 740 с.
- Султанов К. К. Динамика жанра: Особенное и общее в опыте современного романа. М., 1989. — 153 с.
- Сучков Б. Исторические судьбы реализма. М., 1970. — 453 с.
- Текст: Семантика и структура. М., 1983. — 302 с.
- Теракопян JI. А. Параллели и пересечения: Современная проза: герои, проблемы, конфликты. — М., 1984. с.
- Тимофеев В. В. Пути художественного исследования личности. JL, 1978.-309 с.
- Толгуров 3. X. В контексте духовной общности. Нальчик, 1991. — 208 с.
- Тхагазитов Ю. М. Адыгский роман. Нальчик, Эльбрус, 1987. — 110с.
- Тхагазитов Ю. М. Эволюция художественного сознания адыгов. -Нальчик, 1996.-256 с.
- Урусбиева Ф. Портреты и проблемы. Нальчик, 1990. — 164 с.
- Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970. — 225 с.
- Федь Н. М. Путешествие в мир образов. М., 1978. — 288 с.
- Философский словарь. -М., 1991. 560 с.
- Фридлендер Г. Поэтика русского реализма. JL, 1971.-291 с.
- Хакуашев А. Адыгские просветители. Нальчик, 1978. — 259 с.
- Хашхожева Р. Адыгские просветители второй половины XIX начала XX века. Нальчик, 1963.-184 с.
- Хашхожева P. X. Адыгские просветители второй половины XIX -начала XX века. Нальчик, 1983. — 244 с.
- Хмельницкая Т. Ю. В глубь характера. Л., 1988. — 256 с.
- Художественное творчество и психология. -М., 1991. — 192 с.
- Чамоков JI. М. В ритме эпохи. Нальчик, 1986.
- Шогенцукова Н. А. Лабиринты текста. Нальчик, 2002. — 224 с. 1.
- Аннинский Л. Вариант спасения? (Заметки о прозе 70-х гг.) // Октябрь. 1990. — № 5. — С. 190−197.
- Ахметова Г. Возвращение к пройденному: о композиционных особенностях русской прозы 20−30-х и 80−90-х гг. XX века // Филологические науки. 2003. — № 1. — С. 45−53.
- Блок Б. Б. Сопереживание и сотворчество // Психология процессов художественного творчества. Л., 1980. — С. 31−56.
- Гурболикова О. А. Множество авторских миров: из заметок о современной отечественной прозе // Книгочей. 1 полугодие. Часть 5. -1996.-С. 6−15.
- Замятин Е. И. Психология творчества // Психология процессов художественного творчества. JL, 1980. — С. 158−162.
- Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А. В истине жизни // Психология процессов художественного творчества. Л., 1980. — С. 170−190.
- Можейко М. А. Антипсихологизм // www.velikanov.ru
- Немзер А. Взгляд на русскую прозу в 1997 году // Дружба народов. 1998. -№ 1.- С. 159.
- Психологизм // devede.narod.ru
- Слюсарева И. Вхождение в круг (О русской прозе «новой волны») // Новый мир. 1992. — № 12. — С. 260−265.
- Солодуб Ю. П. Текстообразующая функция символа в художественном произведении // Филологические науки. 2002. — № 2 с. 46−59.
- Чех А. Символ и миф: к проблеме генезиса // philolog.ru
- Шехтман Н. А. Лингво-культурные аспекты понимания // Филологические науки. 2002. — № 3. — С. 50−58.
- Адыгов Т. Щит Тибарда. М., 1988. — 272 с.
- Кармоков М. А тополя все растут. Нальчик, 1994. — 384 с.
- Кармоков М. Бурный Баксан: Рассказы. М., 1984. — 240 с.
- Кешоков А. Вершины не спят. М., 1970. — 447 с.
- Кешоков А. Грушевый цвет. -М., 1981. 303 с.
- Кешоков А. Сабля для эмира. М., 1986. — 348 с.
- Кешоков А. Сломанная подкова. М., 1978. — 512 с.
- Мазихов Б. Пора листопада. М., 1988. — 272 с.
- Мир дому твоему: Избранная проза народов Северного Кавказа: Сборник. Нальчик, 2003. — 256 с.
- Налоев А. Пчелиный рой: Повести и рассказы. Нальчик, 1988. -216 с.
- Пленники Шайтановой пещеры /А. Ю. Кучинаев/ Ларец принцессы Атекс /А. А. Глашев./ Натюрморт с чайкой. Лунные мальчики /А. Л. Макоев. Нальчик, 2005. — 216с.
- Подкова: Рассказы. Нальчик, 1990. — 256 с.
- Теунов X. Избранное. М., 1967. — 427 с.
- Хажкасимов X. Млечный путь: Повести и рассказы. Нальчик, 1994.-288 с.
- Шогенцуков А. Избранное. М., 1957. — 310 с.
- Шогенцуков А. Избранные произведения (на кабардинском языке). Нальчик, 2000. — 432 с.
- Шогенцуков Ад. Повести. М., 1986. — 272 с.
- Эльгаров К. Ночное солнце. М., 1984. — 256 с.