Взаимодействие научной элиты и политической элиты в США и России.
Сравнительный историко-политологический анализ
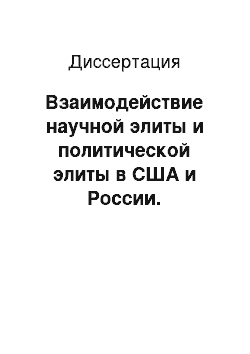
Особое значение имеет то обстоятельство, что современная научная элита обладает ответственностью, высоким социальным статусом и значительным социальным престижем. Разнообразная и сложная социальная Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации. М. 2001. С. 100. Пинегина Л. А. Короля играет свита (Художественная интеллигенция в условиях культа личности) // Интеллигенция в условиях… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. Этатизм и милитаризм в деятельности научных элит США и России на этапе индустриального развития
- 1. 1. Научная элита США и основные направления взаимодействия с правительством в 1920 — 1950-х гг
- 1. 2. Политическая этатизация и репрессии научной элиты в условиях формирования и функционирования тоталитарного режима в СССР
- ГЛАВА 2. Взаимодействие научной и политической элит США и России в условиях перехода к постиндустриальному развитию
- 2. 1. Политическая детерминация деятельности научных элит в условиях противостояния США и СССР
- 2. 2. Возрастание влияния научных элит на внешнюю политику и внутриполитический процесс СССР и современной России
Взаимодействие научной элиты и политической элиты в США и России. Сравнительный историко-политологический анализ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
диссертационного исследования. Переход человечества к информационному обществу означает резкое усиление влияния науки на политические процессы. Наука всегда использовалась в политическом процессе как источник полезных знаний технологий, но в современных условиях она стала просто незаменимой для политиков. Научное сообщество стало способно влиять не только на общественное мнение и на интеллектуальный климат, в котором протекает политический процесс, но формировать направления внешней и внутренней политики. В силу того, что управление всегда и везде в мире находится в руках профессионалов, получивших соответствующий мандат доверия от народа, научные элиты взяли на себя функции обслуживания власти и стали предметом постоянного внимания политических элит. На высшем уровне научного сообщества интеллектуальное влияние имеет ярко выраженное политическое измерение в форме воздействия непосредственно на окружение высших должностных лиц государства, лидеров партий, движений, парламентских фракций, СМИ, предпринимателей, институты гражданского общества. Наконец, в последнее время прослеживается тенденция прямого вхождения ученых в политику не только в виде экспертов, но в качестве профессиональных политических деятелей, что по-новому отражает всю проблему взаимодействия элит науки и политики. Но активное вовлечение ученых в политическую жизнь имеет и негативные последствия. На Западе общественность давно улсе забила тревогу относительно «тирании экспертизы», то есть такой ситуации, при которой профессиональные знания политики у представителей научной элиты заменяют для политиков демократический выбор народа. В перспективе элитарный экспертный анализ может расходиться с желаниями широких масс. Поэтому политики в демократических обществах вынуждены зачастую балансировать между «передовым» рационализмом ученых и «отсталым» массовым общественным сознанием. Все это свидетельствует о том, что необходим специальный эли-тологический анализ данного процесса.
Степень разработанности проблемы. Проблема научной элиты и ее взаимодействия с властью давно исследуется учеными-политологами. Однако если западные исследователи исходят из методологии, принятой в системе политических наук, то для отечественных ученых в исследовании данной проблемы характерен более широкий науковедческий подход. В России создана обширная литература по проблеме функционирования научного сообщества в условиях СССР. В этой связи следует назвать таких историков отечественной науки, как Ю. Н. Афанасьев, А. И. Аврус, А.Г. Берляв-ский, П. В. Волобуев, А. Е. Иванов, В. И. Жуков, В. П. Яковлев, Э. Кольман, И. М. Губкин, Ю. Осмос, В. Сойфер, A.M. Самарин, И. С. Смирнов, В. Д. Есаков, JI.M. Зак, А. А. Никонов, М. Е. Главцкий, П. В. Алексеев, М. С. Геллер, Ю. Сте-цевский, JI.A. Опенкин, С. Э. Шнель, М. Г. Ярошевский и др.
А.С. Макарычев, Л. Д. Савельев, С. А. Кугель, И. А. Майзель, В. Ж. Келле продуктивно осваивают опыт англо-американских политологов в изучении данного вопроса и пытаются самостоятельно применить методы и результаты своих исследований к современной России1. Выходы на отдельные сюжеты проблемы имеются в работах Г. К. Ашина, Е. В. Охотского, С. П. Перегудова, А. В. Понеделкова, A.M. Старостина, С. А. Кислицына и др. В литературе часто используется более широкий термин «элита знаний» (knowledge elite), в отечественной — «интеллектуальная элита». В российской традиции популярны понятия «интеллигенция» и «научная интеллигенция», характеризующие не просто узкий слой специалистов-интеллектуалов, а, прежде всего, особый слой людей, для которого характерно сочетание профессионализма с самодовлеющими нравственными качествами, типом мышления и поведения, ориентированном не на науку и технику, а на бескорыстное «служение народу». Научная элита понимается как функциональный тип интеллигенции, ко.
1 Макарычев А. Взаимодействие научной и политической элит: теория вопроса и практика Нижегородской области // Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. — М.: МОНФ, 1999 ~ Интеллектуальная элита Санкт-Петерб>рга. Ч. 2. Кн. 1. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов, 1994. торый связан с возложенной на него функцией обеспечения духовного и интеллектуального развития общества1, а интеллигенция это «духовная элита общества». Но в классическом понимании интеллигенции, к ней традиционно относятся практически все более-менее образованные люди (в том числе не имеющие высшего образования), являющиеся носителями социальной памяти и опыта народа. Интеллигенция это не узкий фиксированный слой высо-коквалицифицированных специалистов и ученых, а некое аморфное, постоянно рефлектирующее, расколотое по политическим симпатиям и антипатиям, не имеющее собственности межклассовое образование, которое не без оснований именовалось «прослойка». Не случайно в среде отечественной интеллигенции проявлялись тоталитарные модели политического поведения2. В литературе отмечается, что в 1930;1950; гг. группы писателей сами ожесточенно пожирали друг друга, призывая власти уничтожить своих соперников и конкурентов. Главной особенностью интеллигенции советского периода было «поведенческое двуязычие» и «двойное сознание» интеллигенции3. Еще больше вопросов вызывает позиция той части современной российской интеллигенции, которая отказалась от традиционной защиты прав «сирых и убогих», социальных прав широких масс рабочих и крестьян, но активно защищает права махинаторов-олигархов, националистов-сепаратистов, поддерживает власть имущих. В условиях информационной революции часть интеллигенции обретает материально значимую интеллектуальную собственность и включается в качестве «среднего класса» в социальную структуру нового общества. В этой связи и понятие «научная интеллигенция», обнимающее векторы науки и нравственности, начало менять свой изначальный смысл.
Особое значение имеет то обстоятельство, что современная научная элита обладает ответственностью, высоким социальным статусом и значительным социальным престижем. Разнообразная и сложная социальная Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации. М. 2001. С. 100. Пинегина Л. А. Короля играет свита (Художественная интеллигенция в условиях культа личности) // Интеллигенция в условиях общественной нестабльности.М. 1996. С 100 J Кормер а. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура, ivi. iyy7. С. 226−227 структура общества порождает адекватную структуру элиты: властная, политическая, финансовая, военная, научная и др. В работе А. Д. Савельева показана классификация научной информационно-когнитивной элиты, которая является элитой проектной культуры1. А. И. Ракитов отмечает необходимость функционирования научно-технической элиты, способной к разработке, восприятию и внедрению новых технологий, особенно наукоемких технологий завтрашнего дня". Бывший министр науки и образования Б. Г. Салтыков в качестве принадлежности ученых к элитному слою отмечает подтвержденный мировой уровень их исследований3. С. А. Кугель, И. А. Майзель и др. отмечают динамичность научной элиты, постоянство процессов выбывания и восхождения новых ее индивидов, выделяют горизонтальный и вертикальный срезы научной иерархии и отмечают два типа элиты: творческую и административно-управленческую4. Наряду с формально-вторичными признаками творческой элиты, такими, как количество публикаций, частота цитируемо-сти, научные звания и премии, авторы выделяют новый признак — эпонимию, т. е. стихийное, естественно совершающееся присвоение имени ученого открытому им принципу, закону, созданному им учению, а также признание научным сообществом научной школы.
Как подчеркивают О. Жаренова, Н. Кечил. Е. Пахомов, «научная элитасложная система. Все ее элементы находятся в формальных и неформальных, явных и скрытых связях между собой. Эта система способна развиваться и обновляться, в известных пределах, сама восстанавливать утраченное. Вместе с тем она хрупка, уязвима и выпадение (разрушение) тех или иных элементов может сравнительно легко поставить ее на грань распада"5. По мнению Б. М. Фирсова в России можно называть научной элитой таких уче.
1 Пузанов В. И. Проектная культура Америки: образование //США — экономика, политика, идеология. 1993. № б. С. 14−20.Никитаев В. В. В поисках самостоятельности (Технологическое развитие и инженерное образование) // Высш. обр, в России. 1994. С 2. Проскурин А. Процессы Элитообразования: исторический и прогностический аспекты. Народное образование // Alma mater. 1993. № 2. С. 43−48. «Ракитов А. И. Конверсия, трансфер, образование //Вуз и рынок. Кн. 3. Часть I. М.: Пресс-сервис, 1993.
3 Поиск. 1994. № 30 (272). 12−18 авг.
4 Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1993.
5 Жаренова О., Кечил Н., Пахомов Е. Интеллектуальная миграция россиян. Ближнее и дальнее зарубежье. М.2002. С. 57. ных, которые обладают помимо знаний, научным и жизненным опытом для того, чтобы исполнять роль наставников новых поколений. При этом выделяется слой постэлиты, — специалисты, которые добились высокого статуса в науке, хотя часть из них уже не создает новых идей и подписывает чужие труды. Второй слой — креативная элита (ученые в возрасте от 25 до 55 лет). Третий слой — предэлита (эмбриональная элита), к которой принадлежат наиболее талантливые студенты, аспиранты и молодые докторанты. Сознавая свою особую миссию, научная элита претендует на определенную власть в государстве, прежде всего на право формировать научную и образовательную политику. В. Ж. Келле под научной элитой понимает наиболее привилегированную и высокооплачиваемую часть научного сообщества. В большинстве стран имеется особый слой ученых-политиков, которые принадлежат как научной, так и политико-административной элите1.
Для управленца-политика наиболее важным качеством является способность творчески перерабатывать и применять информацию к решению профессиональных задач2. Необходимо отличать сущность творческой личности от личности властных и политических структур, — пишет А. В. Кокин, -так как последние используют для своих целей механизм подавления группы, толпы, общества. Поэтому, нужно учитывать происхождение, фазы карьеры, итоги деятельности ученых, характер участия в политике, типы научного объединения, степень заинтересованности государства в их деятельности и т. п. Политическое управление как один из типов управленческой деятельности, требует всемерной концентрации внимания политика на задачи формирования гармонизации и предъявления общественного, государственного интереса, здесь в первую очередь нужен не интеллект, а приоритет общественных над личными интересами. Но это качество важно и для ученых, причастных к большой политике. Осознание научной элитой своей роли в политическом процессе может стать основой ее внутренней консолидации и разработ.
1 Лоутон А., Роу Э. Организация и управление в государственных учреждениях. М.: ИНИОН, 1993.. «Пызин В. А, Политическая профессионология. Профессиональный выбор и отбор персонала управления.
1999. С. 162. ки собственной политики взаимодействия с политическими, партиями, финансовыми учреждениями, правительственной бюрократией, гражданскими сообществами и другими субъектами политического процесса.
В зарубежной литературе имеется ряд работ, в которых анализируются формы воздействия политики на науку. В США этот процесс нашел отражение в трудах Ванневера Буша, Артура Комптона, Джеветта, Дэвида Лилиен-таля, Гувера, Джеймса Конанта, Страусса, Киллиана, Фишера, Холлингса, Морроу. Патрик Дж. МакГрат в монографии «Ученые, бизнес, и государство. 1890−1960». (2002), подробно осветил процессы взаимодействия науки и политики в США, что позволило нам выйти на уровень сравнительно-политологического анализа опыта США и России1. В англо-американской литературе продуктивно рассматривается интеллектуальная элита общества, обеспечивающая преемственность культуры, поведения, образа жизни и мышления, а уровень интеллигентности связывается преимущественно с уровнем образованности. М. Фридман писал, что в современных условиях резко выросла роль интеллектуального труда в судьбах человечества. Поэтому необходимо создать условия для расширенного воспроизводства интеллектуальной элиты общества на основе развития конкуренции вузов и отказа от государственного субсидирования образования. Д. Белл. Д. Харт, Ф. Фете доказывали, что в условиях НТР главная роль в обществе принадлежит технократам, причем именно научная элита является лидирующей группой, направляющей власть имущих. Но К. Манхейм и А. Верба писали об ученых, как «свободно парящих интеллектуалах», сами выбирающими степень сотрудничества с государством и обществом. П. Тамаш определяет элиту, как сообщество ученых, действующее в области науки, образования, средств массовой информации и в среде политических советников. Такое сообщество контролирует формирование системы символов, культурных ценностей, мифов, из которых складываются согласованные идеологии. Тем самым оно влияет на состояние общественного сознания и на возможность его мобили PatricJ. McGrath. Scientists, Business and the State. (1890−1960). The University of North Carolina Press. 2002. зации для достижения поставленных целей. Научная элита должна иметь: а) общий интерес для влияния на политическую элитуб) относительно однородные воззрения на политические проблемы среди экспертов, работающих вместев) общий социальный статус членов группыг) интенсивную систему внутренней коммуникациид) внешнюю активностье) институциональную основу. Участие элитных интеллектуалов в разработке основ политического курса в идеале должно способствовать улучшению качества проводимой политики правящей политической элиты. Но включенные в политический процесс ученые становятся, не просто «вторичными агентами власти», а ее активными участниками со своими собственными амбициями и претензиями. Проблема воздействия ученых и научных идей на политику и наоборот сводится к формированию определенного механизма взаимодействия научной и политической элит.
Теоретико-методологической основой работы стали труды классиков элитологии В. Парето, Г. Моска. Р. Михельса, так же В. Освальда, М. Вебера, П. Сорокина, К. Манхейма, А. Тойнби и др. Базовый методологический подход к определению научной элиты предложил В. Парето: элита как вершина пирамиды общества подразделяется на две части прямо или косвенно принимающие участие в управлении обществом («правящая элита»), а другая реализуется в художественной или научной сферах («неуправляющая элита»). Касаясь научной элиты, В. Парето писал: «Опыт показывает, что индивид может, как бы разделиться надвое и до некоторой степени освободиться от своих иллюзий, предрассудков и верований, когда берется за научное исследование». Такой индивид — гений. Отдаваться во власть эмоций, предрассудков — удел заурядных личностей с умеренным талантом1. Этот подход к классификации научной элиты развил В. Оствальд. Из всех особенностей, отличающих исследователя, самая важная, по его мнению, это оригинальность, которая носит по преимуществу характер врожденного или первоначального дарования. Г. Селье назвал следующие умственные и физические качества История буржуазной социологии XIX — начала XX века. М.: Наука, 1979. научной элиты: 1) энтузиазм и настойчивость- 2) оригинальность- 3) интеллект- 4) этика- 5) контакт с природой- 6) контакт с людьми. Признаки выделения лучших, ярких, талантливых исследователей, даже гениев в составе научной элиты, были различные в исторические эпохи. А. В. Кокин отмечает, что «признание обществом гениальности личности зависит от уровня развития общества, которое в зависимости от уровня его готовности может выбрать или нет эту дорогу, и оградить себя и личность гениев от случайных флуктуаций1.
Раскрытие процесса создания реального механизма взаимодействия может быть лучше всего реализовано в рамках, прежде всего, современного элитологического методологического подхода. В частности теория демократического элитизма обосновывает особую роль интеллектуальной элиты в демократическом обществе, поскольку различные ее элементы и компоненты имеют свои собственные особые интересы, вписывающиеся определенным образом в общую политическую демократическую систему. В каждой развитой, с научной и экономической точки зрения, стране в среде научной интеллигенции возникают особые интеллектуальные сообщества, которые стремятся как к внутренней консолидации, так и к установлению приемлемых взаимоотношений с политическим истеблишментом, правительственной бюрократией, военной элитой, политическими партиями, бизнес-элитой, религиозными общинами и т. п. Политика в рамках такого подхода рассматривается как результат соглашений или конфликтов между относительно организованными элитными группами, но в приоритете государства. М. Фуко постоянно обращал внимание на необходимость рациональной детерминации науки общественными и правильно понятыми государственными интересами2.
Эмпирической базой исследования являются сборники документальных материалов, прежде всего сборник архивных документов «Академия на Кокин А. В. Феномен интеллекта. С. 188. «Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2005. ук в решениях Политбюро, ЦК РКП (б)-ВКП (б)-КПСС. 1922;1991». (М. 2000) Важными источниками информации стали конкретно-социологические опросы ВЦИОМ, РНИСНП. В работе использованы опубликованные архивные материалы И. В. Курчатова, В. И. Вернадского, И. П. Павлова и др. выдающихся ученых. Большую роль играют мемуары очевидцев и участников важнейших научных событий и формирования научной политики государственных органов управления В. А. Геловани, В. Н. Сойфера и др. Отметим воспоминания П. А. Судоплатова, который дал интересные, отнюдь не мемуарные сравнительные характеристики научной элиты СССР и США. Принципиальное значение имела 4-х томная «История США» под редакцией Г. Н. Севость-янова. Фундаментальная монография «Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки» (СПб. 2003) содержит обширный фактологический материал по развитию науки ведущих стран Европы, Америки, Азии в условиях революций и войн. В работе использованы материалы сети Internet.
Объектолг исследования является научная элита США и России (СССР) на индустриальном этапе и переходе к постиндустриальной эпохе.
Предметом исследования выступают взаимоотношения научной элиты с политическими элитами США и России.
Целью диссертационной работы является сравнительный анализ опыта взаимодействия в XX веке научных и политических элит и государства на примере двух ведущих стран в мировой политике — США и России (Российской империи — СССР — Российской Федерации), выявление в нем общего и особенного, основных тенденций формирования современного механизма взаимодействия элит.
Задачи исследования:
— проанализировать процесс развития научной элиты и ее взаимоотношения с политической элитой в США в эпоху индустриального развития;
— выявить основные тенденции воздействия государства на научные элиты в СССР в условиях функционирования тоталитарного режима;
— выяснить характер взаимодействия научной элиты США с правительством в условиях холодной войны и на современном этапе постиндустриального развития;
— определить основные направления взаимодействия научной элиты с властью в условиях посттоталитарного политического режима и перехода России к постиндустриальному развитию.
Проведенное диссертационное исследование позволяет выделить приращение научных знаний по данной теме. В содержательном плане научная новизна заключается в следующем:
— предпринята попытка провести сравнительно-политологический анализ взаимодействия научных и политических элит России и США;
— выявлена тенденция развития научного милитаризма США и этатизма в СССР как базисное основание взаимодействия научной и политической элиты в этих странах;
— выявлена частичная амбивалентность научной элиты США и СССР в довоенный и военный период и обуславливающие ее причины;
— показана определяющая роль парадигмы холодной войны на формирование технократической модели взаимодействия научной элиты и политического истеблишмента в США и партийно-государственного аппарата в СССР;
— определены причины, характер и особенности возрастания роли научной элиты в политическом процессе в США и современной России.
Основные положения диссертации, выноышые на защиту:
1. Научной элитой государства на современном этапе является общность специалистов высочайшей квалификации, имеющих мировое или государственное (национальное) признание, добившихся наивысших результатов в области научного знания, эффективно действующих в сферах организации науки, высшего образования, социально-политического консалтинга, обеспечивающих формирование парадигмальной системы научно-культурных символов и ценностей, обладающих высоким социальным статусом и моральным престижем, занимающих высшие позиции в научной иерархии и постоянно взаимодействующие с политическими институтами. Признанная научным сообществом и государством страта высокопрофессиональных научных лидеров формируется в рамках соответствующей иерархии на основе естественного отбора самых талантливых интеллектуалов.
2. Отличия понятий «политическая элита» и «научная элита» определяются, во-первых, сферой функционирования каждой данной группой, во-вторых, спецификой и направленностью интеллектуальных способностей, в-третьих, объемом социально-политических привилегий, наконец, в-четвертых, характером и степенью влияния на общественно-политические процессы. Как на Западе, так и в России политическая власть находится в руках немногих избранных (элитных) граждан, принадлежащих к верхушке политических и экономических кругов. Для научной элиты характерно, что принадлежность к ней определяется преимущественно индивидуальными научными достижениями в информационно-когнитивной плоскости, высоким местом научной иерархии, социальное качество является третьестепенным признаком, причем государственные интересы, не воспринимаются учеными как высшие объективные детерминанты. Механизм взаимодействия научной и политической элиты заключается в обмене, в процессе временного технократического симбиоза, результатами интеллектуальной деятельности. Этот механизм не носит постоянного характера и формируется на каждом этапе заново в рамках имеющихся конфигураций власти и науки.
3. Включение ученых-организаторов в административно-научную иерархию СССР и современной России в условиях государственного финансирования Академии наук и наличия у нее значительной материальной базы в виде НИИ, лабораторий, спецпредприятий обуславливает определенные социально-политические функции Академии Наук. Общественное значение научно-организационной работы, высокая степень участия в разработке научной политики государства являются критериями отнесения ученого к научно-организационной субэлите. Испытывая имманентную потребность оказать интеллектуальное содействие прогрессивному развитию Отечества, часть научной элиты вступает не только в информационно-когнитивные, но и в широкие социально-политические контакты. Как показывает практика, современные ученые, как гуманитарии, так и естественники, в ряде случаев убеждены, что они лучше политиков понимают перспективы политического процесса и поэтому делают попытки оказать воздействие на политических субъектов, организовать благоприятное (или наоборот) общественное мнение, наконец, непосредственно заняться политической деятельностью. Ярчайшим примером состоявшегося ухода из «большой науки» в «большую политику» является судьба академика А. Д. Сахарова, ставшего общественно-политическим лидером демократической оппозиции в СССР.
4. Процесс развития научной элиты в США протекал в благоприятных социально-экономических условиях миграции ученых из Европы в связи с приближающейся мировой войной и ее поддержки политической элитой США. Научная элита США обосновала цели, которые стали смыслами идеологии управления Америки: процветание нации и возрастание военной мощи государства. Однако надежды научной элиты США на научно-управляемое процветание и бесклассовую меритократию не только не реализовались, а на практике императивы государственно-монополистического капитализма закономерно направили выбор предметов исследования учеными в интересах военного развития. Работая в Департаменте научных исследований и развития, Комиссии по атомной энергии и лабораториях, лидеры американской науки способствовали укреплению политики научного милитаризма. В США сложилась партнерская неравноправная модель взаимодействия между независимыми учеными и военно-промышленным комплексом, что привело к моральному подавлению ученых, как в случае с Р. Оппенгеймером. Но тенденция подчинения деятельности ученых интересам государства прослеживалась в меньшей степени, чем в СССР, что было обусловлено характером социально-экономических и политических отношений. Влияние государства носило, как правило, опосредствованный характер, а участие научной элиты в выполнении заказов государства было вызвано во многом их внутренней потребностью в обеспечении процветания и безопасности нации.
5. Открытия в области военных вооружений, которые сделали ученых технократическими лидерами, привели к усилению милитаризма не только в науке, но также и в политических системах. В СССР осуществлялась жесткая этатистско-патерналистская модель взаимодействия политической и научной элиты, определяющей чертой которой явилось огосударствление научной элиты, которая включала в период режима личной власти Сталина репрессии инакомыслящих ученых. Однако нельзя утверждать, что в СССР научная политика имела исключительно репрессивный характер. Власть использовала с одной стороны, судебные и внесудебные преследования деятелей науки, давление партийно-государственного аппарата для контроля научных исследований вплоть до запрета целых научных направлений. С другой стороны, государство финансировало научные исследования, активно поддерживала часть научной элиты, демонстрировавшую эффективность и лояльность. Для советского государственного сциентизма было характерно: ориентация на форсированную модернизацию страны и создание ракетно-ядерного комплекса, централизованное планирование в системе организации наукиутилитарное отношение к научной деятельностиэкстенсивный рост сети научных организацийприоритетное развитие отраслей науки, обслуживавших тяжелую промышленность и военно-промышленный комплексидеологизация общественных наук, обеспечивающих легитимацию властиограничение свободы научных исследованийрекрутирование научных кадров, имеющих рабоче-крестьянское социальное происхождение.
6. Политический процесс, как в США, так и в СССР был невозможен без интеллектуальной составляющей. В обеих странах научная элита была результатом имманентного развития науки и выделения самых талантливых и продуктивных ее носителей. При этом она нигде не смогла быть консолидированным субъектом и выступать в качестве арбитра в обществе или противовеса официальной власти, хотя более глубоко анализировала процессы социально-политической динамики. Нельзя говорить, что это качество научной элиты проявляется только в советском обществе, где ее приучали к обслуживающим, а не диагностическим или арбитражным функциям. В США политики, хотя и в меньшей степени, но тоже не признавали решающую роль науки, и при необходимости игнорировали ее рекомендации. Находясь под контролем государства, современная научная элита образует на современном этапе сообщество (epistemic communities), состоящие из учёных, экспертов, специалистов в области безопасности, политических советников и профессиональных консультантов, членов правительств которые реально участвуют в политическом процессе.
7. В рамках посттоталитарной партийно-государственной бюрократической модели взаимодействия политических и научных элит процесс наполнения политики научным знанием носил формальный институциализирован-ный характер, так как политическое решение принадлежало политическим администраторам высшего уровня. В результате в ряде случаев решающими факторами становились не рациональность аргументов и не наличие экс-пертно-аналитических групп, а личные качества и взаимоотношения лидеров.
8. В современной демократической России научная и политическая элиты, несмотря на многочисленные точки соприкосновения, не сформировали полноценного взаимовыгодного механизма взаимодействия. Научная политика России не имеет масштабной системы государственной поддержки научно-технической деятельности, воспроизводства научной элиты и использования науки в качестве ведущей производительной силы общественного развития. Ряд представителей гуманитарного знания (политологии, социологии и др.) в условиях рыночных реформ перешли к ангажированному обслуживанию на коммерческих условиях субъектов политического процесса. Необходимы «мозговые центры», действующие независимо и играющие роль добровольных посредников между гражданским обществом и властью.
9. Опыт США и России показывает, что, будучи прямо вовлеченными в политический процесс, ученые становятся уже не вторичными агентами власти, а субъектами политического процесса. Исследователь-профессионал, принадлежащий одновременно и к научной элите и политической элите, попадает в центр их взаимодействия, но делает, как правило, свой выбор в интересах политического процесса и государственных интересов, а не науки. Опыт взаимодействия научных и политических элит в России и США на современном этапе показывает, что политика всегда стремится подчинить себе ученых и поэтому они должны стремиться защищать себя сами в рамках возможностей демократического государства. Ученым России необходимо осмыслить роль научной элиты в обществе и изменить собственное общественно-политическое мышление, систематически влиять и апеллировать к общественному мнению, вести равноправный диалог с исполнительной и законодательной властью.
Научно-практическая значимость исследования. Результаты научного поиска позволяют углубить представления о процессе формирования научных элит в России и США, характере их взаимодействия с политическими элитами, что может способствовать созданию современного полноценного механизма такого взаимодействия в условиях глобализации современного мира. Материалы диссертационной работы могут быть использованы для дальнейших политологических исследований, в преподавании общих и специальных курсов.
Апробация работы. Результаты исследования докладывались на научных конференциях в Ростовском государственном медицинском университете. Материалы исследования отражены в монографии и трех публикациях общим объемом 12 п.л., в том числе статья в журнале «Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион», рекомендованном ВАКом для апробации результатов диссертационных исследований.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (4 параграфов), заключения общим объемом 152 страницы и списка литературы, состоящего из 219 источников.
Заключение
.
В отличие от СССР, в США научная элита как совокупность выдающихся ученых, обладающих статусом и привилегиями, была реальностью и не вызывала сомнений в своем существовании, так как объективно была результатом имманентного развития науки и выделения самых талантливых и продуктивных ее носителей и выразителей. Но в социально дифференцированном американском обществе она не могла быть консолидированным субъектом и выступать в качестве арбитра в обществе. Нельзя говорить, что это проявляется только в советском обществе, где ее приучали к обслуживающим, а не диагностическим или арбитражным функциям. В США политики тоже не признавали решающую роль науки, что бы игнорировать ее рекомендации, выходящие за пределы политических требований. Кроме того, опыт США показывает, что классические ученые пришедшие в политику быстро забывают об академических ценностях и начинают играть по маккиаве-листким правилам игры, что наглядно прослеживается и в тех случаях, когда крупные университетские профессора занялись политикой, например такие колоритные фигуры как Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский и Кондолиза Райе.
Патрик Дж. МакГрат в своей монографии «Ученые, бизнес, и государство. 1890−1960». (2002) показал, что научная элита США постоянно взаимодействовала с экономическими, политическими и военными элитами1. Это делалось не только, ради улучшения профессионального положения ученых и получения как можно большего количества финансовых средств на исследования, но и по политическим причинам. Они хотели использовать научную экспертизу и новые связи с элитами, чтобы произвести радикальное преобразование американской политической культуры. Лидеры науки обосновали цели, которые стали смыслами идеологии управления Америки в 1960;е гг.: процветание нации и возрастание военной мощи государства. Поэтому защи.
1 Patrick J. McGrath, Scientists, Business, and the State, 1890−1960. та прав потребителей и одновременно милитаризма осуществлялась учреждениями, созданными учеными и использовавших их концепции в политических секторах жизни в течение десятилетий. Начиная с последних десятилетий XIX века и начала XX века, ученые играли большую роль в расширении возможностей и эффективности национальных учреждений. Они помогли создать новый вид властных отношений, который был реализован в больших, корпорациях, университетах, профсоюзах, и федеральном правительстве. Они также способствовали утверждению нового концептуального понимания необходимости социальных изменений в жизни американского общества. Подчеркивая эволюцию науки и поддающееся трансформации качество их продукции, они доказали, что научное новшество стало главной силой, осуществляющей прогресс, процветание и национальную безопасность. Понятие социального изменения прогресса привело некоторых ученых и интеллектуалов к новому определению демократии, которое отклонило старую модель политики партии в пользу гармоничной, бесклассовой меритократии, при которой все члены общества будут наслаждаться высоким уровнем жизни, обеспеченным общей культурой, а талантливый человек имел бы больше возможностей сделать карьеру. Лидеры американской науки в сотрудничестве с политическими, академическими и позже военными элитами создавали новую идеологию управления в США, которая перемещала центр социальной власти от местных элит и политических партий к новому национальному классу, находящегося во взаимосвязи гражданских субъектов и частных секторах. Но этот процесс был характеризован конфликтами на каждом этапе пути между учеными и их мощными сотрудниками. Новая управляющая идеология и новая концепция политической власти, были вылеплены в соответствии с ростом мощи общей экономики. Монополистический бизнес использовал науку и профессионализм для легитимизации своей мощи, а ученые и профессионалы в свою очередь использовали эту новую систему, чтобы увеличить свой статус и достичь еще больших возможностей для богатства, власти и престижа. Научные элиты создали такие отношения с политическими и военными элитами, которые использовались политическими лидерами для подчинения ученых и морального подавления, как в случае с Робертом Оппенгеймером, когда выдающийся ученый был оценен как простой «техник», а не партнер. Те же самые идеи и стратегии, которые сделали ученых мощными и даже ведущими партнерами, привели к усилению милитаристской концепции не только в американской науки, но также и в американской политической культуре. Новая роль научной элиты проявилась, в том, что ученым было разрешено пользоваться большим влиянием в общественной жизни, но конкретные ученые, ушли в неясные тени организационных и профессиональных структур, из которых они появились. Они не принимали идеи относительно эпизодичного использования достижений ученых в политике, так как для них было очевидным, что использование науки всегда важно в любых преобразованиях, так как научные учреждения, не отвечая за события в политическом мире, активно помогают реагировать на них.
Лидеры монополистических компаний, сотрудничая с интеллектуальными и научными элитами, имели собственные профессиональные и политические интересы и формировали идеологию, в которой процесс роста производства и научно-технического прогресса были поставлены на центральное место. Производство изобилия благодаря науке и эффективный менеджмент стали оправданием для новой политизированной экономики. Эта идеология продолжила воздействие на американскую науку в течение второй мировой войны и Холодной войны. Идеологическая борьба по вопросам значения и цели развития американской науки были продолжены в новых формах и в различных контекстах. Проблемы милитаризма и национальной безопасности сделали американскую науку более политизированной, чем это было нужно. Всплеск государственной поддержки научных исследований, радикальный отход от этой политики и обострение идеологических проблем были характерны для американской науки в послевоенных десятилетиях. Но научная элита создала систему отношений между наукой, государством, университетами и гражданским сектором. Она, конечно, не управляла этой системой, но она создавала идеи, которые стали внутренними связями, скрепившими данную систему.
Не все ведущие ученые в США вписывались в государственную систему научного милитаризма полностью и бесповоротно. Об этом свидетельствует судьба Роберта Оппенгеймера, научного руководителя американского проекта по созданию атомной бомбы. В 1954 г. за выступление против создания водородной бомбы и за использование атомной энергии лишь в мирных целях он был снят со всех постов, связанных с проведением секретных работ, и обвинен в «нелояльности». «Дело Оппенгеймера» породило большие споры в американской научной элите. Одни ученые, такие как Тейлор яростно обвиняли его в предательстве интересов США, другие с удовлетворением восприняли в качестве реабилитации присуждение Оппенгеймеру в 1963 г. премии Э. Ферми, учрежденной Комиссией по атомной энергии США, в знак признания его выдающегося вклада в теоретическую физику, а также за научное и административное руководство работами по созданию атомной бомбы и за активную деятельность в области применения атомной энергии в мирных целях.
Таким образом, тенденция наступления на науку со стороны властных структур в конце 20-х — 30-е гг. XX в. стала достаточно типичным процессом в целом ряде стран, в частности, в США и в СССР. Коммунистические лидеры в СССР, часто оправдывали свою линию ссылками на мнение ученых, приобретая большую респектабельность и авторитет в глазах населения. Привлечение на свою сторону интеллектуалов давало политическим деятелям дополнительные козыри в борьбе с оппонентами. При недостаточно высоком уровне доверия интеллигенции к властям большевики были вынуждены первоначально, искать доказательства рациональности своей политики. В СССР осуществлялось взаимодействие политической и научной элиты, определяющей чертой которого является формирование и утверждение государственной научной политики, которая включала при Сталине репрессии. Для СССР было характерно полное огосударствление и планирование в системе организации наукиутилитарное отношение к научной деятельностиэкстенсивный рост сети научных организацийприоритетное развитие отраслей науки, обслуживавших тяжелую промышленность и военно-промышленный комплексидеологизация гуманитарных наукограничение свободы научных исследований партийно-государственным аппаратомрепрессирование деятелей наукиподготовка научных кадров, имеющих социальное происхождение, одобренное партийно-государственным руководством.
В США также прослеживались тенденции влияния политики на науку, подчинения деятельности ученых интересам государства, но все это прослеживалось в значительной меньшей степени, что было обусловлено характером социально-экономических и политических отношений. Влияние государства носило, как правило, опосредствованный характер, а участие научной элиты в выполнении заказов государства было вызвано во многом их внутренней потребностью в обеспечении процветания нации и гарантии прав и свобод граждан со стороны государства.
Следует подчеркнуть, что политический процесс и в США и в СССР был не возможен без мощной интеллектуальной составляющей. Научная элита нигде не может являться полным противовесом официальной власти, хотя она, конечно, более глубоко анализирует процессы политической динамики. Находясь под контролем государства, современная научная элита, тем не менее, образует на современном этапе сообщество (epistemic communities), состоящие из учёных, экспертов, специалистов в области безопасности, политических советников и профессиональных консультантов, которые реально воздействуют на политический процесс.
Список литературы
- Авдулов А.Н. Наука и производство: век интеграции (США, Западная Европа, Япония). — М.: Наука, 1992.
- Авдулов А.Н., Кулькин A.M. Взаимодействие науки и государства или эволюция взаимоотношений ученых и политиков США. istina.inion.ru/HTML/RAVDULSB.htm.
- Академия наук в решениях Политбюро, ЦК РКП (б) ВКП (б) -КПСС. 1922−1991. М., 2000.
- Алахвердян А., Дежина П., Юревич А. Зарубежные спонсоры российской науки: вампиры или Санта Клаусы? «МЭиМО», 1996, № 5.
- Аргументы и факты. 1995. Январь. № 3.
- Ашин Г. К. Современные теории элит: критический очерк. М.: Меж-дунар. отношения, 1985.
- Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект-пресс, 1995.
- Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда. Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991.
- Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991.
- Ю.Бунин И. Новые российские предприниматели и мифы посткоммунистического сознания. Либерализм в России, М., 1993,
- П.Ваганов А. Термоядерный Велихов. //http://www.botik.ru/cprc/velihov.htm
- Высшее и среднее профессиональное образование в Российской Федерации: Статистический сборник. М.: Изд-во Госкомвуза РФ, 1996.
- Гершензон М.О. Творческое самосознание. Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991.
- М.Гракина Э. И. Ученые и власть // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20−40 гг.). М., 1999.
- Гредескул Н.А. Перелом русской интеллигенции и его действительный смысл. Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991, с. 244.
- Деловые люди, 19 мая 2003 года.
- П.Джимбинов С. Коэффициент искажения // Новый мир. № 9. 1992.
- Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология. М., 1994
- Дневник Общего собрания РАН. «Вестник РАН», 1997, т. 67, № 3.
- Европейская цивилизация и капитализм: культура и экономика в развитии общества. М.: ИНИОН АН СССР, 1991.
- Жуков В.И. Российские преобразования: социология, экономика, политика. М. 2003.
- Иванова JI.B. Формирование советской научной интеллигенции. 1917−1927 гг. М. Наука, 1980.
- Идентификация и формирование научной элиты // Социс.1995.№ 2.
- Из архива академика И. В. Курчатова // Страницы истории КПСС. М. 1989.
- Интеллектуальная миграция в России. СПб., 1993.
- Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПб ун-та экономики и финансов, 1993.
- Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. Ч. 2. Кн. 1. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов, 1994.
- История буржуазной социологии XIX начала XX века. М.: Наука, 1979.30.История СССР. 1988. № 1.31 .История США т.З.
- Кинелев В. Умом Россию обновить // Поиск. № 49 (343). 1995. 2−8 декабря.
- Кислицын С.А. «Эволюция и поражение большевистской элиты. Ростов н/Д, 1995.
- Кислицын С.А. Шахтинское дело. Начало сталинских репрессий против научно-технической интеллигенции в СССР. Ростов н/Д, 1993.
- Келле В.Ж. Самоорганизация процесса познания // Вести. АН СССР. 1990.
- Кинелев В. Умом Россию обновить // Поиск. № 49 (343). 1995. 2−8 декабря.37.Коммунист. 1985. № 14.
- Куликова Г. Б., Ярушкина JI.B. Власть и интеллигенция в 20−30-е гг. // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20−40-е гг.). М., 1999.
- Лейбович О.Л. К вопросу об упразднении научной автономии в идеологических кампаниях 1940-х годов.
- Ленин и Академия наук. Сб. документов, М. 1969.
- Леонов Л.С. «Я не могу уйти в одну науку.». Общественно-политические взгляды В. И. Вернадского. СПб. 2000 г.
- Логунов А., Афанасьев Ю.А. ois.rggu.ru/win/rector/biograf/ocherc.htm
- Лоутон А., Роу Э. Организация и управление в государственных учреждениях. М.: ИНИОН, 1993.
- Макарычев А. Взаимодействие научной и политической элит: теория вопроса и практика Нижегородской области // Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. М.: МОНФ, 1999.
- Макарычев А.С. Интеллигенция и власть: союзники? попутчики? соперники? Свободомыслие и культура. Нижний Новгород, 1996.
- Макарычев А.С. Система внешнеполитического планирования и анализа: опыт США 70−90-х годов. «МЭиМО», 1994, № 12.
- Макарычев А.С. Ученые и политическая власть. «Полис», 1997, № 3.
- Марчук Гурий. Встречи и размышления. М., «Мир», 1995 г.
- Материалы к биобиблиографии ученых. Сер. геол. Наук. Вып. 44. М.: Наука, 1992.
- Медведев Ю. Даже зарплата в тысячу долларов не остановит «утечку мозгов». Ученый на диете/ Российская газета, 26 января 2006 г.
- Мильштейн И. Судьба математика. «Новое время», 1998, № 41.
- Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция. Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991.
- Мирская Е.З. Роль международных взаимодействий в профессиональной деятельности российских ученых // Вестник Российской академии наук. 1997. Т. 67. № 4.
- Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. М.2003.
- Никитаев В.В. В поисках самостоятельности (Технологическое развитие и инженерное образование) // Высш. обр. в России. 1994. 2.
- Независимая газета, 3.II. 1998.
- Новое время, 1988 г, № 43.5 9. Но вые известия, 26.111.1998.бО.Овсянико-Куликовский Д. Н. Психология русской интеллигенции. -Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991.61.Огонек, 2006, № 22.
- Организация науки в первые годы советской власти. Сб. документов, (1917 1925), М. 1968.
- Осипов Г. В. // Вестн. РАН. 1997. № 6.
- Осипов Г. В. Что происходит с социологией? «Вестник РАН», 1997, т. 67, № 6.
- Оствальд В. Великие люди / Пер. с нем. СПб., 1910.
- Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории России XX века из государственных и семейных архивов (по отечественной периодике 1985−1995 гг.) / Сост. И. А. Кондакова. М., 1997.
- Пал Тамаш. Роль элит в венгерском «мягком переходе». Том 1, 1996 год, № 1, зима.
- Поиск. 1994. № 30 (272). 12 18 авг.
- Проскурин А. Процессы Элитообразования: исторический и прогностический аспекты. Народное образование // Alma mater. 1993. 2.
- Пузанов В.И. Проектная культура Америки: образование // США -экономика, политика, идеология. 1993. 6.71.Пульс реформ. М. 1989.
- Пуляев В.Т. Время разбрасывать камни прошло, наступило время их собирать // Гуманитарий: Ежегодник. № 1. 1995. СПб.: Изд-во ТОО ТК «Петрополис».
- Развитие образования в Российской Федерации. Федеральная программа (система среднего, высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного образования). М.: Изд-во Госкомвуза РФ.
- Разработка направлений социальной защиты и мотивации труда научной элиты в условиях кризиса, создания системы селективного управления интеллектуальным потенциалом. Отчет по ПИР. ГАУ им. С. Орджоникидзе. М., 1993.
- Ракитов А. Как попасть в четверку? // Поиск. № 13 (359). 1996. 23−29 марта.
- Ракитов А.И. Конверсия, трансфер, образование // Вуз и рынок. Кн. 3. Часть I. М.: Пресс-сервис, 1993- Мечтать не грех, но лучше остаться реалистом // Поиск. 1994. 12−18 авг.
- Рейснер М.А. Интеллигенция как предмет для изучения в плане научной работы. «Печать революции», 1922, № 1.
- Сахаров А.Д. Мир, прогресс, права человека. Нобелевская лекция // Погружение в трясину. Анатомия застоя. М. 1991.
- Савельев Л.Д. Интеллектуальные системы управления наукой и научно-образовательным потенциалом. М., 1993. Обзор ннформ. // НИИВО. Вып. 1.
- Салицкий А.И. О теоретической недостаточности современного социального знания. «Вестник РАН», 1997, т. 67, № 3.
- Селье Г. От мечты к открытию. Как стать ученым / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1987. Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1993.
- Советская культура. 1987. 21 марта.
- Состояние и перспективы высшего образования в России. Резолюция IV съезда Российского союза ректоров высших учебных заведений // Поиск. № 19 (365). 1996. 27 апреля 8 мая.
- Социальные науки в постсоветской истории. М. 2005.
- Степин B.C. Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996.
- Судоплатов П. Спецоперацию Лубянка и Кремль. 1930 1950-е гг. М. 1997.
- Судоплатов П.А. Указ. соч.
- Тамаш П. Роль элит в венгерском «мягком переходе». «Pro et Contra», 1996, № 1.
- Урнов М. Либерализм и идеология российских элит. Либерализм в России. М., 1993.
- Уставы Академии наук СССР. М.: Наука, 1974.
- Ушакин С.А. // Полис. 1998. № 1.
- Ушакин С.А. Функциональная интеллигентность. «Полис», 1998, № 1.
- Ушкалов И. Кому воспитывать элиту // Поиск. № 22 (368). 1996. 25 31 мая.
- Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции. О России и русской философской культуре. М., 1990.
- Филатов В. // Обществ, науки и современность. 1993. № 4.
- Филатов В. Ученые «на виду»: новое явление в российском обществе. «Общественные науки и современность», 1993, № 4.
- Фирсов Б.М. Воспроизводство научной элиты http ://www.nir л*и/socio/old/scipubl/sj/1 firsov. htm
- Фишер Ф. Американские «мозговые тресты»: политическая элита и политизация экспертизы. «Нижегородский журнал международных исследований», 1994 — 95, № 2.
- Хромов Г. Наука, которую мы теряем // Поиск. № 32−33 (326 327). 1995. 12−18 августа.
- Черток А.А. Ракеты и люди. М. 1995.
- Шноль С.Э. Герои злодеи российской науки. М. 1997.104. Шноль С. Э. Указ. соч.
- Юревич А.В. // Науковедение. 1999. № 4.
- Юревич А.В., Цапенко И. П. Нужны ли ученые России? М, 2001.
- Юревич А.В., Цапенко И. П. Функциональный кризис науки. -«Вопросы философии», 1998, № 1.
- Юревич А.В. Ученые в политике.// «ПОЛИС», 1999 г, № 2.
- Яковец Ю.В., Пирогов С. И. Закономерности циклической динамики и генетики науки, образования и культуры. М., 1993.
- Abelson D.E. American Think Tanks and US Foreign Policy. N.Y., 1996.
- Alchon. The Invisible Hand of Planning. Princeton, 1985.
- Ambrose, Eisenhower, the President. New York, 1984.
- Atomic Energy Comission, In the Matter of J. Robert Oppenheimer. Camdridge, 1971.
- Barnes B. Interests and the Growth of Knowledge. New York, 1977.
- Bauman Z. Legislators and interpreters. N.Y., 1987.
- Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: a Venture in Social Forecasting. N.Y., 1963.
- Bender. The Cultures of Intellectual Life, The City and the Professions, Science and the Culture of American Communities. Baltimore, 1993.
- Bernstein. Oppenheimer Case Reconsidered. New York, 1990.
- Berg A. van den. Equality Versus Liberty? Radical and Reformist Theories of Capitalist Democracy. Amsterdam, Maart 1981.
- Bundy, Danger and Survival. New York, 1990.
- Bush, Pieces of the Action. New York, 1970.
- Bush, Modern Arms and Free Men. New York, 1949.
- Bush, Science The Endless Frontier. Reprint, Washington, 1990.
- Bush V. If We Alienate Our Scientists, New York Times Magazine, June 13, 1954.
- C’antenlon et al, American Atom. Philadelphia, 1991.
- Clowse, Brainpower for the Cold War. Westport, 1981.
- Compton, Scientists Face the World of 1942. New Brunswick, 1942.
- Compton, Atomic Quest. New York, 1956.
- Compton to Conant, Nov. 23, 1942.
- Conant, Education in Divided World. Cambridge, 1948.
- Conant Diary, Apr. 26, 1954, Box 10, Conant Papers.
- Crunden, Ministers of Reform. Urbana, 1984. '
- DeLeon P. Advice and Consent: the Development of the Policy Sciences, N.Y., 1988.
- DeMay M. The cognitive paradigm. Chicago, 1992.
- Divine, Blowing on the Wind. New York, 1978.
- Divine, Sputnik Challenge. New York, 1993.
- Dockrill, Eisenhower’s New Look National Security Policy. New York, 1996.
- Dupree, Science and the Federal Government. Cambridge, 1957.
- Dye Th.R. Oligarchic Tendencies in National Policy-Making: the Role of the Private Policy-Making Organizations. «Journal of Politics», 1978, V.40.
- Edwards. Closed World- Fonnan. Behind Quantum Electronics. Cambridge, 1996.
- Fischer F. American Think Tanks: Policy Elites and the Politization of Expertise. International Journal of Policy and Administration. 1991. V. 4,№ 3.
- Fischer F. Citizen Participation and the Democratization of Policy Expertise: From Theoretical Inquiry to Practical Cases. Policy Sciences, 1993. V. 26, N3.
- Geiger. To Advance Knowledge and Research and Relevant Knowledge. New York, 1986.
- Gilpin, American Scientists and Nuclear Weapons Policy. Princeton, 1962.
- Griffith, Dwight D. Eisenhower and the Corporate Commonwealth. New York, 1989.
- Gruber, Mars and Minerva. Baton Rouge, 1975.
- Gunman D., Willner B. The Shadow Government. N.Y., 1976.
- Hewlett and Duncan. Atomic Shield. Reprint, Berkeley, 1990.
- Herken. Counsels of War. New York, 1984.
- Hershberg, James B. Conant. N. Y, 1993.
- Higler D., Jrgot R., Stone D. The Limits of Influence: Foreign Policy Think Tanks in Britain and in the USA. Review of International Studies, 1994. Vol. 20, № 1.
- Hoeve. Watch on the Right. Conservative Intellectuals in the Reagan Era. 1991.
- Hounshell and Smith, Science and Corporate Strategy. N.Y. 1988.
- Jenkins-Smith H.C. Democratic politics and policy analysis. California, 1990.
- Jewett, May 23, 1945, testimony.
- Jewett, Jan. 29, 1945, testimony.
- Jewett, Scientist and Engineer as Citizen. Pasadena, 1934.
- Jewett and King, Engineering Progress and the Social Order. Pasadena, 1932.
- Keller, Affairs of State, viii- Dawley, Struggles for Justice. Cambridge, 1977.
- Kelves, R&D and the Arms Race. Dordrecht, 1988.
- Kelly G.A. The Expert as Historical Actor. The Planning of Change. Rinehart and Winston. N.Y., 1973.
- Karsten, Armed Progressives. N.Y., 1972.
- Kennedy, Over Here. N.Y., 1980.
- Killian, Sputnik. Cambridge, 1977.
- Kubie L. Some unsolved problems of scientific career. Identity and anxiety, 1960.
- Kuznick, Beyond the Laboratory. Chicago, 1987. Chapter 8.
- Lawrence S. Wittner, The Struggle Against the Bomb. N.Y., 1946.
- Lefever E., English R., SchuettingerR. Scholars, Dollars, and Public Policy. Washington (D. C.), 1983.
- Lilienthal, Journals. N.W., 1964.
- Lemer A.W. The Manipulators: Personality and Politics in Multiple Perspectives. 1990.
- Leslie, Cold War and American Science. N.Y., 1993.
- Levine, American College and the Culture of Aspiration. Ithaca, 1986.
- Lindblom Ch. E. The Policy-Making Process. Foundation of Modern Political Science Series. 1968.
- Lippmann, Public Opinion (1922), The Phantom Public (1925). N.Y., 1925.
- Marchand, Creating the Corporate Soul. Berkeley, 1998.
- McDowell S. Policy Research Institutes and Liberalized International Services Exchange. The Political Influence of Ideas. Policy Communities and the Social Science. L., 1994.
- Merton R. Social theory and social structure. N.Y., 1968.
- Merton R. The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. Chicago, 1973.
- MGann J. G. The Competition for Dollars. Scholars and Influence in the Public Policy Research Industry. N.Y., 1995.
- McDougall, Heavens and the Earth. N. Y, 1985.
- Mirskaya E.Z. Russian academic science today: It’s societal standing and the situation within the scientific community. Social studies of science, 1995.
- Moley R. After seven years. N.Y., 1972.
- Morrow W.L. Public Administration, Politics and the Political System. N.Y., 1975.
- Neufeld, Ballistic Missiles.
- Nonprofit Organizations. A Government Management Tool. Praeger Special Studies, 1980.
- Organization for Policy Analysis. Helping Government Think. Newberry Park-L.-New Delhi, 1992.
- Orleans H. The Nonprofit Research Institute. Its Origins, Operations, Problems and Perspectives. N. Y, 1972.
- Patrick J. McGrath, Scientists, Business, and the State, 1890 1960. The University of North Carolina Press, 2002.
- Peschekt. Policy-Making Organizations. Elite Agendas and America’s Rightward Turn. Philadelphia, 1987.
- Pfau, No Sacrifice Too Great. Virginia, 1984.
- Psychological review, 1985. Vol. 92.
- Ravetz J. Scientific knowledge and its social problems. Oxford, 1971.
- Ricci D. The Transformation of American Politics. The New Washington and the Rise of Think Tanks. New Haven-L., 1993.
- Rigden, Rabi, Scientist and Citizen. N/Y., 1987.
- Roger J. The Impact of Policy Analysis. Pittsburgh, 1988.
- Rollings R.L. Nonprofit Public Policy Research Organization. A Sourcebook on Think Tanks in Government. N. Y-L., 1993.
- Rosenberg, «Origins of Overkill». Dorsey Press, 1986.
- Sanders, Peddlers of Crisis. Boston, 1983.
- Sherry, Preparing for the Next War. New Haven, 1977.
- Skowronelc, Building a New American State. N.Y., 1982.
- Smith B. The Non-Governmental Policy Analysis Organizations. -Public Administration Review, May/June 1977.
- Smith J. A. The Idea Brokers. Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite. 1991.
- Smith, A Peril and a Hope. Chicago, 1965.
- Social Scientists and International Affairs. A Case for a Sociology of Social Science. Crawford E.T., Biderman A.D. (eds.). 1969.
- Stephen M. Neuse, David E. Lilienthal. N.Y., 1990.
- Strauss, Men and Decisions. N.Y., 1962.
- Sylves, Nuclear Oracles. Ames, 1987.
- Teller and Brown, Legacy of Hiroshima. N.Y., 1962.
- The handbook of political behavior. N.Y., 1981. V.l.
- The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives. Cambridge, 1988.
- The Situation on New Weapons, memo from Bush to Harvey Bundy, Jan. 26, 1942.
- Using Social Research in Public Policy Making. Toronto, 1977.
- Weiss C. Helping Government Think: Functions and Consequences of Policy Analysis Organizations. Organizations for Policy Analysis. 1992.
- Wiarda H. J. American Foreign Policy: Actors and Processes. N.Y., 1996.
- Wiebe, Self- Rule. Chicago, 1989.
- York, Making Weapons, Talking Peace. N.Y., 1986.
- Young 0. Systems of Political Science. Prentice-Hall, 1968.
- Zachary, G. Pascal. Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century. N.Y., 1997.
- Zunz, Making America Corporate. Chicago, 1990.