Формирование московского права
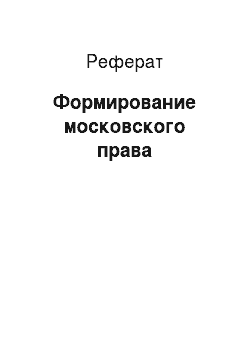
Основная цель издания Двинской грамоты — урегулирование отношений между назначенным Москвой наместником и местным населением, привыкшим к Новгородским вольностям. Великим князем Василием Дмитриевичем предоставляется двинянам право в случае злоупотреблений со стороны наместника обращаться с жалобами непосредственно к нему. Как мы видим из Грамоты, Московским князем признается автономное… Читать ещё >
Формирование московского права (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Грамоты наместничьего управления
В удельных древнерусских княжествах, в том числе и в великом Московском, долгое время действовали в полную силу нормы Русской Правды и Псковской Судной грамоты. Однако в связи с деспотическим перерождением древнерусской государственности на завоеванной татаро-монголами территории стало складываться новое, проникнутое духом этого перерождения законодательство.
Первые шаги московского правительства на стезе законодательной запечатлены в Двинской грамоте наместничьего управления (1389 г.). Но это были еще довольно робкие шаги. Московский князь в XIV веке далеко еще не обрел исторической роли самодержца. В этой грамоте получили изложение, наряду с княжескими установлениями, многие стародавние юридические обычаи недавно присоединенной к Московскому государству Двинской земли, входившей ранее в состав Новгородской республики и вскоре вновь к ней присоединенной.
Основная цель издания Двинской грамоты — урегулирование отношений между назначенным Москвой наместником и местным населением, привыкшим к Новгородским вольностям. Великим князем Василием Дмитриевичем предоставляется двинянам право в случае злоупотреблений со стороны наместника обращаться с жалобами непосредственно к нему. Как мы видим из Грамоты, Московским князем признается автономное до некоторой степени положение вновь присоединенной земли в составе его государства. Московским приставам запрещается вмешиваться в дела двинских наместников, на должность которых могли назначаться и местные бояре, как это следует из преамбулы Грамоты. В поддержке двинского боярства, по инициативе которого и совершалось отделение Двинской земли от Новгорода, великий князь был крайне заинтересован. В связи с этим, видимо, и установлена неведомая древнерусскому законодательству уголовная ответственность за оскорбление словом («излаяние») бояр и их слуг (ст. 2). И дело здесь, вероятно, не столько в классовом подходе, на наличие которого некоторые авторы усиленно налегают, а в своекорыстном стремлении Московского князя с помощью задобренных его милостями бояр и их слуг сохранить Двинскую землю под своей рукой. На верность Москве со стороны основной массы населения, дорожившей Новгородскими вольностями, трудно было рассчитывать.
Грамота содержит первое законодательное упоминание о смертной казни за кражу (татьбу). Если за убийство (душегубство) по-прежнему предусматривалась выплата виры, то за третью кражу полагалось вора «повесити» (ст. 5). Причем за первую — полагался штраф в размере поличного, а за вторую — следовало продать «не жалуя», т. е. подвергнуть конфискации имущества. В этой связи трудно согласиться с А. А. Зиминым и А. Г. Поляком, а также с авторами издания «Российское законодательство Х-ХХ вв.», что слова «продадут его не жалуя» следует рассматривать как продажу в рабство1. При столь «зыбком» праве на Двинскую грамоту московский князь вряд ли мог решиться посягнуть на «святая святых» свободолюбивых жителей севера — правоубеждение в неприемлемости уголовного наказания обращением в рабство.
На шкале правовых человеческих ценностей в Новгородской республике свобода стояла значительно выше жизни. Кроме того, «продажа» всегда означала в Древней Руси денежный штраф.
В Грамоте получает претворение положение Русской Правды об уплате общиной дикой виры, в случае если она уклонится от выдачи или от поиска убийцы, совершившего душегубство на ее территории.
За такого рода уклонение наместником взыскивался с общины штраф в сумме 10 рублей. Но вместе с тем в Грамоте запрещается широко распространенное в Древней Руси примирение потерпевшего с преступником на основе возмещения ущерба. Ею вводится уголовная ответственность за самосуд (штраф в размере 4 рублей). Но установление этого запрета скорее связано с защитой финансовых прав государства (на получение судебных пошлин), нежели с намерением внедрить в сознание подданных понимание под преступлением нарушения государственных интересов. Именно это соображение вытекает из данного в ст. 6 Грамоты определения самосуда: «А самосуда четыре рубли; а самосуд то: кто, изымав татя с поличным, да отпустит, а себе посул возмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд; а опричь того самосуда нет». Дело здесь, как мы видим, не в освобождении татя от уголовного наказания со стороны государства, а в лишении наместника возможности извлечь из факта преступления финансовую выгоду в свою пользу.
Более обильный свет на формирование собственно московского права проливает Белозерская грамота наместничьего управления 1488 года, данная государем всея Руси Иваном III жителям Белозерской земли, недавно окончательно присоединенной к Московскому великому княжеству. Это уже акт твердо вставшего на собственные ноги государства, власти, проникнутой идеей самодержавия, достаточно осознавшей необходимость детального регулирования отношений между ставленниками центральной власти — наместниками и местным населением во имя упреждения роста центробежных сил и обуздания наместнических притязаний на обретение независимого от центра положения.
Грамота эта продиктована отнюдь не классовыми, а сугубо государственными интересами, заботой о том, чтобы крестьянство и посадские люди не страдали от наместнических поборов, находились в экономическом благополучии, необходимом для исправного несения тягловых и иных государевых повинностей. У правительства доставало тогда здравого смысла для понимания того, что ограбление кормленщиками местного населения, в конечном итоге, окажется ограблением государства. Поэтому, всем своим содержанием грамота нацелена на ограничение произвола наместников, на обуздание их неуемных аппетитов, стяжательских стремлений. Первые шесть статей Белозерской грамоты (всего их 23) посвящены регулированию вопросов, связанных с содержанием наместников и их аппарата. Статья 1 предусматривает получение наместником от населения при вступлении в должность так называемого «въезжего корма» без указания его размера («что хто принесет»). Дальнейшее получение наместничьего корма Грамотой строго регламентировано. Его сбор мог проводиться только 2 раза в году (на Рожество Христово и Петров день). Точно установлен размер корма, взимаемый с каждой единицы обложения (сохи). Корм наряду с наместниками в те же дни, правда в меньших размерах, получали и его помощники (тиуны и доводчики). По штату наместнику полагалось иметь двух тиунов и десять доводчиков (ст. 3). За каждым из них закреплялась определенная территория. На служебные разъезды этих должностных лиц Грамотой распространены строгие ограничительные правила. Им запрещено отягощать население излишними услугами. Доводчику прямо предписано не ночевать там, где обедает, и не обедать там, где ночует. Ему полагалось совершать разъезды на одной лошади и без «паробка», т. е. слуги (ст. 4). Наместник и его помощники в целях избежания злоупотреблений с их стороны были отстранены от личного участия в сборе корма. Он собирался и передавался им местными сотскими. Строго регламентированы в интересах белозерцев и размеры взимаемых с них местной княжеской администрацией торговых, судебных и иных пошлин. Наместники и тиуны наделялись судебными функциями, но отправлять правосудие могли только при участии представителя местного населения: «А наместником и тиуном без сотского и без добрых людей и не судити суд» (ст. 19).
Устанавливая пошлины, взимаемые в пользу должностных лиц наместничьего аппарата за вызовы белозерцев в суд, великий князь запрещает им брать деньги за оформление поручительства (ст. 16 и 22). Освобождаются также от уплаты наместничьих пошлин потерпевшие от татьбы, которые, «познав татебное», т. е. украденную вещь, ищут «чеклого» (подлинного, конечного) вора путем издревле известного на Руси свода, т. е. своими силами с привлечением причастных к владению «татебным» лиц. Согласно ст. 12 свод полагается вести до десятого лица. Наместникам запрещается судить за преступления, совершенные на пиру.
Иван III предоставил белозерцам право являться по вызову в великокняжеский суд только один раз в году, в наиболее удобное для них время — в заговенье великое мясное (пост) (ст. 22). В этом установлении авторы «Российского законодательства Х-ХХ веков» почему-то видят стремление великокняжеской власти «всемерно оградить интересы светских и духовных феодалов» запретом отрывать крестьян от работ на их землях1. Смысл запрещения вызывать белозерских крестьян и горожан в иное время состоит в другом, а именно в том, чтобы защитить белозерцев от злоупотребления правосудием посредством их вызова в суд в страдные дни в прямом расчете на их неявку, что давало право на оформление бессудной грамоты. Не случайно в ст. 22 сказано: «А хотя хто на них бессудную грамоту возьмет не по их сроку, и та грамота бессудная не в бессудную». Иными словами, бессудная грамота признается недействительной в связи с несоблюдением установленного для вызова в суд срока.
О направленности этого запрета на ограждение интересов феодалов нельзя вести речь и потому, что на Белозерской земле преобладали крестьянские общинные порядки, следовательно, главная забота великим князем проявлялась о крестьянах, их хозяйственном благополучии.
Запрещая отрывать белозерцев в страдные дни от дел, великий князь вместе с тем разрешает им привлекать должностных лиц наместничьей администрации за чинимые обиды к великокняжескому суду в удобное для обиженных людей время, которые «сами сроки наметывают на наместников, и на волостелей, и на их людей» (ст. 23).
Белозерская так же, как и Двинская грамота, запрещает самосуд, понимая под ним отпуск вора, задержанного с поличным, «наместником и тиуном не явя». Лицо, поступившее подобным образом, независимо от того, имело ли от этого какой-либо конкретный интерес, подлежало наказанию уголовным штрафом в сумме 2 рублей (ст. 13). Этим установлением теперь уже подчеркивается, что борьба с преступностью — дело государственное и никто не имеет права решать за государство, как поступить с преступником.
Татьба с поличным Московским государством рассматривалась в числе наиболее опасных деяний. Но на практике под поличным иногда понималось не то, что в действительности им являлось. Вещь в руках у вора, застигнутого на месте преступления, однозначно рассматривалась как поличное. Но сложнее обстояло дело с определением как поличного чужой вещи, оказавшейся у кого-либо во дворе. Не случайно Белозерская судная грамота дает в ст. 11 ответ на вопрос, что же следует понимать под поличным: «А поличное то, что выимут из клети из-за замка; а найдут, что в дворе или в пустой хоромине, а не за замком, ино то не поличное».
В этом формулировании понятия поличного авторы «Российского законодательства Х-ХХ веков» почему-то видят стремление «господствующего класса усилить защиту своей собственности»1. Интересы господствующего класса явно здесь ни при чем. Норма эта продиктована народным правоубеждением, здравым смыслом. От подбрасывания соседям во двор чужих вещей с целью досадить, опозорить, «осрамить», поставить под удар уголовного наказания страдали прежде всего горожане и крестьяне. К такому способу сведения каких-либо личных счетов, отмщения за обиды, прибегали чаще всего в этой среде. «Досадить» таким способом боярину со стороны, скажем, крестьянина было малореальным делом. А если допустить, что боярин боярину мог вредить подобным способом, то в этом случае тем более нельзя вести речь о классовом интересе. Видимо, великим князем зафиксирована издавна действовавшая в Белозерской земле норма обычного права, возникшая на основе судебного прецедента.
В числе опасных преступлений Грамота называет наряду с татьбой разбой и душегубство. Причем она обязывает наместника удовлетворить первоначально из имущества представшего перед судом преступника исковые требования потерпевшего, а затем подвергнуть его наказанию. Упоминаний о смертной казни Белозерская грамота не содержит.
Грамота интересна и во многих других отношениях. В духе древнерусской правовой традиции она обязывает горожан и крестьян в случае совершения в городе или в волости убийства разыскивать убийцу (душегубца). При невыполнении этого требования город или волость подлежат наказанию штрафом в сумме 4 рубля.
Среди преступных деяний в Белозерской грамоте фигурирует известная Русской Правде намеренная порча межи (ст. 18). Независимо от того, чья (боярская или крестьянская) межа повреждена («переорена» или «перекошена»), устанавливалась единая сумма уголовного штрафа (восемь денег). Следовательно, неуместно применительно к этой статье, как это делают отдельные авторы, вести речь о защите феодальной собственности на землю.
Грамота допускает решение судебных споров полем (поединком), но ставит в ограничительные условия его проведение установлением высоких полевых пошлин.
Весьма интересна относящаяся к семейно-брачному праву ст. 17, в которой детально регламентируются размеры пошлин, уплачиваемых при вступлении в брак, в зависимости от того, как далеко и куда в связи с замужеством вывозится невеста. При выезде («выведении») ее за пределы города или волости уплачивается «выводная куница» в сумме алтына (шесть денег), за рубежи Белозерской земли (в Московскую или Новгородскую земли) — куница возрастала до двух алтынов (12 денег). Если невеста никуда не «выводилась» из города или волости, то полагалось заплатить наместнику убрус («оубрус») в размере 2 денег и «знамя» церковному должностному лицу (десятиннику) в размере 3 денег.
Установление более высоких свадебных пошлин при выходе в замужество за пределы города или волости связано с тем, что уменьшение населения городов и волостей считалось крайне нежелательным явлением, поскольку вело к утере рабочей силы, а в конечном итоге — к сокращению числа налогоплательщиков. Уменьшение населения собственно Белозерской земли считалось тем более нежелательным. Отсюда и более высокие свадебные пошлины.
Отдельные статьи Грамоты продиктованы заботой великого князя о развитии и укреплении торговых связей между областями недавно собранной воедино державы в целях более прочного их единения на экономической основе. Но поскольку Грамота адресована белозерцам, их купцам и торговцам создаются определенные льготные условия.
Как мы видим, великий князь, приобщая жителей Белозерской земли к московским порядкам, не диктует им новые условия жизни, а всячески демонстрирует свою великокняжескую заботу о их насущных нуждах, всемерно подчеркивает, что не допустит каких-либо притеснений, произвольных поборов и других обид в отношении населения со стороны вводимой им местной администрации. Великий князь не упраздняет испокон веков существовавших на Белозерской земле местных органов самоуправления в лице старост и сотских. В Грамоте не нашла отражение действовавшая в полную силу в Московском государстве система жестоких уголовных кар (кнутобойство и др.). Из нее с полной определенностью явствует, что великий князь желал предстать перед привыкшими к вольностям белозерцами не в образе тирана и властолюбца, а в образе попечителя об их благополучии, устроителя жизни на началах справедливости. Так было нужно. В планы Ивана III не входило возбуждать у населения к себе враждебное отношение. Заметим, что Грамота была обращена к простым людям, а не к белозерскому боярству, к которому князь отнюдь не испытывал доверительных чувств.
Таким образом, уставные грамоты наместничьего управления были не столько инструкциями центрального правительства для местных органов власти, сколько актами ограждения населения от злоупотреблений должностных лиц[1].
- [1] См.: Загоскин Н. П. Уставные грамоты XIV—XV вв., определяющие порядок местного управления. Казань, 1871. Вып. 1. С. 54−55; Ширяев В. Н. Взяточничество и лиходейство в связи с общим учением о должностных преступлениях. Уголовно-юридическоеисследование. Ярославль, 1916. С. 72.