Философия и повествование: Концепции литературной критики «Йельской школы»; П. де Ман, Х. Блум, Дж. Хартман, Дж. Хю Миллер
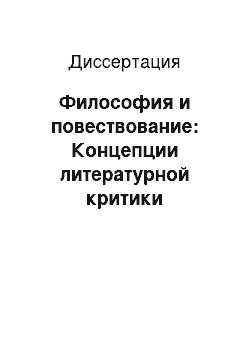
Настоящей диссертации заключается в исследовании последних достижений философско-литературной критики «Йельской школы» и в освещении структуралистского кризиса, охватившего гуманитарные науки США в конце XX века. Группа профессоров Йельского университета, П. де Ман, Дж. Хартман, Дж.Х.Миллер, дают новую оценку познающему субъекту, онтологии генетической структуры, конституирующей роли… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. ФИГУРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ (П.де МАН)
- 1. 1. Современные проблемы философско-литературной критики США
- 1. 2. П.де Ман — критик эстетической идеологии
- 1. 3. П. де Ман о повествовании Ф. Ницше
- 1. 4. Бытие слова и мира в работах П. де Мана и М. Хайдеггера
- 1. 5. Критика П. де Маном и Ж. Деррида «метафоры Руссо»
- ГЛАВА II. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИИ АСПЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ (Х.БЛУМ)
- 2. 1. Онтологическая логика текста
- 2. 2. Истоки интертекстуальности Х. Блума
- 2. 3. Карта «ложного прочтения»
- 2. 4. Структурный и психологический анализ текста
- ГЛАВА III. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ (ДЖ.ХАРТМАН И ДЖ.Х.МИЛЛЕР)
- 3. 1. Существование и означение
- 3. 2. Дж.Хартман об экзистенциальном аспекте повествования
- 3. 3. Дж.Х.Миллер об экзистенциальном аспекте повествования
Философия и повествование: Концепции литературной критики «Йельской школы»; П. де Ман, Х. Блум, Дж. Хартман, Дж. Хю Миллер (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Тема данной диссертации очерчивает особый круг вопросов её философской спецификации. Проблема соотнесения философии и повествования в рамках современного постструктурализма возникает из критического переосмысления мимесиса, онтологической формы, негенетической структуры и т. д. Подобное сопоставление появляется уже в книге французского философа Ж.-Ф.Лиотара «Состояние постмодерна» (1979г.), где философия ставится перед выбором между научным и нарративным знанием. Решение Лиотара парадоксально: философская истина в виде миметических или денотативных высказываний, как принято её понимать со времён Аристотеля, должна получить новую общественную и культурную лигитимацию посредством вымышленного рассказа1. Другими словами, представление об истине возникает из повествовательной фикции и зависит оно не от мира или человека, а от текста с однолинейным измерением «означающего означающего». Дальнейшее лиотаровское членение повествования на макронарративы (закрытая знаковая система) и микронарративы (открытая знаковая система) даёт философии в пределах текста новые структурные ориентиры для определения истины. Это позднее определение философской мысли применяется нами к раскрытию проблематики «Философия и повествование» в концепциях литературной критики «Йельской школы». Её главные представители П. де Ман, Х. Блум, Дж. Хартман, Дж.Х.Миллер намечают постструктуралистские по своей сути программы критики художественного повествования, изыскивающие онтологические основания интертекстуальности и переосмысливающие негенетическое моделирование структур дискурсивного выражения. Практически все эти профессора гуманитарных наук Йельского университета исходят из того, что философская истина, теория познания, научный метод и т. д. в пределах повествовательной прагматики текста обретают статус знаковой структуры, не обусловленной референтом действительности. Реальность и сознание раскрываются в процессе своего описания, т. е. существуют не параллельно письменному означающему, а внутри него, являясь одними из многих аспектов повествовательного вымысла. Знаковые замещения фигуральных значений художественного повествования из средства выражения обращаются в цель при обосновании критической интертекстуальности и бытия читающего человека.
Название работы «Философия и повествование» подразумевает также противопоставление трансцендентального означаемого философии рационализма и метафорического отображения чувственного опыта в художественном повествовании. Сможет ли повествовательный эмпиризм (на уровне текста) риторического тропа заместить собой онтологическое понятие? Критика представителями «Йельской школы» позитивистского историцизма, рационалистической метафизики и негенетического структурализма ведёт к тому, что в тексте одновременная экспликация реального и идеального, факта и существования, трансцендентального и имманентного утрачивает лингвистическую однозначность и онтологическую тождественность. Самодостаточность этих семантических трансформаций знака в тексте оправдывает поворот американских критиков «Йельской школы» к повествовательному эстетизму и конституирующей функции языка.
Актуальность темы
настоящей диссертации заключается в исследовании последних достижений философско-литературной критики «Йельской школы» и в освещении структуралистского кризиса, охватившего гуманитарные науки США в конце XX века. Группа профессоров Йельского университета, П. де Ман, Дж. Хартман, Дж.Х.Миллер, дают новую оценку познающему субъекту, онтологии генетической структуры, конституирующей роли трансцендентального понятия и проблематичности бытия текста. Вопросы эти неоднократно ставились французскими постструктуралистами Р. Бартом, Ж. Делёзом, Ж. Деррида, М. Фуко и др., но в США на академических кафедрах сравнительного литературоведения эти темы дискутировались в рамках одной только теории интертекстуальности. Философская значимость данных исследований состоит в последовательной критике любого теоретического текста с гомогенной структурой означения. Такое сугубо языковое преломление философских проблем было подготовлено релятивизмом новых познавательных стратегий, исходящих из смещения линий означаемого и означающего. Знание в письменном выражении перестаёт обуславливаться референтами действительности, а познающий человек из рефлексирующего субъекта или созидающего текст автора превращается в текстуального персонажа. В диссертации эта ситуация первичности выражения по отношению к смыслу комментируется с точки зрения критической теории деконструкции, обнаруживающей в тексте скрытую в пространстве и отложенную во времени истину. Деконструктивная аналитика чтения теоретического и литературно-художественного текста редуцирует кризис эпистемологии и гуманитарных наук к антропологическому негативизму, т. е. к преодолению субъективности, психологизма и сознательной очевидности. Иными словами, платоновская традиция транспарентности (прозрачности) отношений языка и мысли, предметности и понятийности, бытия и мышления, субъекта и объекта, на которой строился процесс познания в западно-европейской философии, сменяется безличной и изменчивой прагматикой знаковых замещений. Онтологические несоответствия этих философских категорий в тексте свидетельствуют о том, что сущность вещи может закрепляться не только в трансцендентальном понятии, но и в риторическом выражении того, что отсутствует или возможно. Повествование как вид такого рода высказываний наравне с философией становится альтернативой в познании истины. Несомненно, можно говорить об актуальности и обширности культурологических следствий этих познавательных процессов в пределах «постмодернизма». Американские критики «Йельской школы» на уровне теории интертекстуальности также внесли свой заметный вклад в разъяснение нарушающей междисциплинарные границы проблемы изоморфизма научного и мифологического мышления, теоретического дискурса и художественного повествования.
Цель исследования. Цель данного диссертационного исследования заключается в выявлении философских аспектов повествования: фигурального (П. де Ман), психоаналитического (Х.Блум) и экзистенциального (Дж.Хартман, Дж.Х.Миллер).
Задачи исследования. В соответствии с этой целью в диссертации ставятся и решаются следующие задачи:
— определить философские основания повествования на примере концепций литературной критики П. де Мана, X. Блума, Дж. Хармана, Дж. X. Миллера;
— установить на уровне повествовательного текста общие черты теоретического понятия и риторического тропа (П. де Ман);
— исследовать психоаналитический аспект художественного повествования (Х.Блум);
— проанализировать экзистенциальный аспект повествования (Дж.Хартман, Дж.Х.Миллер).
Методология исследования складывается из анализа философско-литературных концепций критики «Йельской школы» с точки зрения современной философии постструктурализма. Главными критериями разбора философских стратегий чтения текста в работах П. де Мана, Х. Блума, Дж. Хартмана, Дж.Х.Миллера будут критика субъекта, мимесиса, истины и текстуальной репрезентации реальности.
Источники исследования состоят из теоретических работ мыслителей «Йельской школы», написанных в период зарождения философско-литературной критики «Йельской школы» в конце 70-х — середине 80-х годов. Дальнейшее творчество критиков явилось лишь применением возникших философских концепций к материалу художественных повествований. Например, для де Мана начало таким основополагающим работам было положено сборником статей «Critical writings 1953;1978», посвященным вопросам экзистенциальной имперсональности текста, эстетической независимости слова от реальности, нигилизма в немецкой литературе и т. д. Опираясь на авторитет М. Хайдеггера и М. Бланшо, уже в этих ранних критических заметках де Ман выстраивает основные доводы своей структуралистской концепции деконструкции, оформившейся к концу 70-х годов. Не без влияния книги Ж. Деррида «De la grammatologie» в 1971 году П. де Ман публикует сборник работ «Blindness and Insight», где дезавуирует основные заблуждения интенционализма, формализма и негенетического структурализма, ограничивающих повествовательный дискурс пределами авторского восприятия и конституирующей функцией поэтической формы. Произведения Руссо, Малларме, Йейтса и др. наталкивают де Мана на другую мысль о сокрытости бытия слова и бесконечности интертекстуального становления. За отчётливо угадываемыми мотивами хайдеггеровской онтологии и деконструкции Деррида просматривается собственная концепция де Мана об экзистенциальных различия текста на уровне Бытия и Ничто, существования и означения, позитивности повествовательной формы и негативности знаковых экспликаций. Исследование «Allegories of Reading» 1979 года на примерах фигурального языка Руссо, Ницше, Пруста подводит итог его философско-критическим изысканиям, разоблачающим в тексте любые проявления риторической гомологии и понятийной самотождественности. Три последующие работы де Мана «The Rhetoric of Romanticism» (N.Y., 1984), «Resistance to Theory» (Minneapolis, 1986), «Aesthetic Ideology» (Minneapolis, 1987) только укрепили его ранние критические воззрения на имперсональную природу рассказа, эстетическую автаркичность текста по отношению к реальности, перформативность повествовательной прагматики, аисторичность бытия слова, семантический релятивизм метафоры, прозопопеи и других риторических фигур речи.
Центральными работами по теории интертекстуальности другого представителя «Йельской школы» Х. Блума служат «Anxiety of Influence» (N.Y., 1975) и «Map of Misreading» (N.Y., 1975) В отличие от де Мана, к примеру, Блум не признаёт онтологических Различий текста и в вопросе о происхождении текста разделяет теорию репрезентации традиции или Другого предшествующего текста. Подобная текстуальная репрезентация маркируется семейными отношениями отца (предшественника) и сына (последователя), что было вызвано введением в теорию интертекстуальности методов психоанализа. В конечном итоге, по мысли Блума, именно психоанализ выявляет онтологическое основание любого повествования, документирующего страхи и переживания творческого невроза авторов. Помимо англоязычных поэтов от Мильтона до Стевенса такому интертекстуальному влиянию оказываются подвержены религии («Kabbalah and criticism» (N.Y., 1975), «American Religion» (N.Y., 1992). Концепция Блума переносит механизм бессознательных замещений на фигуральный язык поэзии и философии, делая главным предметом своей критики психоаналитический рассказ пациента о своём «страхе влияния». Работы американского критика «Poetry and Repression» (New Haven, 1976), «Agon: Toward a Theory of Revisionism» (N.Y., 1982) и «Western Canon» (N.Y., 1992) закаляют эту психоаналитическую концепцию интертекстуального ревизионизма эпизодами из истории литературы. Отношение к остальным критикам «Йельской школы» у Х. Блума неоднозначное. В исследовании «Deconstruction and Criticism» (N.Y.-L., 1979) им вводится оппозиция деконструкция/критика, подразумевающая под деконструкцией текстуальную редукцию повествования к своему интерпретированному тексту, а под критикой — репрезентативное воссоздание традиции и сохранение в тексте критика авторского оригинала повествования. Несмотря на это, Блум сохраняет элементы деконструктивной критики на первичном этапе бессознательного вытеснения поэтического (религиозного и философского) влияния и причисляет себя к одному из основателей «Йельской школы».
К наиболее известным концептуальным работам третьего критика этого творческого союза американских профессоров гуманитарных дисциплин Дж. Хартмана можно отнести «Interpreter: Self-Analysis» (New Haven-London, 1975), «Critic and Wilderness» (New Haven-London, 1979) и «Saving The Text «(Baltimore.
London, 1980). Все они складываются в единую концепцию антигерменевтической направленности. Здесь последовательно обыгрывается дореференциальная и различающая природа знака, ускользающая от своего позитивного онтологического определения в «пустыню» нескончаемых фигуральных замещений. Вопрос об авторе или символической самотождественности текста скрывается во множественных вариантах критических различий. Для Дж. Хартмана конституирование трансцендентального означаемого «запаздывает» («belated») в имманентном опыте письма (как и «differance» Ж. Деррида). От формальных тождеств бытия, обосновывающих мышление или объективную реальность, текст обращается к онтологическим различиям своего дискурсивного выражения, удваивающим истину структурными оппозициями знаков и смысловыми децентрациями означаемого. Эта идея рождается у Хартмана из чтения экзистенциалистской литературы и поэзии английского романтизма («Beyond Formalism» (New Haven-London, 1971)). Своей критикой он стремится развеять догмат американских формалистов об авторской индивидуальности, самотождественности текста-оригинала и гомогенности знаковых отношений внутри повествовательного дискурса. Но наибольший интерес представляют собой его критические комментарии к повествовательным структурам английского поэта Вордсворта («The Unremarkable Wordsworth» (Minneapolis, 1987)). Философские оппозиции Вордсворта «Природа/воображение», «история/фикция», «Разум/чувство» переносятся Хартманом на современную ситуацию интертекстуальности и перформативной прагматики повествования. Хартман видит в поэзии Вордсворта наличие особой экзистенции текста, в которой бытие человека и мира складывается из дореферентных повествовательных структур и временных различий настоящего/будущего (текстуального/посттекстуального). При выявлении экзистенциального аспекта повествования в диссертации также используется отдельная статья Хартмана с критикой Библии как характерного примера первописьма или «текста-оригинала» («Bible. The Struggle for the Text/ Midrash and Literature» (New Haven-London, 1986)).
Другим исследователем экзистенциального аспекта повествования был профессор Йельского университета Дж.Х.Миллер, чья критика отличается приверженностью философии «Женевской школы», экзистенциализма и постструктурализма. Началом его сотрудничества с группой интеллектуалов «Йельской школы» было издание в 1977 году структуралистской по своей сути книги.
Critic as Host", где обосновывается господствующая роль критика при этимологическом и риторическом анализе текста. Восприятие автором своего текста, впрочем, как и мира, ослепляет мистической первозданностью и очевидностью, но от этой иллюзии выражения освобождает пристальный осмотр независимой и изменчивой структуры знака, существующей в тексте как пробел или разъем отсылающего к реальности понятия. В случайном ряду знаковой актуализации в опыте письма не остаётся места для априорности абсолютной формы. Разъяснение критиком этого парадокса делает его причастным к становлению текста и динамике выражающего самого себя лингвистического знака. Две последующие работы Миллера «Fiction and Repetition» (Cambridge, Mass., 1982) и «Linguistic Moment» (Princeton, 1985) на примере классических произведений английской литературы констатируют присутствие повторяющихся «следов» одного текста в другом, которые становятся зримыми после взлома или разрыва укрепляемой автором формы единого означаемого. Свою критику формальной неподвижности бытия слова в художественном повествовании Миллер начинает с опровержения субъективности авторского замысла и объективности денотативной прагматики. В результате предметом критического исследования остаётся случайная гетерогенная игра знаков и релятивизм спекулятивной формы или трансцедентального означаемого текста. Внутри интертекстуальных сплетений, стирающих границы авторского и критического текстов, вымысел конструируется не из репрезентации или мимесиса рельности, а из знаковой референции к другому знаку или к различающему повторению более раннего текста. Работы Дж.Х.Миллера 90-х годов обращены только к раскрытию экзистенциального аспекта повествования. Среди них «Ariadne's Thread» (New Haven-London, 1992) отличается наибольшей философской обстоятельностью и концептуальностью. 3 главы этой книги посвящены соответственно критике дискурсивной субъективности повествования, интертекстуальному полиморфизму и редуктивности фигур письма. Используя знаменитые цитаты из ницшевской «Воли к власти», а также последние разработки в области теории интертекстуальности, Миллер приходит к заключению, что рассказ как жанр литературы не исчерпывается сознательной исповедальностью или денотативной описательностью, а является неким онтологическим событием вымышленного пространства «без настоящего» (М.Бланшо). В своём имперсональном смешении внешнего и внутреннего, действительного и фикционального повествование даёт начало такому текстуальному сущему, которое выражает только само себя. Последние работы Миллера «Illustration» (Cambridge (Mass.), 1992), «Topographies» (Stanford, 1994), «Reading narrative» (London, 1998), «Narrative/ Critical terms for literary study» (ChicagoLondon, 1999) свидетельствуют о поиске им альтернативных, помимо языковых, средств перформативного выражения, также минующих сознание и реальность. Кроме того, Миллер ставит некоторые исторические, социальные, культурологические вопросы, исходя уже не из абстрактных понятий гуманизма, практического знания или спекулятивного идеализма, а из опыта письма, опережающего предметный мир и направляющего исторические события.
Степень изученности философских и литературных достижений «Йельской школы» говорит о том, что они получили широкий научный резонанс в интеллектуальных кругах США и Европы. Зарубежная библиотека исследований об этих представителях американского постструкутрализма полнится работами Дж. Арака, Ж. Деррида, Дж. Калпера, Ф. Лантрикийя, К. Норриса, А. Стокла, И. Хассана и др. Ж. Деррида как основатель философии деконструкции, к которой себя причисляют почти все профессора «Йельской школы», очень высоко оценивает деятельность американских коллег, придавших своим концепциям критики особый художественно-философский колорит. Личное знакомство Деррида с де Маном, а также его многочисленные посещения Америки в 60−70-х годах стали поводом для написания «Memoires — for Paul de Man» (N.Y., 1986). Непринуждённое описание опыта знакомства американцев с западно-европейской философией хранит в себе скрытую даже от автора мемуаров альтернативу повествовательной имперсональности и прагматизма. Для Деррида было неожиданностью и то, что философия деконструкции в трудах П. де Мана, Дж.Х.Миллера, Дж. Хартмана оказалась восприимчива к американскому романтизму и к господствовавшему с 40-х годов в литературоведении США формализму (очень близкого к европейскому структурализму). В новых деконструкгивных стратегиях «Йельской школы» Ж. Деррида находил незнакомые цитаты из работ Хайдеггера, Бланшо, Леви-Стросса и совершенно уникальное освещение парадоксальной системности, повествовательной темпоральности, знаковых различий, фигуральных замещений и т. д. Такое взаимопонимание, встреченное Деррида в академической среде США, было ознаменовано ещё двумя его пространными публикациями «Schibboleth» в сборнике Дж. Хартмана «Midrash and literature» (New Haven, 1986), посвященной разбору метафоры в знаменитом поэтическом произведении П. Целана, и «Some.
Statements and Truisms about Neo-logism, New-ism." в сборнике Д. Кэрола «The States of «Theory» (N.Y., 1989), описывающей деконструкгивную двойственность означаемых в риторических новообразованиях.
Американский профессор Корнельского университета Дж. Каллер и английский профессор Уэльского университета К. Норрис до сих пор остаются непримиримыми оппонентами в исследовании философско-литературной критики «Йельской школы». Дж. Каллер широко известен как автор нескольких работ о деконструкции «Pursuit of Sign: Semiotics, Literature, Deconstruction (L., 1981), «On Deconstruction: on Theory and Criticism after Structuralism» (L., 1983), «Framing the Sign: Criticism and its Institution» (L., 1988), где с особой тщательностью анализируется деструктивная природа знака и текста, сказывающаяся на формировании художественного образа и трансцендентального понятия. Каждая критическая работа представителя «Йельской школы» зачисляется им в разряд семиотических и постструктуралистских. Иначе на проблему причастности стратегии деконструкции к постструктурализму смотрит европейский учёный К. Норрис («On Deconstruction: Theory and Practice» (L., N.Y., 1982), «The Deconstructive Turne» (L., 1983), «Paul de Man: Deconstruction and the Critique of Aesthetic Ideology» (L., N.Y., 1988)), развивающий доводы в пользу того, что исходная для деконструкции критика центрической системы идеализма «Логос/письмо» носит черты структурной феноменологии. Норрис также оспаривает каллеровское уравнивание кантовского субъективизма и соссюровской системности знака в их отношении к означаемой вещи1. Критический разбор с учётом новой методологии главных классических произведений Платона, Кьеркегора, Витгенштейна и др. приводит Норриса к заключению, что деконструкция, в том числе её американский вариант, может рассматриваться не только как эстетическая стратегия критики, но как новое направление в философии текста.
Сегодня концепции философско-литературной критики «Йельской школы» активно обсуждаются в связи с кризисом гуманитарных наук. Большинство представителей американского научного сообщества полагают, что именно эти теории критики текста, онтологизирущие лингвистический знак, поставили под сомнение многие исторические, социальные, личностные ценности, а также позитивность научного исследования. Такие философы как Дж. Бренкман, Ф. Джеймисон, Ф. Лантрикийя, Г. Спивак вступают в открытую полемику с критиками.
1 Norris Ch. On Deconstruction: Theory and Practice. L., N.Y., 1982. P. 9.
Йельской школы" по вопросам коммуникативного действия текста и его влиянием на формирование социальных институтов. Другие исследователи (Дж.Арак, А. Стокл, С. Фелперин) придерживаются подчёркнуто описательного подхода к деятельности «Йельской школы», полагая, что не один из её участников кроме подтверждения критической стратегии чтения не стремился к представлению самостоятельных философских оснований. Учитывая это обстоятельство, в своей работе мы сочли необходимым привлечь как можно больше источников по философии неопрагматизма (Р.Рорти), постструюгурализма (Р.Барт, Ж. Деррида и др.), постмодернизма (Ж.-Ф.Лиотар, М. Саруп, И. Хасан,) с целью сравнения их с концепциями П. де Мана, Х. Блума, Дж. Хартмана, Дж.Х.Миллера.
В России, несмотря на первые переводы главных книг де Мана и Х. Блума, критика «Йельской школы» остаётся малоизученной. Научное исследование её достижений ограничивается эпизодическим упоминанием в историко-описательных работах по постмодернистской литературе А. Андреева1, Г. Косикова2, И. Маньковской3 и др. Представление о незначительности данной проблематики проистекает из её восприятия как узко литературоведческой (А.Андреев даже отзывается об этих концепциях как об американском «провинциализме"4 на фоне достижений французской постмодернистской критики). Более или менее целостное описание философско-литературных концепций П. де Мана, Х. Блума, Дж. Хартмана, Дж.Х.Миллера встречается в научных исследованиях, изыскивающих их философские истоки. В этой связи чаще всего упоминаются комментарии к их российским переводам С. А. Никитина и историко-аналитическую дилогию И. П. Ильина «Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм» (М., 1996) и «Постмодернизм от истоков до наших дней» (М., 1998). Но и их попытки рассмотрения работ американских критиков в контексте современной философской культуры с привлечением текстов Р. Барта, Ж. Деррида, Ю. Кристевой, Ж. Лакана и др. оставляют всё-таки некоторую непрояснённость в отношении основополагающей проблемы философии и повествования. Настоящая диссертация восполняет этот пробел введением онтологического измерения повествования и интертекстуальности, а также новых терминов, фиксирующих временные модусы.
1 Андреев А. Художественный синтез и постмодернизм / Вопросы литературы, 2001, № 1.
2 Косиков Г. От структурализма к постструтурализму. М&bdquo- 1999.
3 Маньковская И. Париж со змеями. М., 1993.
4 Андреев А. Художественный синтез и постмодернизм / Вопросы литературы, 2001, № 1. С. 43. интертекстуальности, а также новых терминов, фиксирующих временные модусы текста (дотекстуальность-текстуальность-посттекстуальность). При этом мы ссылались на труды по постструктуралистской философии таких отечественных философов, как Н. С. Автономова, E.H. Гурко, В. А. Подорога, М. К. Рыклин, М. Б. Ямпольский и др.
Научная новизна исследования. Раскрытие главной проблемы отношения философии и повествования приводит к достижению следующих результатов научной новизны:
— установлено, что постструктуралистская проблема соотнесения философии и повествования разрабатывалась представителями литературной критики «Йельской школы» (в диссертации определено, что каждый из критиков «Йельской школы» занимался разработкой отдельного философского аспекта повествования: фигурального (П. де Ман), психоаналитического (Х.Блум), экзистенциального (Дж. Хартман, Дж. X. Миллер));
— показано, что в повествовательном тексте отсутствует принципиальное различие между теоретическим понятием и риторическим тропом (П. де Ман);
— обнаружено, что философская критика художественного повествования может строиться как психоаналитическая диагностика (Х.Блум);
— произведён анализ экзистенциального аспекта повествования (Дж.Хартман, Дж.Х.Миллер) с использованием философских стратегий чтения текста М. Бланшо, М. Хайдеггера и Ж. Деррида;
— при анализе философских аспектов повествования использовано методическое разграничение временных модусов текста (дотекстуальность-текстуальность-посттекстуальность) на основании онтологических различий авторского и критического текстов;
— рассмотрена проблема соотнесения философии и повествования на примере ранее не переводившихся на русский язык и недостаточно комментированных в российской научно-исследовательской литературе концептуальных работ американских критиков «Йельской школы».
Теоретическое и практическое значение диссертации. Положения и выводы, сформулированные в диссертационной работе, могут быть использованы в преподавании курсов философии, истории философии, современной зарубежной философии и т. д. Полученные результаты могут использоваться для дальнейшей разработки теоретических проблем философии текста «Йельской школы».
ГЛАВ Al.
ФИГУРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ (П. де МАН).
1.1.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКО — ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ.
США.
Тема соотнесения философии и повествования, исследуемая критиками «Йельской школы», не была новой в истории американской литературы. Уже в работах её первых классиков романтизма Эмерсона и Topo граница, отделяющая философа от писателя, была крайне неопределённой, что способствовало перенесению большинства философских вопросов познания мира и человека в эстетическую область языка. В такой ситуации философ оказывался в положении критика по отношению к писателю, а писатель мог заявить о своих правах критика в отношении философа. Значимость критической мысли в междисциплинарных вопросах языкового теоретизирования и выражения для культуры США становилась универсальной. Однако осознание и обоснование этого факта свершилось лишь в XX веке с появлением семиотических исследований теоретиков прагматизма, феноменологии и структурализма.
История американской критической мысли как таковой во многом явилась повторением сложных перепитий борьбы за раздел языковых сфер компетенции между литературой и философией. В начале XX века положение критики как литературной теории было неустойчивым на фоне мирового признания мастеров реалистического повествования Т. Драйзера, С. Фитцджеральда, У. Фолкнера и др. Находясь во власти реализма, критика периодически испытывала влияния общественной пропаганды этических ценностей, религизного символизма с наставительными проповедями неорелигизных мотивов (К.Льюис «Американский Адам», Л. Маркс «Машина в аду») или историцизма с устоявшейся верой в реальность и восприятием событийного повествования в качестве исторического документа. Концентрация критиков на литературном произведении как специфическом социальном или историческом феномене приводила к их субъективной разобщённости и случайности эстетических оценок, лишённых единого философского обоснования.
На этом раннем этапе становления американского литературоведения не без влияния феноменологии критик Дж. Спингерн первый формулирует принципы создания единого метаязыка уже «новой критики» в русле интенционализма, согласно которому замысел произведения предопределяется формой его творческой выразительности и активностью авторской позиции. В своём манифесте «новой критики» 1910 года этот литературный теоретик исходил из того, что смысл повествования полностью коррелируется с направленностью авторского сознания на предмет описания1. Другой американский исследователь риторики К. Берк в книге «Grammar of Motives» (1945) придаёт значениям риторического тропа метонимии статус смежных феноменов авторского восприятия, над которыми читатель производит своеобразную «редукцию» по выявлению смысла описываемого события. В риторическом тропе — синекдохе К. Берку видится миниатюрное повторение механизма репрезентации, когда текст либо восполняет, либо упрощает объект представления2.
Ближе к середине века вспыхнувший в США интерес к вопросам языка в рамках логического позитивизма, аналитической философии и зарождающегося структурализма возобновил дискуссии о теоретических предпочтениях «новой критики» в построении научного дискурса академического критицизма. После разоблачающих интенционалистов публикаций профессора Йельского университета У. К. Уимсотта «The Intentional Fallacy» (1946), «Affective Fallacy» (1949) и работ известных последователей «новой критики» Уоррена, Блэкмара, Тэйта господствующее место в американском литературоведении было занято формализмом. Для этого поколения «новых критиков» неоспоримым являлось то, что наше знание о мире обусловлено языком, обеспечивающим его репрезентацию. Сущность языка для американских формалистов исчерпывалась системой лингвистического кода, организующего хаос чувственного опыта и случайного подражания. С середины 40-х годов появляется огромное количество исследований романтической и пост-романтической поэзии, где отстаивается автономность поэтической формы по отношению к автору и референту (для романтизма им была,.
1 Spingam J. Creative Criticism and Other Essays. Washington, 1964. P.30.
2 Burke K.A. Grammar of Motoves. N.Y., 1945. P.374. главным образом, Природа). В этой новой «креативной» теории повествования автор выставляется посредником в актуализации метафизической идеи письма, недоступной «ереси толкования». Позиция читателя, не принимающего эти обезличивающие правила «закрытого чтения», делается второстепенной. Задачей критика становится поиск отвлечённых моделей некого оригинального текста. В отыскании абсолютной формы его больше заботит сам акт творения и его письменное выражение, чем соссюровская антиномия речи и языка, фонологического и лексического плана артикуляции. У. Уимсотт в книге 'The Verbal Icon" (1942) рассматривает фиксированные модели повествования наравне с идеалом или субстанцией. В другой книге «Anatomy of Criticism» (1957) канадского исследователя Н. Фрая похожим образом используется архитипическая трактовка риторических фигур при доказательстве несопоставимости повествовательной и реальной событийности, авторского творения (creation) и критического повторения (recreation). По мнению Н. Фрая, поэтическое повествование не может хранить единство смысловой формы и реального содержания и совершенно не применимо для выражения какой-либо практической «цели» или достижения конфетного результата. В работе «Frighten Simmetry», освещающей творчество У. Блейка, Н. Фрай на примере «Пророческих книг» поэта демонстрирует как мистический символизм может одолеть различие небесного и земного, мысли и действия, священного и мирского, божественного и демонического, Рая и Ада, не прибегая к библейским ожиданиям мирского чуда и свершаясь как событие чистой формы воображения.
В процессе теоретизирования относительно трансцендентального означаемого языка американские формалисты часто ссылаются на философию романтического идеализма, особенно в вопросе уподобления текста с завершенной семантической и грамматической структурой «органическому телу». К этому идеалистическому воззрению на строение текста примешивается ещё его эстетическое восприятие, т. е. в интерпретации художественного произведения для этих критиков важным оказывается не его коммуникативное воздействие на читателя, а то, как оно написано. Эти металингвистические суждения формалистов вскоре были оспорены новой теорией «деконструкции».
В противоположность формалисту к середине 70-х годов в Америке появляется иной тип критика — «деконструктора», который при встрече с застывшей формой произведения всегда недоволен тем, что событие творения уже свершилось без era участия. Такой читатель заново повторяет («деконструирует») условия его свершения в новом интертексте с целью разыскания утраченной или не обретённой ещё формы наличного текста. Эта концепция возникла в среде американских литературных критиков Йельского университета, объединившихся в 1979 году под общим именем «Йельской школы». Почему это университетское новообразование стало «школой» философско-литературной критики США? Можно сделать два предположения: во-первых, потому что сюда, в Нью Хэвен, из университета в Балтиморе, который посещали Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Лакан и другие французские философы1, переместились все известные американские последователи структурализмаво-вторых, если с 40-х годах кафедры Йельского университета использовались «новыми критиками» для пропаганды модного тогда формализма, то теперь они стали местом рождения «американской деконструкции» — новой стратегии чтения и структурной философии текста, опровергающей догматику формализма.
Группа теоретиков «деконструкции» (П.де Ман, Дж. Хартман, Дж.Х.Миллер) сохраняла влияние своих недавних учителей-формалистов, французского постструктурализма, идей американских классиков романтизма и прагматизма. Профессора гуманитарных дисциплин Йельского университета П. де Ман, Дж. Хартман, Дж.Х.Миллер сделали для себя концептуально значимым соссюровское заявление о случайности лингвистического знака, не имеющего естественной связи с означаемым, и трактовали его не только как возможность философского сближения на уровне языка теоретического понятия и риторического тропа, но и как отсутствие организующего авторского начала в «создании» текста. Эти идеи структурной философии текста американские критики приспособили к изучению перформативной прагматики художественного повествования, суть которой не в исторической или субъективной обусловленности рассказа, а в перспективе его продолжения в возможном тексте критика. Тексты автора и критика оказались неразделимы и взаимодополняемы, что привело к их онтологическому различию, господству многозначных риторических интерпретаций и отсутствию денотативной подражательности. Манифест «Йельской школы», написанный сразу.
1 Этот коллоквиум состоялся в Балтиморе в университете Джонса Хопкинса и был посвящен проблемам современного структурализма в литературе, психоанализе и социальных науках. Доклады Р. Барта, Ж. Ипполита, Ж. Лакана вызвали у американских литературоведов неподдельный интерес, особенно в вопросах критики негенетической структуры и формализма. после её образования в 1979 году, закрепил онтологическую случайность и неисторичность текста в качестве программных пунктов их настоящих и будущих теорий интертекстуальности1. Важнейшим выводом из этого манифеста было то, что автор и критик оказываются в положении отстранённого от описываемого события рассказчика. Номиналистский принцип случайности и единичности при описании художественного образа, в противоположность метафизическому постоянству и субстанциональности предданной формы смысла или означаемого объекта действительности, объясняется спецификой литературного изображения, при котором историческое деяние, реальная вещь или личность становятся повествовательным вымыслом. Знание о мире в немиметичной (воображаемой) перспективе повествования обращается в метафору, дополняющую внешнюю тексту реальность множеством фигуральных значений. Описываемое событие действительности начинает жить в языке (как в феноменологии явление живет в сознании), соответствуя его семантике, синтаксису и прагматике. Однако, по мысли критиков «Йельской школы», только благодаря читателю, повествование перестаёт восприниматься как сюжетное средство изображения вовлечённости рассказчика в реальное или вымышленное событие. Рассказанное событие теряет свою соотнесённость с конкретным автором и присваивается читателем, изменяя форму и содержание2.
Своеобразие методических находок по сближению философии и повествования даёт возможность американскому критику сделать выбор между абсолютной формой текста-оригинала и открытой для интерпретаций бесконечной интертекстуальностью. В качестве сторонника интертекстуальности ему приходится констатировать не только фикцию повествовательного изображения событий, но и риторическую многозначность языка. Здесь критик сталкивается с проблемой «второго читателя», когда пытаясь свести фигуральное значение первичного текста к буквальному, второй читатель этого критического текста с уже другим фигуральным значением становится перед необходимостью дальнейшего семантического редуцирования, либо реконструирования изначального текста. В.
1 Это подтверждают следующие строки из Манифеста: «Ничто, ни поступок, слово, мысль или текст, никогда не находится в какой-либо, позитивной или негативной, связи с тем, что ему предшествует, следует за ним или вообще где-либо существует, а лишь только есть случайное событие, сила воздействия которого, как и сила смерти, обязаны лишь случайности его проявления» (Man Р. de The Rhetoric of Romanticism. N.Y., 1984. P. 69.).
2 Все сведения по истории амриканской литературной критики даются по книге Culler J. «Framing the Sign: Criticism and its Institution». Norman and London, 1988 т F. 4−32. этой ситуации критик должен решить, что понимать под сущностью повествования: авторскую укоренённость или критическое повторение?
Каждый из изучаемых нами представителей «Йельской школы» относит себя к сторонникам второго интертекстуального типа повествования. И для его философской актуальности существовали свои объективные причины. Интертекстуальные имплантации и критические повторения, разрушающие первичную форму произведения, были вызваны читательской стратегией «деконструкции», которую изначально связывают с именем французского философа Ж. Деррида (его лекции, как полагают многие исследователи, оказали решающее воздействие на становление американского литературоведения). Для этого мыслителя построение критического интертекста обуславливаются различием между экспликациями предданной смысловой формы текста и феноменом его экспрессивного значения или центрирующим на себе языковую структуру Логосом и маргинальным в своей фигуральной многозначности письма. Вслед за ницшеанским развенчанием метафизического представления о транспарентности (прозрачности) отношений языка и мысли, Деррида проблематизирует знаковую онтологию текста. При смешении смысла и выражения риторика начинает произвольно демонстрировать не осмысленное означаемое, а противоречие несхожих и удаленных друг от друга буквальных и фигуральных значений. Причина этого кроется в знаковом происхождении текста, так как в своём воспроизводстве знак значим не сам по себе при выражении реального или трансцендентального означаемого, а относительно другого знака, который он замещает и различает (Ч.Пирс). Даже невзирая на истинность и референциальность общих понятий, они наравне с тропами художественного повествования остаются конвенциональными и риторичными. Начало падения престижа истины внутри языка было положено Ф. Ницше (ряд исследователей полагает, что всё развитие американской деконструкции проходило под «патронажем Ницше»), для которого неоспоримо: «Язык риторичен, ибо он стремится передавать только doxa (мнение), а не episteme (истину). Тропы — это не что-то такое, что можно по желанию добавлять или отнимать у языкаони — его истиннейшая природа», 1.
Современный продолжатель Ницше — Поль де Ман (1918;1983гг.), виднейший представитель американского деконструктивизма и основатель «Йельской школы», с особым интересом всматривается в исторические различия, производимые такой бескомпромиссной риторизацией логических понятий и преобразованием теоретического дискурса в художественное повествование. Вопрос о выражении истины кроется для него в исторических противоречиях между репрезентацией реальности и аллегорией письма, денотативным дискурсом и повествовательной фикцией. Объектом критики де Мана стала классическая мысль о сущностном представлении действительности, размечающем в истории текста пространственно-временную последовательность от начала к результату, от старого к новому и низводящим риторику до функционального средства выражения этого генезиса. На практике историческое воспроизведение трансцендентального означаемого или, говоря языком греческой философии, Логоса, сводящее воедино линии перцепта и концепта, означаемого и означающего, остается невыраженным в тексте, так как «.аллегория может только повторить раннюю модель без исчерпывающего пониманияТекст открыт для бесконечного замещения риторических фигур, которые повторяют и децентрируют смысловое означаемое, упрощают историческую последовательность и теряют из вида онтологическое начало. Бесконечные истолкования аллегории чтения приводят к противоречиям образных или понятийных значений текста.
Помимо выбора между метаформой и интертекстуальностью, для любого литературного критика важнейшим остаётся определение философского статуса текста и, прежде всего, его пространственно-временных критериев. В существовании текста главными событиями являются написание и прочтение, которые определяют его прошлое, настоящее и будущее. Для фиксации этих временных градаций мы будем использовать термины «дотекстуальности», «текстуальности» и «посттекстуальности». «Текстуальность» обозначает в существовании текста его настоящее или момент написания. Данный этап актуализации на письме предданной формы смысла закрепляется в знаковой самотождественности и активной авторской позиции. О «дотекстуальности» мы будем говорить применительно к репрезентации критиком текста прошлого в концепции Х.Блума. «Посттекстуальность» характеризует будущее любого текста или проект его возможной интерпретации. Это повторное разъяснение критиком фигурального значения освобождает первичный текст от своего буквального значения. Следствием «посттекстуальности», навязывающей сомнение в текстуальной стройности формы, становятся знаковые и временные различия авторского и критического текстов. Наряду с такой подвижностью интертекста мы отмечаем краткий момент тождественности посттекстуального события критики, которого нет до его свершения и которое не предполагается формализованным единством его оригинала-предшественника. Ж. Деррида связывает такое неустойчивое положение текста с difference знака: «Difference — есть то, что делает движение означения возможным только в случае, если каждый элемент, рассматриваемый как „существующий“, возникающий на сцене присутствия, соотнесён с чем-то иным, отличающимся от него, но сохраняет при этом знак уже прошедшего и одновременно остаётся открытым знаку своих отношений с грядущим» 1. В становлении текста чтение повисает над бытием слова, паразитируя на нём и определяя его. Событийность проецирующей посттекстуальности становится «другим», но не окончательным тождеством, оставляя перспективу для бессвязной аморфности и обрывистости повествовательного вымысла. Для Ж. Деррида и его последователей в лице представителей «Йельской школы» такое онтологическое Различие может продлеваться до бесконечности в очередном удвоении начала или центра предшествующего письма: «Смерть уже на заре, поскольку все началось с повторения. Как только начало и центр начали со своего повторения, со своего удвоения, двойник не просто лишь добавлялся к простому. Он его разделял и дополнял» 2.
Далее восстановим несколько возможных онтологических центров текста, на которых критик строит свои концепты прочтения. Это, во-первых, акт созидания текста на уровне авторской формы или критического повторенияво-вторых, Logos или истинность отображения событийв-третьих, lexis или фигуральное выражение. Выделенные три уровня философского обоснования текста соответствуют трём классифицируемым французским семиологом Ж. Женеттом компонентам повествования: «.я предлагаю использовать следующие термины: histoire — для повествовательного означаемого или содержания (даже тогда, когда как у Пруста, такое содержание характеризуется слабой драматической или событийной насыщенностью) — повествование в собственном смысле (recit) — для означающего, высказывания, дискурса или собственно повествовательного текстаnarration — для порождающего повествовательного акта и,.
1 ДерридаЖ. Difference // Гурко Е. Н. Тексты деконструкции. ДерридаЖ. Difference. Томск, 1999. С. 138.
2 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 474. расширительно, для всей в целом реальной или вымышленной ситуации, в которой соответствующий акт имеет место" Для различных школ американской критики каждый из этих элементов повествования (у Ж. Женетта это histoire — историчность, recit — дискурсивность или текстуальность повествования, narration — реальное или вымышленное авторство нарратива) становился достаточным основанием для создания новой концепции текста. Например, литературные «аристотелевские общества» 40-х годов широко использовали учение античного философа о подражании диегесиса природе для доказательства историчности любого рассказа, описывающего конкретное событие реальности. Упоминавшиеся формалисты в своей теории поэтической формы и «креативного» произведения придавали наибольшую значимость акту создания нарратива. В свою очередь, критики «Йельской школы» оставляли приоритет за риторическим означающим текста, предпочитая метафизическим рассуждениям о Logos’e реального события или авторской деривации рассказа, тщательный анализ противоречивых фигуральных значений, умножающих текст до бесконечности. Все эти школы дают разные определения мимесиса, обоснованного реальностью, авторским и критическим восприятием, которые зачастую теряют согласованность при повествовательных различиях. Если с подражанием текста реальности традиционная философия могла как-то мириться, то интерпретация онтологического означаемого представителями «Йельской школы» требовала создания новых аргументов в пользу бытия знаковых различий.
Литературный критик «Йельской школы» с неизбежностью становился философом при изыскании онтологического основания трансгрессии текста. Оно изыскивалось в имперсональности и фикциональности повествования. Эти свойства художественного рассказа позволяют читателю видеть за первичным или буквальным смыслом повествовательного образа или действия дополнительный переносный смысл. Поскольку повествовательный дискурс таит в себе много противоречивых значений, то в их трактовке для профессионального критика совершенно естественно, по мнению основателя «Йельской школы» П. де Мана (именно к его работам мы будем обращаться при раскрытии фигурального аспекта повествования), переживать одновременно как состояния слепоты, так и прозрения. Аллегории чтения уводят то «по ту», то «по эту» сторону повествовательного изображения события. Критическое повторение должно как можно полнее запечатлеть возможные дискурсивные созвучия и не потерять баланс между его буквальным и фигуральным, внешним и внутренним, формальным и интенциональным выражением. На примере произведений Ницше, Руссо, Малларме, Пруста и др. де Ман исполняет деконструктивый анализ, чтобы не выходя за пределы текста, обозначить и демистифицировать все буквальные и единичные значения, конституирующие его. Далее предстоит выявить отдельные нюансы этого текстуального препарирования, затягивающего в неизмеримый и запутанный мир повествовательного дискурса.
Для американского критика повествование задаёт философскому дискурсу свои правила выражения и восприятия текстуального события. Дискурс, характеризующий традиционный вид мышления философа, подразумевает пространственно-временное событие речи, содержащее оформление оценочного или рефлексивного суждения субъекта (Э.Бенвенист) или маркированной текстом позиции Я, а повествование — безличную и вымышленную дескрипцию динамичного события с использованием, главным образом, пространственных значений. В тексте они чаще всего являются не в чистом, а в смешанном виде, что послужило поводом для Ц. Тодорова ввести понятие «повествование как дискурс». Изучаемое нами письмо критика «Йельской школы» структурно моделирует свои онтологические пределы изображаемого события, используя элементы повествовательного жанра. При этом их интерпретирующая посттекстуальность удваивает и утраивает смысловое или тематическое ядро повествования. Классическая структура повествования «текст-реальность» сменяется американскими критиками-деконструкторами отношением «текст-текст», действующим на период толкования очередного противоречия фигурального смысла. Процесс образования этих кратковременных структур подражания повествовательного дискурса самому себе безостановочен, но они теряют свою самотождественность, когда застывают в литой форме письма. Законы объективированного мышления или структурной синхронии знаков в этом становлении текста критика оказываются недейственны, так как уравнённое и различённое «архи-письмом» (Ж.Деррида) или «архитекстом» (Ж.Женетт) событие повествования утрачивает своё исходное качество. Американские критики-философы «Йельской школы» выставили новые условия выражения и существования внутри интертекста и обосновали собственный философско-литературный дискурс, где рядом с англоязычными поэтами-романтиками, Блейком,.
Вордсвортом, Китсом, Мильтоном и др. пестрят имена Аристотеля, Гегеля, Ницше, Фрейда, Хайдеггера. Особенности их философской критики художественного повествования мы вначале рассмотрим на примере стратегии риторической деконструкции основателя «Йельской школы» П. де Мана.
1. 2.
П. Де МАН — КРИТИК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ.
Новые для американской литературной критики 70-х годов заявления де Мана об эстетической автаркичности отлучённого от мира и сознания текста во многом были вызваны кризисами, связанными с его деятельностью литературного критика. До того как он стал разоблачителем эстетической идеологии, подполагая деполитизацию и риторическую парадоксальность текста, в своей личной истории отношений с властью ему пришлось испытать немало разочарований и потерь. Для де Мана истина мира и истина слова никогда не были чем-то единым, так как именно разлад между ними стал началом его собственной философии критики. В этом убеждает биография П. де Мана:
В 1946 году в Антверпене многие бельгийцы прошли тягостную и унизительную процедуру допросов о связях с немецкими оккупационными властями. Вина или воспоминания преследовали немногих, так как о фашистской агрессии из-за признания королем Леопольдом II власти третьего рейха, они имели лишь абстрактное представление. С начала войны власть в Бельгии перешла к местным националистам и социалистам, исступлённо скандировавшим об образовании свободной республики Фландрии. Отделение своих от чужих в это суматошное время в Бельгии было непосильной задачей. Принесённые из Германии антисемитские лозунги носили для большинства бельгийцев скорее характер искусственной навязанности, чем пристрастной убежденности.
Среди вызванных в юридическую комиссию по расследованию военных преступлений было и имя бывшего студента свободного Брюссельского университета Поля де Мана (где он учился с 1937 года до закрытия оккупационными властями в 1941 году). По заявлению нескольких свидетелей его обвиняли в опубликовании в нацистской прессе (газетах «Le Sour» и «Het Vlaamsche Land») статей о непобедимости и дисциплинированности немецкой армии, национальной монолитности цивилизации Германии и колониальной изолированности еврейской литературы в Европе. Под вопрошающими и укоряющими за юношескую беспечность взглядами судей стоял мрачный молодой человек, рассеянно отвечающий на вопросы об отношениях с редакциями националистических газет и со своим дядей Хендриком де Маном, президентом правящей в период оккупации Бельгийской рабочей партии (впоследствии он был осуждён за военные преступления на 20 лет лишения свободы). Не рассказывать же в самом деле литературному критику о том, что Германия для него всегда оставалась родиной романтизма и классической философии. Именно там ещё со студенческой поры для него сверкнула заря сверхчеловека, взмывающего над двухтысячелетним рабством христианского декаданса, предвестником которой был его кумир — Ницше. В ранних романтических статьях де Мана об органичности национального языка присутствовал только протест космополита против засилья в Бельгии франкоязычной культуры, а полемика с антифашистом.
Сартром о месте феноменологического опыта субъекта в языке носила сугубо литературный характер безо всякой идеологической редукции к противопоставлению французского эгоцентризма и немецкого универсализма. Едва ли судейского чиновника заинтересовал бы тот факт, что посещение Бельгии 1 января 1941 года П. Валери сделало де Мана одним из многих литературных поклонников великого писателя, а его разрыв с руководством газеты «Le Sour» летом 1942 года был обусловлен отсутствием призыва к открытым революционным действиям в подчёркнуто эстетическом определении искусства как формы и стиля истории.
К этой теме его ещё вынуждали возвращаться в 1955 году при получении гражданства США (куда он эмигрировал в 1949 году) и в 60-х годах на публичных университетских выступлениях. Де Ман никогда не оправдывался, сокрушаясь о содеянном, говорил о прошлом без дрожи в голосе и только ссылался на неоправданность вмешательство реальности в мир языка. Отношение к прошлому не имело никакого значения к его научной деятельности в журналах «Critique» и «Partisan Review», Гарвардском университете (50-егг.), Корнельском университете (1960г.), университете Цюриха, университете Джонса Хопкинса (1968 — 1970гг.) и Йельском университете (с 1979 г.).
В 1989 году, уже после смерти де Мана, бельгийский исследователь О. де Греф опубликовал все 215 статей злосчастных 40-х годов с недвусмысленным комментарием к ним. Вопрос о причастности критика к нацизму вновь стал животрепещущим. Появляется большое число отрицательных откликов на эти по-своему революционные работы де Мана. Возникает даже предположение, что его последующее творчество стало их закономерным продолжением. На всякий случай, чтобы не узнать лишнего, некоторые студенты Йельского университета демонстративно выбрасывали его книги и бойкотировали лекции о нём, а известные коллеги де Мана ограничились очередным упрёком в адрес своего оппонента: «.мы раньше говорили, а вы не слушали.» 1.
Сегодня изданные книги де Мана сами проясняют проблему его отношения к власти и идеологии. Они являются свидетельством развенчания авторитета любой теоретической непоколебимости и изобличения пустословия. Например, в статье «Литература нигилизма» (1966г.) П. де Ман обращается к теме немецкой традиции в литературе, признанной многими послевоенными интеллектуалами США и Англии отголоском таких политических явлений как тоталиризм и нацизм. Критик пишет о немецких мыслителях Фихте, Гегепе, Вагнере, Марксе, Ницше, Хайдеггере, не скрывавших своей приверженности к слиянию сознания и действия, литературной деятельности и моральной ответственности и возвеличивавших образцовую целостность государства, исторический прогресс, гармоничный мир искусства. Как полагали английские исследователи, эти литературные достижения, сумели не только обогатить шедевры европейской культуры, но и породить дисциплину милитаристского государства, возводящего этот храм идеала в порочной и суетной реальности. В качестве примера выставлялось то, как Руссо в своё время спровоцировал французскую революцию, так в современной Германии и Ницше — появление Гитлера. Ответом критика была философская аргументация, как реальность своими соответствиями слову лишь.
1 Все биографические сведения даются по изданиям L. Waters De Man: Life and Work / P. de Man Critical writing 1953;1978. Minneapolis, 1989; Culler J. Rhetoric of De Man / Culler J. Framing the Sign: Criticism and Its Institution. Norman and London, 1988., Reading de Man Reading. Minneapolis, 1989. замутняет чистоту художественного воображения, ускользающего не только от власти понятия, но и от национальных ограничений литературы и философии1.
Оглядываясь на жизнь и творчество де Мана — критика, воздадим должное справедливости: его первый опыт веры в единство искусства и истории был также началом её преодоленияего кратковременная слепота стала поводом для прозрения.
Эстетика творческого наследия де Мана, как и, по-видимому, любого критика, выходит за пределы литературы, оставаясь в них. Он никогда не упрощал ключевых для литературы понятий риторики и текста, перенося их на всю область гуманитарной теории. Де Ман сохранял верность аристотелевскому определению риторики, сближающего её с философией:
Риторика — искусство, соответствующее диалектики, так как обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки" 1. Конечно, с точки зрения «науки наук» Аристотель соотносит логический силлогизм и энтимему (риторический силлогизм) как истину и подобие истины, как всеобщие и частные свойства, или как-то, что впоследствии в христианской схоластике называлось универсалиями и акциденциями. Однако внимательный читатель даже у Аристотеля сможет найти следующее суждение: «.авторы систем не говорят ни слова по поводу энтимем, которые составляют суть „тело“ доказательства» 3. Де Ман отмечает, что в XIX веке это невинное положение о смешении риторики и диалектики вылилось в эстетическое уравнивание метафизики, изъясняющейся абстрактными понятиями, и литературы, изображающей вещи в виде конкретных художественных образов. В новой читательской перспективе, с которой начал экспериментировать один из первых учителей американского критика — Ницше, оказался невозможен выход за пределы текста к его трансцендентальному и имманентному, теоретическому и практическому означаемому. Метафизический трактат и художественный рассказ теряют предмет своего описания и эстетически выражают только текстуальное означающее. Происходит это из-за противоречивости знакового составляющего текста, отсылающего только к самому себе. Иными словами, текстуальный релятивизм утверждает иллюзорность абсолютного определения бытия и ускользание от нахождения собственных.
1 De Man P. Critical writings 1953;1978. Minneapolis, 1989. P. 161 -169.
2 Аристотель Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск, 1998. С. 744.
3 Там же. С. 745. истоков. Для французского философа Ж. Деррида, оказавшего на становление эстетической концепции де Мана руководящее влияние, это открытие было поводом для бытийного различения «присутствия» и «отсутствия» лингвистического знака, фонической и текстуальной субстанции языка1. Письмо как феномен рационалистической сущности скорее говорит об одновременности собственного «наличия» и «отсутствия», о несамотождественности и «дополнительности» бытия знака. Серии фигуральных замещений, смешений, уподоблений, дроблений и укрывательств значения слова, которые то оживляются и множатся, то застывают и умервщляются бесконечными читательскими обращениями, получают статус самодостаточной эстетической ценности. Риторика из изобразительного средства выражения сущности вещи или оттеняющего смысл украшения речи преобразилась в непроницаемую тайну бытия, манящую критика иллюзорным блеском своего первоистока или уводящую его потускневшими от времени значениями всё дальше в лабиринты самоистолкований.
Для другого почитаемого де Маном философа — М. Хайдеггера такая тайна бытия сокрыта в речи, которая «сбывается» как историческое событие. Язык обволакивает и предъявляет предметное сущее, в пространстве которого «сказывается» его истинная открытость или потаённость: «Язык был назван „домом бытия“. Он хранитель присутствия, поскольку явь последнего вверена осуществляющему указанию сказа. Язык есть дом бытия, ибо в качестве сказа он способ события, его мелодия» 2. Де Ман, определяя сущность языка, отказывается от обращения к истокам прошлого или наличного бытия слова и концентрируется на возможностях его перспективного преодоления читателем. Он разыскивает истину слова не в однообразии его предметного или буквального значения, а в парадоксальном смысле его театральности и многоликости. Повествовательный дискурс (по мнению Дж.Х.Миллера, для де Мана понятия «нарратив» и «текст».
1 «.фоноцентризм совпадает с исторической определённостью смысла бытия вообще как наличия (presence) — вместе со всеми теми определённостями более низких уровней, которые, в свою очередь, зависят от этой общей формы, именно в ней складываясь в систему, в историческую цепь (наличие вещи для взгляда как eidosналичие как субстанциясущность — существование (ousia) — наличие временное — как точка сиюминутности или настоящности (nun) — самоналичность когито, сознания, субъективности, самоналичности себя и другого, интерсубъективность как интенциональное явление Эго и пр.). Иначе говоря, логоцентризм идет рука об руку с определённостью бытия сущего как наличности» (ДерридаЖ. О грамматологии. М., 2000. С. 126−127).
2 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 272. синонимичны1) своим интенциональным происхождением направляется только на поиск воображаемой формы выражения, но не на репрезентацию природы или истории. Диегесису как мимесису природы (Аристотель), возвышающего мир означаемого и своеобразие авторского начала, де Ман противопоставляет эстетику текста как аллегорического повторения и критического прочтения, искомое начало которого опутывается спорадическими сцеплениями «означающего означающего». Критик, прочерчивающий эстетические границы жизни изнутри бесконечного текста, стремиться сохранить равнодушие как к «грамматологической» деконструкции Ж. Деррида, разлагающей или удваивающей онтологическое означаемое метафизического текста, так и к различию яви и потаённости абсолютного бытия-здесь М.Хайдеггера.
К отстаиванию этой философской позиции непредубеждённого читателя П. де Ман обращается в своей последней работе «Aesthetic Ideology», анализируя «Критику способности суждения» И. Канта и теории эстетического творчества романтиков. Теоретическому метатексту, как и любому художественному нарративу, здесь предъявляются критерии искусства и «эстетического состояния». Эстетичность чистого образа в тексте становится первичным основанием для практического мира действия и воли, цели и средства, а также для теоретического комплекса причин и действий. Однако предметность эстетического содержания отличается от действительности как отличается эстетическая «целесообразность без цели» Канта от теоретической формы. «Эстетическое состояние» свободно от господства формального и материального влечения, если под ним понимать пространство воображения, не ограниченное методическими движениями разума, воли или чувственного желания2. В тексте такое положение де Ман характеризует несоответствием означаемого и означающего, которое ставит под сомнение категорию субъективного целеполагания, трансцендентальной обусловленности и реального референта. Кантовский субъективизм никогда не становится на сторону произведения искусства, ограничиваясь гносеологическим разделением сознания на интуицию («целесообразности для познания объектов вообще») и дискурсивность («объективное состояние вещей в эмпирических понятиях»)3. Тем не менее очевидно, что субъективная эстетика со своей онтологической амбивалентностью.
1 Miller J.H. Narrative / Critical Terms for Literary Study. Chicago and London, 1995. P. 76.
2 De Man P. Aesthetic Ideology. Minneapolis, 1987. P. 93.
3 Кант И. Критика способности суждения. Соб. соч. Т.5. М., 1961. С. 41. наглядно демонстрирует бегство от метафизики, которое впоследствии Шиллер объяснил эстетической потребностью «влечения к игре», а Шопенгауэрэстетическим спасением «чистого субъекта познания» от бремени метафизической «воли к жизни».
Де Ман, устраняющий все внешние влияния автора или читателя на текст и приравнивающий теоретические понятия к тропам, убежден, что внутри текста эстетическое нейтрализует противоречия теоретического и практического, формального и материального1. Романтики в этом вопросе также перемещают акцент с познания мира на самоценность произведения искусства, но их идеализация завершенности и совершенства «прекрасного» производит эффект, называемый П. де Маном «эстетической идеологией"2. Идеал языка укрепляется его «нетранзитивностью» (Новалис), т. е. пониманием цели искусства «в себе» как запрета на его использование в качестве средства для выражения конечного мира и несущественностью отношения к нему мимесиса природы: «Одно из двух: или мы подражаем природе такой, какой она представляется нашему взору, и тогда она часто кажется нам некрасивой, или мы всегда изображаем её прекрасной, но тогда это не подражание. Почему бы в таком случае, оставив в сторону природу, не сказать, что искусство должно изображать прекрасное?» 3 (А.Шлегель «Теория искусства»). Идеология того, что романтики называют органическим символизмом и мифологизацией, означающими самих себя, без отсылок к другому предмету (Шеллинг), по мысли де Мана, при риторическом выражении приобретают внутри текста дополнительную фигуральную сущность. Аллегория, разбивающая целостность произведения, — это то, что находится после текста, что неявно и должно быть обнаружено при чтении. Поэтому Мориц так неистово отлучает аллегорию от идеала «прекрасного»: «В той мере, в какой аллегория противоречит этому понятию прекрасного в изобразительных искусствах, она.
1 De Man P. Aesthetic Ideology. Minneapolis, 1987. P. 124.
2 При объяснении смысла идеологии де Ман делает акцент на то, что она всегда остаётся вымышленным повествованием: «То, что мы называем идеологией при ближайшем рассмотрении оказывается путаницей лингвистической и естественной реальности, референции и феноменализма. Во многих случаях её трудно избежать, так как любая модель прошлого или будущего существования строится в соответствии с временными и пространственными схемами вымышленного повествования» (De Man P. Resistance to Theory. Minneapolise, 1986. P.11).
3 Тодоров Ц. Теории символа. M., 1999. С. 182. не может находиться в одном ряду с прекрасным, несмотря на все усилия и старания" .
Итак, эстетическая стратегия де Мана, именуемая «деконструкцией» (попытка риторического разбора грамматических конструкций), преодолевает любые субъективные, теоретические и метафизические ограничения, растягивая текст до бесконечности. И это отнюдь не частное заявление ритора, так как предметом критики становится вся европейская культура рационализма. Главными наставниками де Мана в выстраивании концепции философско-литературной критики были несомненно Ницше, Хайдеггер и Деррида, поэтому дальнейшее исследование мы построим на отдельном рассмотрении отношения критика к каждому из них.
1.3.
П. Де МАН О ПОВЕСТВОВАНИИ Ф. НИЦШЕ.
Разрешение сложных нарративных оппозиций теоретического и эстетического зачастую не помещаются в рамках формализованного научного анализа, претендующего на истинность. Эстетика остаётся той вездесущей сферой, которая выносит бытие или представление о нём за пределы теоретической предметности, освобождая её от позитивистских иллюзий. Это противоречие пытается распутать де Ман при обращении к критике одного из немногих законченных произведений Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Французский философ Ф. Лаку-Лабарт встревожен общей метафизической направленностью этого опуса, который ему видится «пересказом» Ницше шопенгауровского высказывания, что музыкаметафизический образ воли1. Де Ман, в свою очередь, не склонен к поверхностному увлечению поиском единого и провокационно очевидного текстуального основания, опускаясь на более хрупкий и продуктивный уровень нарративной огранки произведения.
Это единственное романтическое повествование Ницше выстраивает эстетическую композицию генетической преемственности онтологического начала. Разрозненные образы античных мифов, упорядочиваются в повествовании единой органической и исторической структурой Дионис/Аполлон, музыка/слово, дающей изображаемому событию сюжетное основание, развитие и завершение (завязкакульминация — развязка). Как известно, романтики также вели разговор о бытии только в языковых пределах тематической структуры повествования, не обращаясь к мимесису реальности или воспроизведению идеальной вещи (как это делали Аристотель и Платон). Вспоминая Новалиса, можно сказать, что романтизм — это «роман, прожитый как жизнь» .
У де Мана вызывает особое беспокойство эта противоречивая симпатия Ницше к романтической генеалогии музыки, так как почти в это же время на своих лекциях по риторике в Базельском университете он говорил, что нет никакого нериторического, «естественного» языка. Прав не Сократ — теоретик, красноречием.
1 Лаку-Лабарт Ф. Musica ficta (Фигуры Вагнера). Спб., 1999. С. 40. убеждавший своих собеседников в истине, а лицемерные софисты, тщательно заготовившие свои риторические послания, уводящие от однозначного ответа. Именно так и строит де Ман свою эстетическую стратегию риторической деконструкции: «Когда риторику считают убеждением, она оказывается исполнением (performance), но, когда её рассматривают как систему тропов, она деконструирует собственное исполнение» 1 После таких утверждений понятно недоверие де Мана к романтическому «мело/логоцентризму» «Рождения трагедии из духа музыки», от которого Ницше впоследствии сам отказался в «Ессе homo», желчно укоряя себя за минутную слабость к лукавому очарованию философией Шопенгауэра и музыкой Вагнера. В статье о Ницше в книге «Аллегории чтения» (1979г.) де Ман демистифицирует романтическую форму онтологической преемственности повествования «Рождения трагедии» от Начала к цели, от Диониса к Аполлону, от музыки к слову, обращаясь непосредственно к содержательной противоречивости античной трагедии, несимметричной композиции тематических звеньев произведения и деконструкции генетических оппозиций языка.
Замысел «Рождения трагедии из духа музыки» возник у Ницше в период его участия во французской кампании 1871 года. Ницше был далёк от военных реалий и с гораздо большим воодушевлением приближал в воображении сражение греческих богов Аполлона и Диониса. Уже где-то в древней Греции Ницше опрокидывает статуи богов-олимпийцев, расталкивает античных трагиков и выводит из сонного оцепенения грезящих аполлоновскими иллюзиями поэтов. Всех их он помещает на своей сцене письма и объявляет о перерождении музыкального бога Диониса. Таковы были предварительные условия, укрепляющие его эстетическое убеждение: не объективная природная действительность и даже не субъективное представление её в слове становятся истиной, а знание, «.что для действительного творца этого мира мы уже — образы и художественные проекции и что в этом значении художественных произведений лежит наше высшее достоинство, ибо только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности, хотя, конечно, наше сознание об этом своём значении едва ли чем отличается от того, которое написанные на полотне воины имеют о представленной на нём битве'*.
1 Де Ман П. Аллегории чтения. Е., 1999. С. 157.
2 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Соч. Т. 1. М., 1990. С. 75.
Поселяясь в эстетическом мире образов, его сущностное основание Ницше ищет в игре прямого и переносного смысла, понятия и сравнения: «Метафора для подлинного поэта — не риторическая фигура, но замещающий её образ, который действительно носится перед ним, замещая понятия» 1. П. де Ман, как феноменолог, закрепляет эту ницшеанскую оптику мира в полярности «явление/вещь», переносном и прямом смысле метафоры. Самотождественная вещь сущего и её феномен в философском инструментарии гуссерлевских понятий располагаются в неделимой области бытия вплоть до совместного ускользания за «горизонт» мира. Иное дело, сравнительный образный ряд метафоры, блуждающей в неестественном поиске своего прямого пред-выражения. Для философа интересен эстетический разрыв явления, как сновидения, и сущего, как первопонятия природы, персонифицированных во враждебных образах Аполлона и Диониса. Из этого различия выносятся два типа античных художников — марионеток космического произвола: «.с одной стороны, мир сонных грёз, совершенство которых не находится ни в какой зависимости от интеллектуального или художественного образования отдельного лица, а с другой стороны, действительность опьянения, которая также нимало не обращает внимания на отдельного человека'2. Действительность дионисийского опьянения музыкой остаётся нетронутой и незримой там, где её смешивают с жадной до эмпирической определённости и очевидности реальностью. Искусство опережает даже трансценденцию, которая знает как себя выразить в имманентном, чтобы не превратиться в разрезанную театральную мишуру. Хрупкое очарование искусства состоит в его изначальной безобразности, т. е. музыкальности, предсказывающей свой художественный образ. Предшественник Ницше А. Шопенгауэр точнее всего набросал эскиз разлада поэтического образа и музыки, понятия и действительности: «.мир отдельных вещей, доставляет наглядное, частное и индивидуальное, отдельный случай — как для всеобщности понятий, так и для всеобщности мелодийно эти две всеобщности в известном отношении противоположны друг другу, ибо понятия содержат в себе только формы, абстрагированные от предварительного созерцания, как бы снятую внешнюю оболочку вещей, -т.е. представляют собой настоящие абстракции, тогда как музыка даёт предшествующее всякой форме сокровенное зерно, или сердцевину вещей.
1 Там же. С. 85.
2 Там же С. 63.
Это отношение можно хорошо выразить на языке схоластиков: понятия universalia post rem, музыка даёт — universalia ante rem, а действительностьuniversalia in rem" 1.
Эти строки вдохновили Ницше, но не на прославление воли, — скорее он всеми силами пытался заглушить и укротить её алчные вожделения, — а на открытие новой вулканической глубины греческой трагедии, бурлящей разладом с роком, моралью, чувственностью. Эллинский пессимизм возвышается над метафизической объективностью воли в сугубо эстетической противоречивости извечного становления мира:
Здесь нужно возможно строже различать понятие сущности и понятие явления: ибо музыка по сущности своей ни в коем случае не может быть волейкак таковая она должна быть решительно изгнана из пределов искусства, поскольку воля есть нечто неэстетическое по существуно музыка является как воля'2. На смену шопенгауэровскому понятию музыки заступает лирическая и художественная метафора, в своей феноменологии сравнивающая и отражающая не вещи, а волнительный порыв безобразной самотождественности музыки. В отличие от сознательного понятия, метафора не определяется очевидным и мотивированным подражанием сущности, оставляя иногда ваятелей образов искусства в сновидном неведении относительно истоков своего совершенства. Прозрение музыкальной сущности, прямого смысла, пробуждение ото сна иллюзий её словесного выражения, наступает в момент невыносимого страдания и ужаса, причиняемого стоящим у истоков мира природным инстинктом, о котором лучше Силена, воспитателя Диониса, не сказал никто- «Наилучшее для тебя вполне не достижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по достоинству для тебя — скоро умереть». Не слово, а тон, мимика, жест, поза в тает замещаемой им мелодии располагают к зримости фигурального и глубине прямого смысла. Не иначе как кощунственным прегрешением перед бытием называет Ницше эстетику оперы, уравнявшую в правах на истинность выражения музыку и слово, причину и следствие, подлинность и фальшь.
Де Ман, окруживший себя строем цитат, упорно настаивает на повествовательной бесцельности и метафизической противоречивости.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Соч. Т. 1. М., 1992. С. 260.
2 Ницше Ф. Соч. Т. 1. М., 1990 С. 78. ницшеанской риторики. Форма или центр повествования — генетическая структура Дионис/Аполлон, действительность/иллюзия, повторяющаяся в историческом движении от отца к сыну или от Начала к Цели, не выдерживается Ницше по принципиальным соображениям: «Но чего можно ждать для самого искусства от действия художественной формы, источники которой вообще не лежат в пределах эстетики? От художественной формы, которая скорее прокралась в область искусства из некоторой полуморальной сферы» Дионисийское начало воспринимается как «художественная сила» или «бессознательная музыкальность», но и она уличается де Маном в порочном проникновении из природной действительности и интуиции в творение искусства. Для де Мана поразительна эта слепота Ницше, отбросившего репрезентацию и всяческий субъективизм, но пытающегося сделать поэзию служанкой музыки. Текст сопротивляется насильственному низведению до средства выражения и готовит для повествователя бесчисленные ловушки его раздвоения с Другим. Место Другого — в дополнительных значениях, расширяющих границы текста. Другой неуклонно преследует и поучает Я повествователя, который пребывает в безмятежном состоянии авторского одиночества, начиная с экспозиции «Опыта самокритики» и заканчивая торжественной развязкой с дионисийским гимном музыке. Другой — это дымка иллюзии, покрывало Майя, окутывающее вещи «мировой воли» и определяющее не только сократическое и аполлоновское явление, но и дионисийское «.метафизическое утешение, что под вихрем явлений неразрушимо продолжает течь вечная жизнь» 2. Вся повествовательная композиция со своей кульминационной генетической оппозицией Дионис/Аполлон, отец/сын рушится в словесном представлении с наспех приноровленной телеологией без зримого начала, превращаясь в беспорядочное нагромождение риторических сравнений сократической, эллинской и буддийской культур. Скрытый метафизический смысл метафоры хлынул наружу, упростив первичную музыкальную безобразность словом и, как выражается де Ман, придал всему тексту гладкую метонимическую облицовку.
Следует ли доверять иронии таких рассыпающих авторский рассказ резюме и отказаться от метафизики музыки в ницшевском «Эллинство и пессимизм»? Прежде всего признаем ряд философских несоответствий в построении де Маном непроницаемой метафорической оппозиции «явление/вещь», «Аполлон/Дионис»,.
1 Там же. С. 134.
2 Там же. С. 126 цель/ начало", так как прямая и обратная связь universalia и rem постулируется строгой онтологической соотнесенностью шопенгауэровской воли. Даже если принять аксиому Ницше, что «сама воля есть предмет музыки, но не её источник», и воспринять дионисийское первоначало музыки только как эстетический феномен по отношению ко всегда вторичному словесному представлению, то ряд других ницшеанских замечаний могли бы их породнить с самыми теоретически выхолощенными положениями классической феноменологии:
Самая плохая музыка, в противоположность лучшей поэзии, может ещё означать дионисическую первооснову мира, и самая плохая поэзия при самой лучшей музыке может быть слепком, зеркалом и отражением этой первоосновы" .
После бесконечных разоблачений метафизического основания воли/музыки/слова можно обратиться с коротким замечанием к деконструкции более узкой области словесных «сознательных и бессознательных» представлений, к которым сам Ницше не отнёсся с оглядкой:
Только как представления знаем мы эту сущность, только в её образных проявлениях познаём мы еёкроме них, нигде нет непосредственного пути, который вёл бы к ней самой" 2. Кантовский агностицизм просматривается во вполне сознательных заблуждениях теоретика Сократа или художника Аполлона и авторский текст способен завизировать все эти познавательные изъяны, но как быть с уличением во лжи трагика Диониса, истинность которого априорна определению словесной формы. Дионис бессознателен, но не в русле психоаналитических клише, а в смысле обещаний развеять туман иллюзий в бесконечном становлении посттекстуальности. Единственно доступная нам словесная оппозиция сознательное/бессознательное или текстуальное/посттекстуальное — это и есть одновременное сосуществование автора и незримого соавтора, иллюзиониста и демистификатора. Как бы Ницше-филолог не домогался признания Диониса, за очередным совлечением покрова Майя возникает другой и конца этому не видно. Повествование о слове, представляющем музыку, никогда не обратиться в музыку о слове, а только в новое повествование о Другом слове, пропущенном или забытом. Мудрость де Мана-критика не в противопоставлении тишины текста раскатистым мелодиям Вагнера, а.
1 Ницше Ф. О слове и музыке / Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 89.
2 Там же С. 82. в том, что критикуя его критику, оказываешься на удобном основании шопенгауро-ницшеанской метафизики, чтобы вновь ринуться в зачарованный круг её развенчания. Остановимся перед этим искусительным повторением и ступанием по уже пройденной колее философских замечаний Ф. Лаку-Лабарта о бытии музыки как образе «мировой воли» или Ж. Делёза о «сверх-бытии» трагической двойственности становления1. i ДелёзЖ. Логика смысла. Фуко М. Т?1еа1гит рГШоБорГисит. М., 1998. Е., 1998. С. 344.
1.4.
БЫТИЕ СЛОВА И МИРА В РАБОТАХ П. Де МАНА И М.ХАЙДЕГГЕРА.
Несмотря на фигуральную многозначность повествования, де Ман вседа стремится найти его онтологическое основание. Результатом анализа поэтических текстов для критика становится философское доказательство первостепенности его дополнительных разъяснений фигуральных высказываний. Он возлагает на себя ответственность открывателя смысла повествования, который скрывается буквальным значением слова. Такой выход интерпретатора фигуральных значений за пределы прямого значения текста именуется де Маном трансцендентальным. Для де Мана необычность ситуации чтения заключается в том, что вопрос о существовании текста возникает только в момент его повторения и риторического толкования в другом тексте:
Мы называем текстом любое сущее, которое можно рассматривать под этим двойным углом зрения: как производящую, бесцельную, нереференциальную грамматическую систему и как фигуральную систему, завершённую трансцендентальным обозначением, извращающим грамматический код, которым текст обязан своему существованию. Определение текста также устанавливает невозможность его существования и предсказывает появление аллегорических повествований о его невозможности" 1. Давая такое определение текста (которое подходит и к определению аллегорического повествования), де Ман вводит различие между имманентностью и трансцендентальностью его знаковой составляющей или первичной грамматической конструкцией текста и отрицающим его критическим повторением. Возникающая оппозиция «внутри/вовне"0гмагс1/ои1л/агс0 показывает историческую динамику текста, которая не отличается последовательностью, потому что предварительное оформление законченного повествования остаётся во власти буквального значения, но отменяется поздним прочтением, изнутри дающим его риторике новое тематическое основание. Попытка читательского определения истинности текста или называния скрытого фигурального значения через разрушение грамматической формы и демистификацию наличного существования слова была названа П. де.
Маном деконструкцией. История текста становится для деконструирующего читателя первичным накоплением документально подтверждённых буквальных значений, посеянных и ждущих своего «события» расшифровки в новом повествовании.
Пафос этого воззрения подсказан хайдеггеровским вопрошанием исторической действительности, где истина мысли опережает действие, а истина словапредметное сущее. История метафизической традиции теряет свой смысл, когда мысль и слово не «сбываются» в мире сущего, остаются «потаёнными». Для отыскания истины М. Хайдеггер предлагает метод разбора и раскрытия утраченной исторической традиции под близким названием «деструкция»:
Приходящая тут к господству традиция делает ближайшим образом и большей частью то, что она. передаёт, так мало доступным, что скорее скрывает это. Она препоручает наследуемое самопонятийности и заслоняет подступ к исходным источникам, откуда традиционные категории и понятия были почерпнуты отч. аутентично. Деструкция не имеет равным образом и негативного смысла отрясания онтологической традиции. Она призвана наоборот очертить эту последнюю в её позитивных возможностях" 1. Структуралист де Ман радикализует подобный разбор тем, что под сущим он понимает только текст с разноуровневым смыслоозначением и без отсылки к предметному означаемому. Временность риторики для него в естественном сокрытии слова посредством слова или одновременном открытии существования посредством не-существования. Американский исследователь Аллан Стокл подчёркивает это отличие представлений двух философов о бытии слова: «Де Ман обратился к фигуральному поэтическому языку, но ассоциируя с ним хайдеггеровское бытие, он против приравнивания его к хайдеггеровскому «дому» и против приравнивания поэтического слова к природному объекту. Бытие как поэтический язык. такое Бытие как различие и фигуральный язык, несущий смерть в своём движении к повторению'2. Претензии слова на истинность удовлетворяются лишь признанием его не-истинности, что предполагает проблематичность бытия слова, его рассечённость на несхожие начала. Не таков Хайдеггер, избегающий компромиссов с не-истиной и усердно сглаживающий апории элеатов о несоответствии слова и вещи. Озабоченность философа состоит.
1 Хайдеггер М. Бытие и Время. М., 1997. С. 21−22. ^btf^Vfl*.
2 Stoekl A. De Man and the Dialectic of Being // Diacritic, 1985. P. 41−42^ ^—i-*4*" в показе слова как экзистенциального условия мира и вещи: «.отношение слова и вещи собственно уже есть: никакая вещь не есть без слова» Истинность в весомости языка, проложенного «лесными тропами» или стоящего как «дом бытия», а его неподвижность, единственность и временная предданность обеспечивается извечной гармонией античной «четверицы» земного, небесного, смертного, божественного.
Мысль Хайдеггера имеет своим истоком греческую натурфилософию, учившую.
0 космическом всеединстве неба и мира, богов и людей. Античная неразделённость судьбоносной природы и истории человечества позволяет мысли пребывать в мифической безупречности и открытости. Философ остаётся хранителем истины даже в минуты отлучения мира от мысли, спрятанной и бесприютно ожидающей своего времени. В курсе лекций 1933 — 1934гг. о Гёльдерлине Хайдеггер воздаёт должное союзу философии и поэзии, где первая неизменно находится в поиске мысли, а вторая придаёт ей чувственное осязание в слове. Но может ли слово вообще быть подобно миру? Слово — это не предмет и не тень, которую он отбрасывает, но нечто в себе сущее, живущее по ту сторону истории и даже своего создателя — человека.
Таким образом, хайдеггеровское различие предметного сущего и бытия несомненно приблизило повествовательное различие грамматической системы и онтологической фигуры, но не стало их общим метафизическим основанием. Де Ман всячески подчёркивает это обстоятельство в работе о Китсе и Гёльдерлине в сборнике «Критические письма 1953 — 1978гг.», обращаясь к античному сюжету гибели греческого титана Гипериона. Полемика между Хайдеггером и де Маном переносится на повествовательные отличия трагической разъединённости слова и мира у Ф. Гёльдерлина или отторжения поэзии от истории у Д.Китса.
Присмотримся к поэтическому повествованию Гёльдерлина «Гиперион», уносящему нас своей торжественной ритмикой в Грецию, страну романтических грёз. Титан Гиперион, предшественник олимпийца Аполлона, бессилен скрыть мрачную раздвоенность своего духа: с одной стороны, он понимает, что слияние «.воедино со вселенной — в этом жизнь божества, это небо человека», а с другой, говорит, что «.порвёт все цепи, связывающие тебя с миром». Покровительство искусству и совершенству не всегда свидетельствует о врождённом соощущении с Природой, непреклонно упорядочивающей судьбы людей и небожителей. Её разлад с миром сулит Гипериону потерю друга и возлюбленной Диотимы, недосягаемость мечты о свободе нации и поругание веры в божеств. Облик Гипериона бледнеет от отчаяния за злобу и упрямство разъединённых существ, кующих свои бездушные миры: «К работе прикован/ Каждый один, и в шумной своей мастерской он слышит/ Только себя одного.» История, бесцельно строящая и разрушающая, обернулась вульгарной комедией существования. Гиперион должен уйти прочь из этого мира, оставить мечту о человеческом счастье, вознестись в собственные выси. Улыбка ободряюще озарит лицо Диотимы: «Не ищешь ли ты лучшее время, прекраснейший мир?» Это время истины пришло к миру вместе с Гиперионом, но не может быть явлено, так как мир загородился от него своей предметностью. Прекраснейшее скрыто, но оно есть, даёт о себе знать в едва струящемся свете Духа, оживляющем вселенную: «Духа светило, прекраснейший мир, уже закатилось». В авторский голос Гипериона и тишину этого голоса, обращённого пока в пустоту, вслушивается Хайдеггер, чтобы показать то, что может «.глухо заслонить свет всякого раскрытия тайны, всякую явленность истины» 1. Трагедия поэта Гипериона и другого гёльдерлиновского героя, философа Эмпедокла, состоит в роковом разладе бытия и мира. Осознавая своё предназначение, они не могли изменить своего жребия и отвернуться от мира, хороня в себе истину. Она одна стала причиной их слепоты и их жертвенности: «Ибо нуждались, слепые, мы в жертве». Здесь же, по Хайдеггеру, сокрыта «.мысль слушавшего судьбу мира Гёльдерлина» 2. Для мысли слово никогда не может быть самодостаточным, так как оно существо выражения единства или «разъятости» с миром. Это тематическое ядро наиболее привилегированное в этом повествовании.
Иначе о проблеме олицетворения поэзии с образами греческой мифологии судит П. де Ман, обращаясь к поэтическому образу Гипериона другого поэта Д.Китса. В его поэме «Падение Гипериона» (1817г.) трудно отыскать тождество повествования и мира, так как его поклонение Природе ограничивается только воображаемым пространством слова. Сюжетный накал повествования достигает кульминации, когда история в лице богини памяти Мнемозины на жертвеннике павшего титана Гипериона упрекает поэта за его отрыв от земного бытия: Те, о которых ты сказал, живут Не призраками, — возразил мне голос,.
1 Хайдеггер М. Вопрос о технике / Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 234.
2 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 206.
Не робкие мечтатель ониИм нет чудес — вне милого лицаНет музыки — без радостного смеха. Прийти сюда они не помышляютА ты слабей — и поэтому пришел. Какая польза миру от тебя И всех тебе подобных? Ты — лунатик, Живущий в лихорадочном бредуВзгляни на землю: где твоя отрада?1.
Или:
Сновидец и поэт — два существа о.
Различных, это — антиподы в мире.
Это предсмертное завещание Китса о падении Гипериона, мечтателя и сновидца, которого не хочет признавать история, является не столько актом самокритики, сколько позитивным примером нарратива, утратившего свою связь с миром. В войне титанов Сатурна, Гипериона и Океана с олимпийскими богами Юпитером, Аполлоном и Нептуном слава победителей досталась последним, а с новыми богами изменился мир и верующие. Истории теперь нужны новые поэты, которым покровительствует Аполлон. Сновидение Гипериона прервано гремящим потоком жизни, возвращающим к реальности. Автор, почитатель Гипериона, бессилен следовать за ним, и только в слове ему удаётся произнести своё восхищение грёзам совершенства. Языку поэзии Ките доверят больше, чем даже гармоничному античному миру, так как в ней он черпает вечную истину традиций и здесь ему открывается тайна существования, которую он переносит в сюжеты собственных повествований: И таковы великие преданья О славных мёртвых первых дней земли, Что мы детьми слыхали иль прочли1.
Хайдеггер и де Ман обращаются к названному повествованию Гёльдерлина и Китса о судьбе титана Гипериона, чтобы продемонстрировать своё представление о заключённой в поэтическом слове истине в трагический момент её утраты или сокрытия. Если хайдеггеровская мысль вопрошает о разделённое™ в слове бытия и.
1 Шелли Б. Ш., Д. Ките Избранная лирика. М., 1981. С. 194.
2 Там же. С. 195. мира, то для де Мана важнейшим представляется вопрос только об истинности и ложности слова (на примере поэзии Гипериона и Аполлона). Философ становится критиком, когда экзистенциализм Хайдеггера и текстуализм де Мана выражается посредством выделения историчности или вымышленности художественного повествования. Для Хайдеггера истина мира всегда преддана, она открыта или потаена, но она здесь, в слове. Для де Мана истина, конституирующая текст, почти всегда отсутствует в его буквальном значении и открывается только при разъяснении его возможного фигурального значения. Или временность истины заранее определена в «домировом» слове, или её открытие отсрочивается воображением читателя на будущее. В обоих случаях дискурс «наличия» истины в повествовании может выстроить только философ, а не автор. Любой философский дискурс набрасывает понятийную сеть на весь корпус текстуальности, давая направление его стремительному движению не только на каком-то отрезке истории (скорее означаемое событие здесь вообще не играет существенной роли), но и вплоть до её ускользания в Ничто. Не будет ничего удивительного, если Хайдеггер обнаружит у Китса прославление античного первоистока или «мировости» поэзии, а де Ман посмотрит на Гёльдерлина как на одинокого поэта-мечтателя, воображением занесённого в поэтическую мифологию Эллады. Таким образом, разыскание истины слова в историческом прошлом и наличном у Хайдеггера и её перерождение в будущем тексте критика у де Мана может представлять собой два различных типа анализа художественного повествования.
В критическом сборнике «Blindness and Insight» (1971) де Ман уделяет внимание попыткам немецкого психоаналитика Л. Бинсвангера осуществить приближение хайдеггеровского различия бытия и мира к более антропоморфным определениям психологии. Тщательное рассмотрение Бинсвангером творчества Х. Ибсена привело его к выводам о том, что художественное повествование почти всегда оставляет укрывшегося от мира автора наедине со своим невротическим воображением. Для психоаналитика вымышленная трансценденция повествования — не более, чем манифестация отказа от мира, навязывающего повседневные заботы. Художественный вымысел опознаётся по тяжёлым состояниям истерии и меланхолии, замещающих в слове желанный чувственный опыт. Однако, по мнению де Мана, столь негативно показанные Бинсвангером художественная репрезентация мира или сознательные иллюзии писателя не указывают на другие источники.
1 Там же. С. 116. конституировании текста. В повествовательном тексте, конечно, можно проследить различие воображения как бессознательной истерии и мира как разрушающей сознание внешней угрозы, но будет ли это объяснением риторической амбивалентности по отношению к реальности, например, тропа иронии или подсказкой критику возможного фигурального значения?1 Повествование и реальность, вымысел и чувственный опыт вновь оказываются в оппозиции, разводящей философские основания текстуализма де Мана и экзистенциализма Хайдеггера. А для читателя главным остаётся вопрос: хранит ли повествование истину для себя или для мира?
1.5.
КРИТИКА П. де МАНОМ И Ж. ДЕРРИДА «МЕТАФОРЫ РУССО».
Первая встреча Ж. Деррида и П. де Мана состоялась в Америке в середине 60-х годов, когда готовились к выходу в свет главные книги французского философа «Голос и феномен», «О грамматологии», «Письмо и различие». В своих американских выступлениях Деррида говорил о феноменологическом и структурном происхождении письма, о логоцентризме и текстуализме, о различающей «дополнительности» текста и самоконституировании авторского субъекта. Как близки были эти новые философские основания текста, рассеиваивающие структуру фоноцентризма и логоцентризма, американским критикам, искавшим альтернативу литературной теории интенционалистов и формалистов.
В статье этого периода «Форма и интенция» П. де Ман обращается к парадоксальности литературного творчества, смысл которого состоит в том, чтобы отменить в фигуральном языке повествования интенцию реальности или автономную форму выражения (lexis). Обсуждение этой проблемы вызывало самый широкий резонанс, начиная английского поэта Кольриджа, поэтически возносившего бессознательную мощь воображения и Ауэрбаха, разграничивавшего гомеровское чувство реальности и христианское значение истины, и заканчивая формалистами, объясняющими знание мира конвенциями языка, обеспечивающими его репрезентацию1. Но сможет ли текст, опережающий воображаемыми образами отсылку к вещи или природе, удерживаться в своём становлении идеальной формой? По признанию Ж. Деррида, ответ на этот вопрос имеется в произведениях Ж.-Ж. Руссо, посвящённых выраженному на письме воображению как восполняющему спутнику природной перво-формы: «Мы могли бы уже заметить:
1) что воображение, исток различия между силой и желанием, определялось здесь как различАние [отстранение — отсрочивание] наличия или наслаждения или же различАние внутри наличия или наслаждения;
2) это отношение к природе определяется как отрицательное расстояние. Дело не в том, чтобы исходить из природы или же вновь к ней возвращаться, но в том, чтобы редуцировать эту её «отдалённость»;
3) что воображение, которое пробуждает другие виртуальные способности, и само оказывается виртуальной способностью, причём, самой живой из них. Правда, эта способность выходить за рамки природы заложена в самой природе, в природных глубинах. Эта способность, можно сказать, держит свой запас в запасе. Это бытие-в-природе — очень странный способ бытия восполнения, обозначающий одновременно и избыток, и нехватку природы в самой природе" 1.
Продолжая тему текстуальной несовместимости с идеальной формой в произведениях Ж.-Ж. Руссо, П. де Ман пишет об игровом характере риторической децентрации текста, встроенной в немиметическую традицию слепой романтической интенциональности:
Суждение описывается как деконструкция ощущения, и эта модель разделяет мир на бинарную систему оппозиций, организованную осью внутри/вовне и затем приступающую к обмену свойств между областями, лежащими по обе стороны от этой оси, на основании аналогий и возможных тождеств'2.
Читательские взгляды Деррида и де Мана сходятся в том, что «век Руссо», заявляющий о происхождении языка, впервые соприкасается и с проблематичностью выявления его генетической модели из-за смещения перцепта и концепта, удаляющего письменное означающее от возможного трансцендентального означаемого. Деконструктивный анализ строится на игре этих взаимных несоответствий. Но если отличительная черта критического разбора Ж. Деррида состоит в подчёркивании искусственности и естественности вербального выражения на графическом или фоническом уровне, то особенность деконструктивной стратегии де Мана состоит в распутывании сугубо текстуальных противоречий между грамматическими и фигуральными структурами, между тематическим развитием авторского повествования и расстраивающим любые тождества критическим дискурсом. Де Ман как критик, обитающий в тексте Руссо, не единожды указывал Деррида, что метафизическая эпоха XVIII века с культом.
1 Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 347.
2 Де Ман П. Аллегории чтения. Е., 1999. С. 273. разума и природы не могла всерьёз ставить вопросов о первичности или восполняющей функции письма и поэтому делала его вспомогательным или незначительным1. Обозрение де Маном работ Руссо воздаёт должное авторской любознательности и проницательности в соизмерении природы и человека, но не более того. Тематическая направленность его эгоцентрических (и поэтому метафизических) произведений убеждает в том, что Руссо психологичен в автобиографиях, дискурсивен в политических трактатах и сентиментален в вопросах любви и сострадания. Работе деконструкции в пределах текстуальной структуры «внутри/вовне» здесь предоставляется повествовательное поле нарушенных оппозиций ощущения и языка, природы и воображения человека, естественной свободы и насилия культуры и т. д.
Два взаимосвязанных трактата Ж.-Ж. Руссо «Опыт о происхождении языков, а так же о мелодии и музыкальном подражании» и «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» по времени написания отделяются несколькими годами и не заключают в себе тематических разногласий. Так как тема второго трактата восстанавливает историческую последовательность отделения человека от природы посредством языка, свободы и воображения, де Ман относит первый к его развёрнутому примечанию. Это не противоречит их содержанию, отличающемуся типичным для литературы эпохи Просвещения пафосом. Тематическим ядром, составляющим «метафизику» повествования, можно назвать утверждение Руссо о том, что в эпоху начала мира Природа заботливо окружала человека жизненным довольствием, создавая и удовлетворяя все его желания и потребности. Природное первоначало должно было обеспечивать повествовательную симметрию как в рассуждениях о языке в первой части, так и в обосновании собственности и политических форм управления — во второй. Согласно повествованию Руссо, Природа — это непознаваемый онтологический центр, вокруг которого складывается культура человека, маргинальная по своей сути: «.по мере того, как мы углубляемся в изучение человека, мы., утрачиваем способность его познать'2. Бегущий от даров природы, метущийся человек наделён свободной волей выбирать, «совершенствоваться», воображать, а эта страсть к самоутверждению в принадлежащем лишь ему культурном времени и пространстве отдаляет от чувственного истока желаний, вытесняемому вовне его.
1 De Мап P. Blindness and Insight. N.Y., 1971. P. 121.
2 Руссо Ж-Ж Трактаты. M., 1969. С. 40. внутренней виртуальностью: «Чем больше размышляем мы .тем более увеличивается в наших глазах дистанция между чистыми ощущениями и самыми несложными знаниями» Занятие Природой внешнего положения по отношению к человеку сказывается и на изменениях в использовании языка. Если в естественном состоянии «. предмет получил сначала своё особое название, вне зависимости от родов и видов, которые эти первые учителя были не в состоянии различать и все индивидуумы представлялись их уму обособленными, г, то человек воображающий стремиться создать в речи общие понятия: «Нужно, следовательно, произносить предложения, нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия, ибо как только прекращается работа воображения, ум может продвигаться лишь с помощью речи» 3. Де Ман связывает этот конкретный и абстрактный стили мышления с назывательной и обобщающей функциями языка или с буквальным и фигуральным значением текста. Важность данного замечания заключается в отрыве культурного состояния в виде текста, лишённого референта действительности, от чувства природного бытия. В «Опыте о происхождении языков» содержится отрывок, ясно говорящий, что метафора со своим образным переносным значением может опережать предметное буквальное значение, как и текст может опережать и отсрочивать «наличие» природы:
Дикарь при встрече с другими людьми сперва устрашился. Его испуганному воображению эти люди представляются более рослыми и могучими, чем он самон назовёт их гигантами. Из длительного опыта он узнает, что мнимые гиганты не превосходят его ни силой, ни ростом, и их телосложение уже не будет соответствовать той идее, которую он сначала связывал со словом гигант. Тогда он придумает другое название, общее и для него, и для этих существ, например, человек, а название гигант оставит для ложного образца, поразившего его воображение" 4. Затем Руссо поспешно оговаривается, что этот «ложный образ», внушённый страхом, рассеивается ради имени собственного или прямого смысла, но де Ман не оставляет этот отрывок без собственного толкования, полагая, что эта первичная метафора исполняет не только концептуальную, но и деноминативную функцию, так как речь идёт о восприятии человеком человека, а не вещи. Если прибегнуть к.
1 Там же. С. 56.
2 Там же. С. 60.
3 Там же. С. 61.
4 Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М&bdquo- 1961. Т. 1. С. 226 — 227. аристотелевскому определению метафоры, объединяющей слово по видовой и родовой аналогии, то имя «гигант» включается в объём понятия «человек»:
Метафора слепа не потому, что она искажает объективные данные, но потому, что она представляет действительностью чистую возможность. Называя его «гигантом», удерживаешь гипотезу или вымысел в виде факта и превращаешь страх, который сам по себе является фигуральным состоянием неопределившегося значения, в определённое, собственное, лишённоё альтернатив значение" 1. Не таков философский взгляд Ж. Деррида, для которого «перво-метафора» является наряду с природой онтологической категорией текста:
Однако то, что мы здесь трактуем как прямое (propre) выражение восприятия и обозначения великанов, остаётся метафорой, которой ничто не предшествует ни в опыте, ни в языке. До неё не существует никакого «прямого» смысла. За ней не надзирает никакой ритор" 2. Больше того, язык должен обозначить объединение в имени собственном предмет и его идею, но способен ли он это сделать со своим всегда вторичным по отношению к вещи смыслом:
Язык в целом подменяет собою живое самоналичие собственного, которое, будучи своего рода языком, уже подменяло собою вещи. Язык присоединяется к наличию, восполняет его, отстраняет-отсрочивает (differe) его в необратимом желании воссоединиться с ним" 3. Де Ман, внимательный читатель, не намерен считаться с такой трактовкой метафоры Руссо, устраняющей её буквальное значениеоно присутствует в тексте Руссо всегда и её переносный смысл есть лишь феноменологическое или читательское выведение восприятия или текста вовне его «наличия». Природа, претендующая на собственное значение, всегда будет иметь «ложное» фигуральное прочтение читателя человеческой культуры. Столкновение природы и культуры у Ж. Деррида носит более радикальный характер, так как текст в своих тропах не полностью конституирует природную идеальность и оставляет культуре через воображение и мысль свою «дополнительность». Метафорическое означаемое для де Мана остаётся в качестве онтологической мистификации, а для.
1 Де Ман П. Аллегории чтения. Е., 1999. С. 177.
2 Деррида Ж. О гамматологии. М., 2000. С. 462.
3 Там же. С. 462.
Деррида это идеальное означаемое здесь уже различено и отброшено вместе с прямым смыслом.
Де Ман, в отличие от Деррида, оставляет за метафорой Руссо право на буквальное значение и тем самым, следуя «эпистеме» М. Фуко, остаётся в пределах дискурса изучаемой классической эпохи, где слово есть сама мысль, представляющая вещь: «Дело обстоит так, как если бы по обе стороны развёрнутого во всех расчленениях языка имелись бытие в его вербальной атрибутивной роли и первопричина в её роли первичного обозначенияКонечно, впоследствии критик деконструирует это первичное и буквальное значение в новом онтологическом поле посттекстуальности критика выведением «ложных» переносных смыслов, но де Ман даёт возможность автору высказаться о своей мистифицированной вере в вещь и первопричину. Деррида, развивая современную «эпистему» языкового самопредставления, напрочь пресекает присутствие в тексте авторского голоса, различая, дробя и дополняя его трансцендентальное и эмпирическое означаемое.
Де Ман не перебрасывает мост между природой и культурой, — ведь онтологию текста он ищет в фигуральном значении и тексте критика, — как это делает К. Леви-Строс (который, кстати, и поставил впервые проблему структурной сопоставимости природы и культуры в работах Ж.Ж.Руссо), выявляющий структурную гомологию мифологического образа и научного понятия через их соответствие реальному референту. Оба двигаются в противоположных направлениях: де Ман — к обогащению художественного вымысла повествования как признака культуры, а Леви-Строс — к научной структурированности событийного означаемого, пронизывающего одной нитью как природу, так и культуру. Для Леви-Строса метафора, к примеру, своими образными рядами приближается к реальному событию2, а для де Мана такое приближение терпится как кратковременная необходимость сохранения прямого или буквального смысла, чтобы потом найти основание его отмены в фигуральном вымысле метафоры, своей избыточностью разрушающего заодно и сюжетную цепь повествования.
1 Там же. С. 463.
2 Французский учёный даже выделяет в рассматриваемом повествовании Руссо некую однонаправленную эволюцию языка от переносного к прямому смыслу: «В первый период развития — это стадия, когда прямой и переносный смысл вещей не различаютсяи лишь постепенно прямой смысл освобождается из первоначальной метафоры, в которой всякий предмет смешан с другими». (К.Леви-Строс «Первобытное мышление» М., 1999. С.24).
Если говорить о нарративной последовательности произведения Руссо, то она изначально деструктивна. В «Рассуждении о происхождении неравенства» тематическая композиция повествования, развивающаяся через язык от природы к культуре и вопросам о реалиях собственности и государства, нарушается языковым смещением прямого и переносного смысла, природы и культуры, деноминативного референта и концептуального вымысла. Эволюционирующий с помощью воображения человек рассматривается де Маном и Деррида на языковой или промежуточной стадии его перехода от естественного состояния к культуре, поэтому вопрос о политических референтах культурной жизни оказывается скорее перформативным и лишним в этом онтологическом различии природы и культуры как прямого и переносного смысла метафоры Руссо, «наличия» и «отсрочивающей дополнительности» текста.
Таким образом, буквальное и фигуральное значение, по мысли де Мана, скрыто сосуществуют вместе, но их раскрытие отсрочено во времени и пространстве настолько, насколько автор удалён от критика. В этой дистанцированности, удлиняющей текст до бесконечности, и изыскивается, главным образом, стоящим вне наличного текста-оригинала критиком, истинный смысл повествовательного события. Критик де Ман хочет ощутить, прикоснуться к этому парящему в посттекстуальной невесомости фигуральному смыслу метафоры, лишь мелькающему в деконструируемых просветах её буквальности. Для него написанные трактаты Руссо в своей буквальной онтологизации природы никогда не будут соответствовать его повторному прочтению, опирающегося на деконструкцию непрямого фигурального значения. В свою очередь, Деррида изначально воспринимает Руссо как читателя собственных творений и не желает замечать их авторской буквальности. Де Ман в своей деконструкции даёт высказаться Руссо-автору, почитателю природы и ненавистнику культуры, чтобы наметить пути дальнейшего критического прочтения его метафор из онтологического Ничто текста. Американский исследователь творчества де Мана Дж. Каллер, характеризуя его оппозицию «слепота и прозрение"1, отмечает в этой неординарной оценке риторики главное достоинство его критики, признающей право на одновременное.
1 Здесь «слепота» «.с необходимостью коррелирует природу литературного языка», а «прозрение» является понятийным представлением реальности. (Culler J. Framing the Sign. Norman and London, 1988. P. 11). существование фигурального и буквального значения повествовательного события, Руссо ослеплённого и Руссо прозревающего.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I.
При философском анализе фигурального аспекта повествования в работах П. де Мана мы остановились на следующих наблюдениях:
1. Художественное повествование предлагает свою альтернативу истинного отображения событий. Связано это с использованием современной постструктуралистской философией основных принципов повествовательного жанра: имперсональности и вымысла. Из повествовательной критики субъекта и денотата высказывания у П. де Мана вырастает собственная теория онтологического релятивизма знака. Она распространяется им, главным образом, на разбор фигурального языка рассказа или теоретического текста. В рассмотренных повествованиях Ницше, Гёльдерлина, Китса и Руссо нами прослежена зависимость тематической композиции и смысла изображаемого события от сопротивляющихся написанию риторических недомолвок, поляризующих бытие слова многосоставным означением критики.
2. В философии критики де Мана текстуальная структура бытия синтезирует хайдеггеровское различие Dasein и пространственно-временное становление «архи-письма» Ж. Деррида, образуя новый неподвижный, но рассечённый оппозицией истина и не-истина экзистенциальный модус. Эта структура рассмотрена нами на примере повествования Гёльдерлина «Гиперион». Гёльдерлин, поэт воображения, не связанный с миром явлений, отталкивается от тяжеловесной и косной земли, чтобы парить в облаках вечности. Для де Мана, литературного критика, очевидно, что все события этого повествования вымышленные. Там, где Хайдеггер видел в «Гиперионе» скрытую истину, готовую открыться в предметном сущем, для де Мана мерцало лишь бесплотное видение поэта, грезящего искателя чистоты духа1. По этим причинам при разборе буквального и фигурального значения американский критик использует хайдеггеровскую структуру Dasein «потаённость и непотаённость» безо всяких отсылок к предметному сущему. В своей теории деконструкции де Ман добавляет к этой онтологической структуре воззрение Деррида о том, что у составляющих текст знаков нет настоящего «существования» в динамичном «пространстве-становящимся-временным». Результатом такого синтеза было утверждение де Мана о противоречивой двойственности риторического модуса неповторимого существования повествовательного события, т. е. его истинность — в не-истинности, а «присутствие» — в «отсутствии».
3. Для де Мана риторика — это деконструктивная диалектика бытия без дальнейшего синтеза: «Риторика — это текст, поскольку она допускает две взаимно несопоставимые саморазрушительные точки зрения и потому помещает непреодолимое препятствие на пути всякого прочтения или понимания» 1. При этом означению ультимативно предлагаются два сокрушительных для референциального дискурса условия: означение языка есть не репрезентация объектазначение определяется не всеобщей истиной логических пропозиций или грамматических структур, а двуликим модусом аллегорий. В своих наблюдениях де Ман руководствовался ницшеанским курсом лекций по риторике, прочитанных в зимний семестр 1872−1873 года в Базельском университете, где парагматика риторической структуры языка превозносится над её референциальностью. Это объясняет то, как можно на уровне замещающей значения метафоры и структурирующей текст метонимии (Якобсон) быть «по ту сторону» присущих метафизике оппозиций истина/ложь, сознание/реальность, субъект/объект, внешнее/внутреннее, причина/действие и т. д. Истина — это иллюзия, проистекающая от слепой заворожённости буквальным значением метафоры или понятия. Выйдя из её тени, легко убеждаешься в амбивалентности этих перевёрнутых при свете интерпретаций оппозиций. Выраженная в тексте истина или субъективная позиция заранее подвержена перспективе обвинения риторической фигурой в фикционизме и самозванстве. Загадка зримого и, вместе с тем, скрытого бытия в том, что его смысл в открытии альтернативного смысла. Троп иронии — наглядный пример одновременного «присутствия» и «отсутствия», буквального значения и неправильного понимания". В какой-то мере можно говорить о парадоксальности риторики де Мана, что особенно явствует из его критики философских текстов Ф. Ницше, М. Хайдеггера и Ж.Деррида.
4. Одной из наиболее разработанных сторон творчества П. де Мана является его концепция нарратива. Соглашаясь с кантовским объяснением эстетики, которое сводится к констатации её промежуточного положения между формальным и естественным, нравственным и чувственным, феноменальным и интеллегибельным, отчего все проявления эстетического исчерпываются незаинтересованным состоянием, американский критик обосновывает языковой статус повествовательного события. Особенность последнего в отстранённости от рассказчика, реальности и читателя. Поэтому, когда эстетическое состояние равномерно парализует формальные и природные побуждения, образный ряд описываемого направляется на бесцельную игру означения. В рассмотренной работе «Эстетическая идеология» де Ман демонстрирует это на примере онтологического различия риторики.
ГЛ, А В, А II.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ (Х.БЛУМ).
2.1.
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ТЕКСТА.
Соотнесение философии и повествования предполагает поиск устойчивых онтологических структур в повествовательных сюжетах описания, автобиографии, рефлексии и т. д. Философские категории субъекта, действительности, истины, пространства и времени в художественном выражении рассказчика могут носить как позитивный характер в своём буквальном изложении реальных событий, так и негативный характер в скрытой фигуральной зарисовке вымышленных действий. Психоаналитический рассказ со своей бессознательной фикцией склоняется больше к философскому негативизму. Повествование оказывается патологией в прямом и переносном смысле, с помощью которой психоаналитик выявляет незримые для рассказчика языковые конструкции истинности. В нашем исследовании концепции литературной критики Х. Блума будут присутствовать, главным образом, ссылки на лакановский анализ психологического рассказа как вида символического выражения, противопоставленного своему воображаемому или реальному объекту. Для Лакана метафорическая структура художественного языка состоит из означающих элементов, изъятых субъектом из начальной связи вещи со знаком, из «исходной атрибуции (при)знака вещи», и поэтому в своём символическом порядке она остаётся без референта1. Вместо субъекта высказывания истину в рассказе свидетельствует Другой, на которого направлена предварительная идентификация Я. В локусе речи Другой становится бессознательным двойником рассказчика, которого психоаналитик уже в своём дискурсе пытается сделать видимым2. Блумовский поиск этой психоаналитической самотождественности Другого ограничивается актом чтения последователем (критиком) поэтической традиции.
1 Lacan J. Ecrits. P., 1966. P. 793.
2 Ibid. P. 794. текста своего предшественника. Иными словами, повторяя литературное повествование, критик в качестве психоаналитика репрезентирует недоступную автору истину или исток письма Другого. Повествовательная истина в работах Блума складывается из читательского замещения авторской субъективности Другим и отсылки к предшествующему тексту традиции (отсюда и используемое нами понятие дотекстуальной репрезентации). В обращении к дотекстуальному истоку, находящемуся в тексте Другого, Блум утверждает самотождественность повторяющего текста критика-аналитика.
С противоположной позиции онтологического Различия психоаналитического рассказа строит свои рассуждения оппонент Блума Ж. Деррида1. Для Деррида очевидна как невозможность повторного «воспроизведения» или репрезентации другого текста, так и непродуктивность разделения текста на послания отправителя и получателя, автора и критика, пациента и аналитика. На вопрос о конституирующей силе восприятия или чтения Деррида всегда ссылается на отсутствие в психоаналитическом рассказе как нескончаемом тексте единого истока истинности и на пространственно-временные Различия его повторящихся «следов»: " .множественность инстанций или начал — не отношение ли это к другому и изначальная темпорализация письма, его «первичная» запутанность: изначальное опространствование, складывание и стирание простого начала, полемика на самом пороге того, что продолжают упорно называть восприятием?'2 Всевозможные смещения, дополнения, отсрочки философской структуры трансцендентальное/имманентное, сущность/явление, Логос/письмо Деррида использует для доказательства безначалия и несамотождественности текста Другого. В свою очередь, Блум для подкрепления своих доводов в пользу интертекстуальных Тождеств обращается к романтическому идеализму, прагматическому фактуализму, диалектике И. Лурии и т. д. Таким образом, психоаналитическая дискуссия о сущности рассказа становится узлом противоречий философий логоцентризма и деконструктивизма. В этой связи представляется уместным сделать небольшое введение в проблему онтологизации языка в современной философии.
1 К. Норрис делает эти разногласия по текстуальному психологизму одними из центральных в становлении американского деконструктивизма. (Norris Ch. On Deconstruction: Theory and Practice. N.Y., 1982. P. 163).
2 ДерридаЖ Письмо и различие. М., 2000. С. 360.
До рассмотрения психоаналитического чтения повествования, следует разобраться с тем, что понимать в использованных Блумом экзистенциалистской и постструктуралистской философиях под логикой Тождества и Различия, субъектом и Другим, структурой и экзистенцией письма. Повторение этих вопросов о связи языка и существования неизменно возвращает нас в современность, где со времен Малларме «.думать означает писать без бумаги и чернил!1*. Одним из типично экзистенциальных и утонченных проводников по онтологическому пространству литературы следует назвать М. Бланшо, который отчаянно пытается в акте чтения высвободить письмо из заточения бытия-настоящего, растворяя его в бесконечной реальности Другого (Autre): «Книга, написанная вещь, вступает в мир, где и совершает работу преобразования и негации. В ней — грядущее многих вещей и не обязательно книгведь через проекты, которые могут из нее возникнуть, через начинания, которым она благоприятствует, через целый мир, чье измененное отражение она содержит, — она становится нескончаемым источником новой реальности, исходя из которой существование должно стать иным, чем теперь» 2. В свершающемся событии текстуальной экзистенции Бланшо устраняет всё внешнее пространству рефлексивного письма. Чтение или авторская идентификация в Другом порождается одними только расширяющимися пределами письма. Французский лингвист Дубровский в работе «Критика и объективность» (1967г.) указал, что здесь язык — это бытие, причём, в своем обогащении всегда рефлексивное: «В противовес структуралистской объективности. Бланшо исходит из представления о человеке не как объекте познания, но как субъекте радикального опыта, получаемого, схватываемого рефлексивно. лингвистика обретает статус онтологии. Языковой опыт — это не перевод на язык какого-то другого опыта, например метафизического, он есть сам этот опыт.» 3 Это экзистенциальная ситуация, когда авторский субъект укоренён в письме и повинуется ему даже в своем повторении опыта Другого, а чтение становится проектом текстуального преобразования.
Более склонный к редуцированию письма к лингвистической структуре Ж. Деррида решительно отстаивает лозунг «нет ничего внешнего тексту», противопоставляя его европейскому фоно-логоцентризму. В его редакции, форму.
1 Малларме С. Кризис стиха / Верлен П., Рембо А., Малларме С. Стихотворения. Проза. М., 1998. С. 583.
2 Бланшо М. От Кафки к Кафке. М., 1998. С. 25.
3 Les chemins actuels de la critique. Paris, 1967. P. 266. письма как бьггия Другого не способно изменить ни только субъективное чтение, но и абсолютное онтологическое Тождество (режим «отсрочки, различия» -«difference»): «Письмо — это исход, как нисхождение из себя в себя смысла: метафора-для-другого-ввиду-другого-другого-который-здесь, метафора как метафизика, в которой бытие должно скрыться, чтобы появилось иное» Письмо оказывается необычайно подвижным и разноплановым, а его форма смысла обладает случайной статикой, открытой и излучающей силу (force), готовой в следующий момент чтения разразиться очередным изменением значений метафор. Таким путём читатель включается в самодеконструкцию письма, пренебрегая его замкнутой формой. При выяснении психологии субъекта-скриптора текста Деррида не скрывает её зависимости от фигуральных различий лингвистических структур и своего повторения ряда ницшеанских замыслов: «Психологическая жизнь это ни кристальная ясность смыслов, ни замутненная непроглядность силы, но различия в характере действия этих сил. Ницше это хорошо знал» 2. Подобное деконструктивное письмо, импульсивно расточающее свои смысловые проекты, навязывает сомнение в любой схеме, идеологии и субъективном прочтении.
После Ницше и Деррида инициативное участие в дискредитации любого тождества, возникающего в процессе письма и чтения, предпринял американский критик Йельского университета Дж.Х.Миллер. В работах «Fiction and Repetition» (1982), «The Linguistic Moment» (1985) Миллер установил бессвязную аморфность художественного вымысла, предсказывая полнейшее фиаско попыткам фиксации фантазмом чтения его вероятных шаблонов3. Оригинальный текст подвергается сокрушительным различиям, а повторение критиком текста (repetition) теряется в изобилии несхожих подделок. Им изучается не предопределенная форма смысла текста, а момент преобразования фигуральных значений, складывающийся по другую сторону любого дискурса и ставший компромиссной точкой пересечения авторского и читательского текстов. Такой видится деконструктивная логика онтологических Различий современному литературному критику.
Притязания деконструкции письма на умаление самотождественности критического прочтения взялся оспорить американский литературовед Х.Блум.
1 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 46.
2 Derrida J. Writing and Difference. Chicago, 1978. P. 299.
3 Miller J.H. Fiction and Repetition. Mass., 1982.P. 50. р. 1930 г.), ныне профессор гуманитарных дисциплин Йельского университета (с 1974 г.). Всякую возможность обратить на письме подвижную форму тропа в иронию или случайную игру преднамеренных ошибок и вымысла (Поль де Ман) он стремится упорядочить чтением-представлением, изыскивающим свои онтологические истоки в тексте-предшественнике. Подобное репрезентативное чтение, противопоставленное безликому письму-структуре, Х. Блум апробирует на произведениях англоязычных поэтов Мильтона, Блейка, Шелли, Браунинга, Стевенса и др. («Anxiety of Influence» (1973), «Map of Misreading» (1975), «Poetry and Repression» (1976), «Agon: Toward a Theory of Revisionism» (1982)). Поэт неотделим от избранных им поэтических творений предшественников, но осознание этой истины приходит к нему только в глубокой зрелости, когда он перенес участь их «ложного» или ревизионистского прочтения и разочаровался в неповторимом величии своего солипсистского пьедестала. Сама по себе философия поэзии Х. Блума прочно привязана к романтической традиции великих американцев Эмерсона, Кольриджа, Topo и др., воспевавших Природу и свободу творца, только это одухотворенное бытие естественного первоначала переводится им на карту онтологического пространства чтения-письма (rpe4.grammatike). Последователю традиции необходимо прочувствовать дарованную Природой свежесть и красоту, чтобы совершить признание, что мыслить — означает влиться в единый порождающий и свободный универсум: «Среди природы я могу дышать полной грудью. Мир человека для меня — оковымир природы — свобода. Человек заставляет меня стремиться в мир иной, она примиряет с этим» 1. Для Блума Природа становится металепсисом или аллюзивным тропом тропов, который, словно магический свет, обеспечивает репрезентацию одного поэта другим. Здесь пролегает главный принцип преемственности поэтов, обусловленный онтологическим пространством чтенияздесь же причина особого расположения литературоведа к Д. Вико — автору естественной последовательности Века БоговВека Героев — Века Людей. Природный космос и историческая аксиома циклической изменчивости невероятно близки: «Природа вещей — нечто иное, как их возникновение в определенные времена и при определенных условияхвсегда, когда последствия таковы, именно таковыми, а не другими возникают вещи» 2. Эта тема о явлении бытия в процессе ревизионистского становления характерна, по.
1 Topo Т. Д. Прогулки // «Сделать прекрасным день.» М., 1990. С. 271.
2 Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. М., 1940. С. 77. мнению Блума, и для критики Каббалой Библии, и для судьбы американской религии («Kabbalah and Criticism» (1975), «American Religion» (1992)). Блум не только концептуализирует выбор источников для своей интертекстуальной теории, но и всячески варьирует их между собой. К примеру, каббалистическая диалектика Ицхака Лурии «ограничение-замещение-представление» используется им для более глубокого проникновение в риторическое пространство тропа антитетической критики. Терминология данного образца западного религиозного ревизионизма сопрягается с крахом, замещением и возвращением поэтической традиции, поддерживаемой чтением поэтом-последователем своего предшественника: «Ближайший эстетический эквивалент лурианского сокращения — это ограничение, в том смысле, что некоторые образы не столько восстанавливают и представляют, сколько ограничивают значение. Подобным же образом сокрушение-сосудов — это, с точки зрения эстетики, разрыв-на-части или такая замена одной формы другой, которую можно образно назвать замещением. Тиккун, лурианское возмещение, — это уже почти синоним представления как такового» Но, пожалуй, самую главную роль в блумовском сценарии обучающей дотекстуальной репрезентации исполняет психоанализ. Бессознательные невротические переживания «комплекса Эдипа» преследуют поэта-последователя, начиная с его первого деконструктивного тропа иронии misreading и заканчивая воссозданием им поэта-предшественника в металепсисе, аллюзивном тропе переиначивания. Для того, чтобы поэту-ревизионисту ощутить свою действительную причастность к творчеству более позднего поэта, ему уготована участь вытеснения «страха влияния» (Anxiety of Influence) в подсознание с последующей интроекцией (защитное влечение Я от Поэтического Влияния) и проекцией, т. е. выведением запрещенных влечений или объектов вовне за счёт приписывания их Другому. Ссылаясь на столь колоссальную значимость бессознательного для репрезентации поэтом-сыном своего поэтического отца, французский критик Л. Женни в работе «La strategie de la forme» (1976) находит в этой ревизионистской теории единственно психоаналитическую мотивацию порождения новых поэтических форм и образов2. На протяжении всей диссертации эта трактовка онтологического Тождества блумовской теории интертекстуальности будет руководящей.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург, 1998. С. 139.
2 Jenny J.L. Le strategie de la forme / Poetique, 1976, № 27, P. 259.
Каждую из рассмотренных онтологических логик текста отличает крайняя односторонность в закреплении за письмом бесспорного авторитета смыслопорождения. Будь то заявления Бланшо, Деррида или американских деконструктивистов, измельченное до последней возможности письмо изымает у чтения всякую инициативу пристрастного толкования или коммуникативного воздействия, безраздельно поглощая его своим «присутствием» или различающей структурой знака. Попытка Х. Блума избежать диктата деконструктивного письма созданием карты принципиально неправильного или «ложного» чтения не увенчалась успехом. Краткий миг выпадения чтения в подсознание еще более крепкими путами привязывает его к предшествующему письму, признанному к тому же истоком всякого текстуального бытия и значения.
Чтобы занять позицию стороннего наблюдателя, обратимся к воззрениям итальянского философа Чезаре Бранди, полагавшего в основу любого произведения искусства оппозицию: произведение «само по себе» как «чистая реальность» и произведение, воспринимаемое сознанием как феномен или представление1. Сама идея оппозиционности произведения и восприятия, письма и чтения кажется весьма многообещающей. Итальянский мыслитель стремится донести до нас, что мир природы или мир означаемых теряет свой ореол излучины смысла, уступая место миру культуры, бытию искусства или миру означающих, независимых от своих референтов, но теория их познания при этом остаётся прежней. Однако же и в этом случае, письмо, сохраняя за собой определение «сущности», с теми же познавательным приёмам открывается чтению как новому никогда нескончаемому означению. В результате образуется сразу три онтологических плоскости языкового смыслопорождения: природа, чтение, письмо. Следует критично отнестись к каждой из них.
Желание достоверно изобразить на письме природу обречено стать заблуждением. Если филолог Ж. Женетт пишет о том, что сегодня «.язык становится пространством, для того чтобы пространство в нем, став языком, говорило и писало о себе» 2, а М. Бланшо обращает письмо в самоистязуемую двойственность «присутствия-отсутствия», на манер органических процессов или экзистенциальных переживаний, только в более ускоренном или замедленном ритме, неуловимом эмпирически, то речь идет о создании новой действительности.
1 Эко У. Отсутствующая структура. М., 1998. С. 285. фантазма и симулякра, но не о воссоздании природы. Мерцающий свет этих мыслей ставит под сомнение древнюю аристотелевскую формулу «вещь-звук-буква», выбивая из неё средний член, являющийся самим сущностным основанием, заслоняя зримость первого, и, наконец, превращая письмо в игру резонирующих знаковых серий. Не время ли откровенно признать, что Ничто природы — это не бездна без времени и пространства, а ее именующее письмо, лишенное бытия.
Как полагают другие критики экзистенциальной направленности, бытие письма может переродиться в чтение, противящееся поглощению текстом и предоставляющее читающему субъекту другую почву смыслосозидания. Утверждение структуралистов о несуществовании вещи до того как она означена может быть направлено против них самих: сущность данного письма сохраняет молчание до осознанного и выборочного прочтения. Об этой свободе сознательной или бессознательной мысли, не стеснённой своим письменным выражением, современная антропология готова дискутировать с любыми теориями интертекстуальности и философией деконструктивных различий. Любая уступка тексту, выражающаяся в его онтологизации, формализации или структурализации, чревата безнадежным соскальзыванием в него и лишением читателя независимости своего внешнего положения. Чтение не становится простым продолжением письма (дгаттайке), а обрестает собственное «присутствие» из Ничто письма. Ничто письма — это пустота, направленная вовне (вопрос, конфликт, безысходность, трагедия, неоднозначность), требующая от читателя личного переживания, понимания или простой интерпретации. По большому счету, можно говорить о сартровском проекте «превосхождения ситуации»: «.слова, которые пытаются раскрыть экзистенциальные структуры, ограничиваются тем, что регрессивно обозначают рефлексивный акт, поскольку он есть структура экзистенции и практическая операция, которую экзистенция производит сама над собой» В этом странном диалоге экзистенции выраженной и экзистенции выражающейся первая выдвигает второй негирующие условия самоосуществления. Читательская артикуляция констатирует новое онтологическое Различие между письмом и чтением, как антитетику близкую к смерти и жизни, «отсутствию» и «присутствию», временному и вневременному и т. д. Если согласиться со структурой европейской метафизики Ж. Деррида голос — письмо, где голос — сущность, а письмо — явление, то даже после заката античности и средневековья, когда чтение.
1 Сартр Ж.-П. Проблема метода. М., 1994. С. 212. перестало быть фоническим, его написанный читательский эквивалент всегда отличим от полустёртого и истлевшего раннего письма правом на экзистенциальное выражение. Структура Ж. Деррида «голос-письмо» или «Логос-феномен», в конечном итоге редуцируемая к «тексту», может использоваться как фасад для дальнейшей антропологической редукции письма к чтению.
Х.Блум удивительном образом сумел синтезировать и методически исказить все эти онтологические концепции текста, желая на примере поэтической традиции и психоаналитического аспекта повествования вселить в каждого читателя (причём, читателя-ревизиониста) трепет почтительности перед репрезентацией непревзойденного обучающего письма Отца-предшественника. Проблемы рассказа и его психологического анализа, письма и чтения, автора и критика сплетаются для него воедино и перестают носить узко профессиональный характер для литературоведа или психоаналитика. Нашей последующей задачей будет выяснение на примере повествовательного вымысла поэзии, религии и философии насколько полным в блумовской теории интертекстуальности может быть выражение письмом самого себя и психологического облика Я или Другого.
2.2.
ИСТОКИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ Х.БЛУМА.
В момент, когда рука писателя застывает в неподвижности над чистым листом бумаги, напряженный промежуток, разделяющий их, наполняется извечным соперничеством замысла, формы и влияния. Станет ли предстоящее произведение интенцией непосредственного чувствования своего автора или оно изведает участь подобия канону и станет наследием поэтического мира предшествующих творений?
Романтическая традиция пост-Просвещения постигает каждую из этих возможностей письма через повествовательный вымысел и мифологизацию, балансирующих между бытием и небытием. Фоном этих поисков смысла служит резкий контраст внутреннего и внешнего1 (П.де Ман), субъективного и объективного познания мира, бескрайности поэтической топики чувств и геометрически выверенной знаковой формы. Скорее всего, до первой выведенной автором строчки следует ответить на вопрос: вдохновение творца или читателя ответственно за ваяние на письме нового мира?
Философское измерение данной проблематики проскальзывает где-то между полюсом идеалистического совершенства и натуралистической ощутимости, попадая в выделенную нами ранее дотекстуальную, текстуальную и посттекстуальную среду. Определённая здесь диспозиция соотнесения природы и текста, письма и чтения заслуживает самого пристального изучения, хотя бы из-за того, что является центром рассматриваемых различий между рационализмом и романтизмом, структурализмом и постструктурализмом. К примеру, Ж. Женетт с точки зрения семиолога поясняет, что должно понимать под письмом: «.письмоэто ответственность Формы, которая располагается между Природой, очерчиваемой горизонтом языка (навязываемой автору его местом и исторической эпохой), и другой Природой, обусловливаемой вертикальной силой стиля (диктуемого его глубинной телесной и душевной организацией), и в которой проявляется выбор писателем той или иной литературной позиции, то есть обозначается та или иная модальность в литературе» 2. Такое определение.
1 Man P. de Blindness and Insight. N.Y., 1971. P. 31.
2ЖенеттЖ Фигуры. T.1. M., 1998. С. 194. формы письма располагается у самой излучины рационализма и структурализма. Рационализм и структурализм, опирающийся на онтологию формы, метафизику абсолюта или на негенетическую структуру, достаточно последователен в определении общего начала денотативного и референциального объекта текста, жестких лингвистических форм в самом тексте и семиотических правил для критического метаязыка. При подобной редукции письмо и чтение сливается в единый метафизический и системный чертеж. Современное обновление этой идеологии обычно предваряют вопросом: что такое постструктурализм или неоструктурализм? Немецкий исследователь М. Франк называет его переосмысленным онтологическим структурализмом, обратившимся от изучения внутренней метафизической сущности структуры структур к поиску сингулярных (единичных) и гетерогенных структур её внешнего знакового выражения.1 Эта философская оппозиция форме также сохраняет свой код, только остаётся открытой и генетически-изменчивой. Примером подобной альтернативы служит читательская стратегия деконструкции, которая принимает «письмо» как феномен поверхностной сущности метафизики рационализма (т.е. внутренняя сущность и внешнее явление идеального сливаются воедино) и как неустойчивую конструкцию знакового выражения истинного смысла, где чтение становится продолжением или искажающим повторением первичного текста с уже другими структурными отношениями знаков. Механику этого процесса на модельном уровне обобщил Ж-Ф.Лиотар: «Любое высказывание нужно удерживать только тогда, когда оно содержит отличие от известного ранее и поддаётся аргументации и доказательству. Оно является моделью „открытой системы“, в которой релевантность высказывания заключается в том, что оно „дает рождение идеям“, т. е. другим высказываниям и другим правилам игры» 2. Именно таким и становится «текст» в работах Ж. Деррида, Д. Х. Миллера, П. де Мана и прочих деконструктивистов, — самопорождающей силой, лишенной дои послетекстуальных пределов.
В отличие от структурных деконструктивистов, погруженных в материю текста, романтизм, напротив, стремится заглянуть по другую сторону знаковых кодов и расчетов формы, интуитивно постигая содержательную образность произведения. Как вещь перетекает в созерцателя, так и письмо вселяется в читателя-романтика.
1 Frank М. Was ist Neostrukturalism? Frankfurt/Main, 1983. S. 94.
2 ЛиотарЖФ. Состояние постмодерна. Спб., 1998. С. 152−153. вместе с полнотой истин Природы. Проницательный романтизм С. Т. Кольриджа в оценке эстетического вкуса подмечает мельчайшие нюансы этого завораживающего слияния: «В метафорическом смысле вкус в противоположность зрению и слуху учит нас расчитывать не просто на отчетливое представление о вещи как таковой (с этим лучше справляется зрение), а на сиюминутную связь предмета с нашим собственным бытием» Романтизм — это нанизывание чувственных фрагментов, гаснущих также быстро, как и воспламеняющее чтение письма об извечных и неизменных истоках жизни. Скупое величие заключенных в форму фраз здесь всегда тонет в стихии ощущений и антитетических устремлений, взрывающих форму извне и изнутри. Наносной замысел формы является лишь бледным оттиском «присутствия», порожденного репрезентацией Природы. Р. У. Эмерсон в эссе «Природа» описывает всю таинственность этого озаряющего возвращения к бытию: «Царствие человека над природой не придет приметным образомв том виде, каким мы его сейчас знаем, оно стоит вне человеческой мечты о Богеи, осознавая свое могущество, человек испытывает удивление не меньше, чем слепой, когда чувствует, что к нему возвращается совершенное зрение» 2. Романтик не созидает, подобно божеству, он всматривается во всегда заранее данное «присутствие», не признающее обходных путей, и потому невинное волнение или внешнее препятствие звучит в нем осеняющим призывом вечности. Это та редкостная репрезентация в слове, где раскрывается не образ, а живая Природа. В романтизме совместное бытие чувств и Природы, проницающее границы внешнего и внутреннего, медленно приподнимает занавес, освещая образованные им декорации письма. Слово всегда норовит заслонить истину переиначивающей формой и только интуитивное видение позволяет выхватить её последнее значение. Письмо оказывается в онтологическом пространстве Другого, находящегося до него, после него, но не в нём самом. Вот тут и вспоминается Х. Блум, давший этой идее совершенно конкретные поэтические имена, связав их сценой обучения предшественником своего последователя: «За всякой Сценой Письма в начале каждого интертекстуального контакта присутствует эта неравная первоначальная любовь, где дающий неизбежно подавляет получающего. Получающий предан огню, и все же огонь принадлежит только.
1 КольриджС.Т. Избранные труды. М&bdquo- 1987. С. 209.
2 Эмерсон Р. У. Природа / Эмерсон Р. У. Эссе. Topo Г. д. Уолден. М., 1996. С. 66. дающем^'1. Осуществляется романтическая репрезентация, но не Природы как таковой, а её дотекстуальной образности, где в чтении, уравнивающим критика и поэта, утверждается смысл опережающего письма. В работах Х. Блума содержится критика интенционалистов (Спингер), формалистов (Уимсотт), деконструкгивистов (Деррида, де Ман), а также скрупулёзный протокол невротических состояний поэта, вызванных страхом Поэтического Влияния, оригинальная трактовка металепсиса как аллюзивной фигуры фигур и даже новая глубина каббалистической диалектики «ограничение-замещение-представление», но нет намёка на суверенное пространство чтения. Эту недомолвку отнесем не на счёт опустошающей для чтения онтологической развязки, а к антропологическому диспозитиву нашего расследования искаженного (misrepresenting) пространства письма и чтения. Того чтения, которое параллельно поверхности письма и имеет различные с ним смыслообразующие. Прислушаемся к совету Ж. П. Сартра, который был бы чужд бессознательному психологизму Блума в своём полагании, «что смысл и качество текста как такового, вообще говоря, никогда не обозначаются словами этого текста и что «хотя литературный объект реализуется через посредство языка, он никогда не дается в самом языке» 2. Стоит нам свести рефлексивное «присутствие» к единству письма и чтения, как мы оказываемся на территории дильтеевской и феноменологической герменевтики, примерно так воспроизводимой П. Рикёром: «.рефлексия есть лишь присвоение нашего акта существования посредством критики, примененной к произведениям или актам, являющимися знаками этого акта существования. Рефлексия — это присвоение нашего усилия существовать и нашего желания быть через произведения, свидетельствующие об этом усилии и этом желании» 3. Иначе говоря, cogito читающего проникается экзистенцией лишь в той мере, в какой она становится редукцией к читаемому тексту (повторимся: у Блума отсутствует апология авторской рефлексии, так как в основе его поэтической теории лежит дотекстуальная репрезентация, заполняющая собой весь читательский текст). Очевидна сомнительность этого довода, потому что повторенное чтением письмо получает статус независимости от своего оригинала, преобразовавшись в чистую возможность, которая создаёт совершенно иные условия поиска смысла.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 171.
2 Женетт Ж. Фигуры. Т. 1. М., 1998. С. 194.
3 Рикёр П. Существование и герменевтика //Феномен человека. М., 1993. С. 320.
Деконструктивист Д.X. Миллер был более дальновиден, говоря о различии в повторении чтением письма как размножении художественного вымысла (fiction), но оказался очень привязан к поверхности открытой формы письма, делая чтение лишь его новым структурным продолжением1. Каждая из этих трёх сфер (природа, письмо, чтение) обладает собственными онтологическими основаниями, связь между которыми нарушена либо различием между означаемыми и означающими (Ф.де Соссюр), либо между языком письма и рефлексией чтения. Но даже в этом случае признаем, что троп или синхрония тропов получают онтологическое «присутствие» не в заданной метафизике природы и даже не в деструктивности сплошного письма, а в своем вымещении из письма в пространство читающего Другого. Х. Блуму довелось прочувствовать эту глубину читательского психологизма, устраняющего автономию наличного письма, но ставшего только репрезентацией дотекстуального начала, скрывающегося в опережающем оригинал тексте поэта-предшественника. Пометим главные составляющие этой теории Поэтического Влияния.
Романтическую дотекстуальную репрезентацию Х. Блум связывает с развертыванием поэтической традиции. Причём, традиция здесь не просто латинское «traditio», этимологически обозначающее предание, доставку, сдачу и т. д., а концепция, производная от «.еврейской Мишна, устного предания или изустной передачи рассказов о случаях, когда действие, обучение оказались успешными» 2. Проблема литературы приобретает герменевтический подтекст, где одновременное письмо и чтение (grammatike) получает онтологическую опору в открытии прошлого. Литературное пространство поэтического бытия находится здесь до субъект-объектных отношений, культивируемых картезианским мифом протяженности с его противоположностью — воображением. Х. Блум сурово порицает поэта Вордсворта, склонного к нагромождению в «Тинтернском аббатстве» воображаемой метафизики иллюзорного универсума. С другой стороны, чем ни коллизии экзистенциальной ангажированности поэта читающего и поэта пишущего поселяются, например, в описании пространства в «Потерянном рае» Д. Мильтона: «.чей дух не устранит/ Ни время, ни пространство. Он в себе/ Обрёл своё пространство.» 3. Если к этому присовокупить фундаментальную роль обучающего.
1 Miller J.H. Fiction and Repetition. Mass., 1982. P. 174.
2 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 161.
3 Мильтон Дж. Потерянный рай. М., 1976. С. 37.
Поэтического Влияния на текст поэта-последователя, то позицию Х. Блума по онтологизации текста можно назвать не только литературоведческой, но исторической и философской, особенно в Америке, с её укоренившимся прагматизмом: «В Америке присутствию прошлого чаще всего вынужден учить преподаватель-литературовед, ведь, история, философия или религиоведение сошли со Сцены Обучения, оставив ошеломлённого преподавателя-литературоведа в одиночестве у алтаря испуганно размышлять, священник он или жертва. Если он уклонится от своего бремени, пытаясь учить только предполагаемому присутствию настоящего, он обнаружит, что учит только упрощенной, частичной редукции, вообще стирающей настоящее во имя той или иной историзирующей формулы. Закостеневшей истории, утратившей вкус вечности, Х. Блуму противополагает проницательное чтение поэта, обводящее многоярусную архитектонику письма поэта-избранника, поднимаясь на возвышенность «присутствия» и опускаясь в бездну пережитого им «отсутствия». Застывшая догматика времени сменяется бурлящим и растерзанным пространством, случайные выемки которого становятся зримы благодаря чтению поэтом-последователем своего предшественника. Так любое поэтическое излияние настоящего легитимируется отеческим одобрением прошлого. На этой бескрайней Сцене Обучения главные роли получают Гомер, Вергилий, Данте, Спенсер, Мильтон, Блейк, Вордсворт, Шелли, Ките, Эмерсон, Уитмен, Браунинг, Стевенс и др. Блум акцентирует внимание на англоязычных поэтах, устанавливая свой сценарий их отношений: «Эту линию воображения, в которой Мильтон — предок. Вордсвортвеликий ревизионист, Ките и Уоллес Стевенс, среди прочих, — зависимые наследники, объединяет именно честное признание великого дуализма, противоположное свирепому желанию преодолеть все дуализмы, влавствующему над провидческой, пророческой линией, начинающейся со Спенсера с его относительно спокойным темпераментом и проходящей через поэзию в равной степени свирепых Блейка, Шелли, Браунинга, Уитмена и Йейтса» 2. Над театральной непосредственностью образов поэтической славы этот дуализм Я и несознаваемых мотивов дотекстуальной репрезентации выполняет новую философскую миссию, делая устаревшими былые воплощения онтологического начала в духе, материи или наличном тексте. Как удержаться в.
1 Bloom Н. The Map of Misreading. N.Y., 1975. P. 37.
2 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 33. сковывающих объятьях двойственной одновременности письма и чтения, текстуального созидания и дотекстуальной репрезентации, чтобы твоя речь возвысилась до величественного наставления потомкам? Поглощение этим дуализмом отнюдь не обещает прозрачности истин, даже сам Блум при его определении проникается лишь лирическим восторгом символической безбрежности сознания (consciens) и Смутности («.чистое или абсолютное сознание „я“, вынужденное признать свою связь со смутностью» 1) письма и чтения в образах Сфинкса и Херувима. Сфинкс фигурирует в эссе Р. Эмерсона «История» как исторический прасимвол разума и мудрости: «Все жизненные перемены удивительно многообразны, и все они ставят многочисленные вопросы перед человеческим разумом. Тот, кто не наделен высшей мудростью и не может ответить на поставленные вопросы, становится их рабом» 2. Херувимом же в книге Бытия назван Ангел Божий, который призван не впускать грешников в Рай. Появление его в теории поэзии Блума для обозначения Поэтического Влияния обязано бессмертной поэме Мильтона «Потерянный рай». Сфинкс и Херувим, творчество последователя и предшественника, письмо и чтение из дуализма частностей обращается в целостный онтологический дуэт, который прослеживается в любой текстуальной ситуации, обогащенной изменчивыми и пульсирующими останками чувственности, например, религиозного происхождения.
Конечно, Х. Блум не мог обойти стороной вопроса о вере, которому посвятил одну из поздних работ «American Religion» (1992). Американская религиозность, начиная от пуританизма Отцов Основателей и заканчивая прагматистской «волей к вере» У. Джеймса, не единожды переносила натиски саморазоблачительной читательской критики. Х. Блум находит эти трансформации американского протестантизма занимательными из-за ревизионистской способности каждой из них подчеркивать собственные различия, пользуясь повторяющимся источником онтологического обоснования. Христианская религия, закрепляющая культ письма священного оригинала Библии, заранее пресекает разновариативность его трактовок, но только не Америка с её свободолюбивым духом могла подчиниться подобной ортодоксии. Не изначальное письмо единого божественного откровения, а письмо пуритан, мармонов, протестантов, прагматиков, опосредующее связь Логоса и читающего верующего, по мнению Блума, было истинным наставником в их.
1 Bloom Н. Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. N.Y., 1975. P. 85.
2 Эмерсон P.У. История / Эмерсон Р. У. Эссе. Topo Г. Д. Уолден. М., 1986. С. 359. самоопределении (даже если они прямо этого не признавали). Фактуализм Блума в данной теории указывает на его склонность к сугубо американскому прагматизму, эмпирически фиксирующего онтологические правила игры, всегда готового в выборе избранника дотекстуальной репрезентации занять сторону самого бесцеремонного ревизионизма. Если Блум отстаивает первостепенность прагматизма веры как внутритекстуального влияния, то на уровне природы он описывается Джеймсом как волюнтаризм желаний: «.очевидно, разумнее верить в то, чего желаешь, ибо вера — одно из неизбежных предварительных условий осуществления объекта желания. Итак, существуют случаи, когда вера сама себя оправдывает. Верьте, и вы будете правы, потому что спасете себя, сомневайтесь, и вы опять будете правы, потому что погибните. Разница лишь в том, что верить гораздо выгоднее для вас» Опыт дотекстуальности и опыт природы образуют ту долю истинности, которую вынужден признать в своей вере читающий или познающий. Религиозные культы прошлого актуализуются верой через чтение и волю, а ревизионизм становится издержкой конкретной прагматики ситуации. Вере, продиктованной опытом опережающего письма, гасящим в себе всякую читательскую инициативу, С. Кьеркегор противопоставляет веру, подтверждаемую читательской экзистенцией. Патерналистский авторитет предшествующего письма, отмечаемый у Блума, сменяется новой максимой: «Тот, кто желает работать, порождает собственного отца» 7. Самое замечательное, что подобная кьеркегоровская вера, приносящая выбор индивидуального греха, ничуть не утрачивает своей святости: «Я перед лицом Христа — это Я, возвысившееся до высшей мощи благодаря огромной уступке Бога, огромного дара, которым наделил его Бог, пожелав и для него также родиться, сделаться человеком, страдать и умереть. Наша предшествующая формула возрастания Я, когда возрастает идея Бога, здесь также вполне пригодна: чем больше возрастает идея Христа, тем больше увеличивается Я» 3. На примере текста экзистенция «я» читателя претерпевает doppelreflektirten, т. е. двойную рефлексию, prima, позицию от слова к Я, secundo, рефлексия экзистенциального отношения Я к слову. Внутри же текста переходы между этической, эстетической и религиозной сферой, становятся лишь этапами становления экзистенции: «Каждая марионетка.
1 Джеймс У. Чувство рациональности / Джеймс У. Воля к вере. М., 1997. С. 66.
2 Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1998. С. 29.
3 Там же. С. 335. комментатор — это, в сущности, знак, указывающий на ограничение одной широты другой. И существует лишь одна широта, не имеющая вне себя каких-либо ограничений, широта религиозной страсти. Широта, не ограниченная другой широтой, т. е. широтой без того, кто ее достиг. За экзистенциальным растворением Я в вере или читательской тождественностью тексту допустима иная позиция нахождения экзистенции читателя вне текста, когда Я уже не требуется письменного подтверждения своих прав на веру, установку и правило чтения. Говоря так, мы сохраняем индивидуальность существования читателя в полном смысле этого слова. Письмо — это «вызов», требующий ответа, но не господин значения, требующий от читателя непрекословной покорности. Письмо, которое всегда единично и неповторимо, создает не местопребывание читательского «присутствия» (даже сам пишущий порой может находиться вне его), а предел Ничто, требующий читательского самооправдания или исповеди перед ним. Таким образом, экзистенция читателя может разыгрываться вне наличного письма, а уже порожденное ей письмо будет различаться с экзистенцией любого другого читателя. Значимость этих вопросов возрастет, если вера сможет отстаивать не только идеальные Тождества, но и сингулятивные Различия читательских симулякров. До ответа на них остается сделать основной выбор, где следует доискиваться веры: на письме или в чтении? Ревизионист Блум выбирает и письмо и чтение.
Уникальностью работы над произведениями Х. Блума является навязывание с их стороны такого проникновения в проблему дотекстуальной репрезентации, которое требует приумножения и укрепления собственных критических доводов. Превратив ревизионистскую критику в философское основание любого рода текстуального или дотекстуального повторения, Блум как будто приглашает на свою Сцену Обучения всех читающих. Мы становимся невольными участниками подготовленных им инсценировок поэтического или религиозного влияния. А вот и ещё одна декорация, стилизованная в духе блумовского театра, — «Каббала», переосмыслившая талмудическое учение и ставшая влиятельнейшим примером для поэзии пост-Просвещения. «Каббала» как один из основных образцов ревизионизма рассматривается Блумом в обширном исследовании «Kabbalah and Criticism» (N.Y., 1975) и в книге «Map of Misreading» (N.Y., 1975). Каббалистические сочинения «Сияние» («Zohar») и «Книга творений» («Sefer Yezirah»), а также более ранняя критика Библии в работах Ицхака Лурии и хасидском мифотворчестве,.
1 Подорога В. А. Выражение и смысл. М., 1995. С. 48. производят крамольное действо по устранению Лика Бога ради утверждения абсолютно бескачественной и неопределимой беспредельности Эйн-соф (Ауп-Soph). Не от слова и союза Бога с людьми («Тора»), а от истечения этой никогда не раскрываемой эманации «не-есть» происходит мир в виде десяти творящих начал (севирот): таинственная мудрость (хокма), скрытая мудрость (кефер), разум (бина) и др. Мир Каббалы населяют небиблейские персонажи: Адам, оживленный не Богом, а чистой сущностью Кадм, и Ева, согрешившая не с Адамом, а Ева, вступившая в интимную близость со Змеем. Несмотря на все эти ревизии, Блума не покидает убеждение об отеческом возвращении Книги Бытия в каждый из перечисленных сюжетов Каббалы: «Все каббалистические тексты, сколь бы неделимо спекулятивными они не были, — это истолкования, а истолковывают они главный текст, всегда сохраняющий авторитет, приоритет и силу, что называется текст как таковой» Спросим себя: можно ли согласиться с отождествлением Священного Писания с Каббалой и мировоззрением читающих его гностиков 1−11 вв. Гностиков, изобличавших скрытое коварство и произвол бога, стремившихся к греховному самоуглублению, а также объявивших заповеди Моисея лжеучением. Даже неверующий укажет, что авторы Каббалы и гностики обратили Священное Писание в Ничто, в далекую от него немонотеистическую мистику?2 Но Блум примиряет эти антитетические тексты, обнаруживая в них скрытую потенцию библейского «присутствия». Приближение к своей теории Поэтического Влияния он также начинает с ревизионистской каббалистической теософии Ицхака Лурии. Поэтические мифы о вечности оказываются не просто параллельны лурианской диалектики истории, но и безотчетно повинуются ей: «В любой версии учения Лурии история проходит три важнейших этапа: Цимцум, Швират ха-келим, Тиккун. Цимцум — это удаление или сокращение Творца, стремящегося сделать возможным нетождественное ему творение, Швират ха-келим — это сокрушение сосудов, видение творения-как-катастрофы. Тик-кунэто возмещение или восстановление, вклад человека в работу Бога» 3. Также и жизнь поэта — это история его поэтических свершений, которые впервые появляются как спор поэта-последователя со своим предшественником по умалению приданных им ранее значений (ограничение), затем происходит.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 138.
2 Bloom Н. Kabbalah and Criticism. N.Y., 1975. P. 51.
3 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 139. замещение былого поэтического мира новым и вновь возвращение погребенного было мира (апофрадес — возвращение мертвых) во всем своем нетленном блеске. Диалектика «ограничение-замещение-представление» очень напоминает буберовскую триаду «описание-ограничение-подтверждение», поясненную в его работе «Zwiesprache» (1930). Каждой из этих последовательных фаз Бубер взывает к преодолению ограничивающей отчужденности в общении и к подтверждению открытости как особой сущности диалога, где зачастую и безмолвие становится говорящим: «Свободно течёт из него сообщение, и молчание несёт это сообщение другому, кому оно было предназначено, и тот открыто принимает его, как всякую судьбу, которая его ждет. Никому, даже самому себе не может он сказать, что он узнал. Да и что знает оно о другом? Знание и не нужно. Ибо там, где между людьми установилась открытость, пусть даже не в словах, прозвучало священное слово диалога» Однако Блум в своих основных произведениях отказывается признавать подобную безмятежность в межтекстуальном диалоге двух поэтов. Не отказ поэтов от самости во имя возвышающей сущность открытости, а агрессивное обезображивание, чреватое катастрофическим сокрушением воображаемых миров, сталкивает их до последующей текстуальной репрезентации поэтом-учеником текста своего величественного предшественника. Истине предшествует не окрыляющая полнота «присутствия», а небытие Апокалипсиса. Только глубоко религиозный человек уверует, что такая деструкция творений поэта будет освящена вторым пришествием его недавнего визави. Повествовательный Апокалипсис Сцены Обучения постоянно повторяется в захлестывающем образном контрасте тьмы и света, несоизмеримых пропорциях низин и возвышенностей. На сцене перед взором потрясенного зрителя разыгрываются мировоззрения, где мир сакрального обращается в мир чувственного, мир вещей — в мир воображения, мир философиив мир мифологии, мир поэта-творца — в мир его предшественника. Неудивительно, что Блум заявляет об отмирании поколения современных историков и философов. Былая пространственно-временная картина мира читателя оказывается дегенеративной и обречённой на вымещение в пространство текстуального мира поэта. Духом читателя целиком завладевает сценический ландшафт Другого, например, Апокалипсис Блейка (Н. Bloom «Blake's Apocalypse» N.Y., 1963) или мифотворчество Шелли (H.Bloom «Shelley's Mythmaking» L., 1959). Блейковский.
1 Бубер M. Диалог /Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 96. дуализм жизни и смерти, вечности и бренности, любви и ненависти, разума и невежества, Апокалипсиса и Вознесения является отблеском мерцающих эманаций четырех Зоа (Уризена, Лувы и др.), которые как основа его мироздания не получают даже свободы промежуточной ничейности, становясь результатом дотекстуальной репрезентации прошлых произведений Мильтона или последующих перерождений у последователей1. Неуловимость Другого присутствует и в мифе «о западном ветре» У. Шелли, ставшего символом его творчества, и своим возникновением он обязан не только отцовству неприютного мильтоновского сатанизма и критицизму Каббалы, предвосхитивших сотворенный из небытия и уносящийся же в небытие вместе с прахом бескачественный ветер-становление, но и длинному шлейфу возродивших его ценой самозабвения поэтов-читателей. Дано ли суть этих влияний осознать самому автору повествования или он навсегда останется доступным лишь критику объектом воздействия каких-то неведомых дотекстуальных или подсознательных сил?
Именно психоанализ призывает на помощь Блум при выяснении всех невротических последствий для читающего поэта его дотекстуальной репрезентации, признавая влечение или желание самоизъявлением психологизирующей сущности рассказчика. Поэтический Эрос обрекает поэта на тяготы вытесненного в подсознание Эдипова комплекса по отношению к его Отцу-предшественнику, гарантом непогрешимости которого становится одно дотекстуальное опережение во времени. Миниатюрное сопровождение этой семейной трагедии, но без утонченных поэтических потрясений, автором которых был Х. Блум, дает сам З. Фрейд: «Молодой человек, на долю которого выпало расти рядом с недостойным отцом, выработал в себе сперва, наперекор ему, порядочного, надежного и достойного человека. В расцвете жизни его характер переменился, и с тех пор он повел себя так, словно взял себе прообразом того самого отца. Чтобы не терять связи с нашей темой, мы должны иметь в виду, что в начале подобных процессов всегда стоит ранняя детская идентификация с отцом. Она затем отвергается, даже сверхкомпенсируется, а в конце снова побеждает» 2. Фрейд также допускал, что запасливое подсознание может вторгаться в пространство текста, о чем свидетельствуют его критические очерки о новелле.
1 Bloom H. Blake’s Apocalypse. N.Y., 1963. P. 84.
2 Фрейд 3. Человек Моисей и монотеистическая религия / Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М&bdquo- 1992. С. 246.
Йенсена «Градива», трагедии Шекспира, фантастических образах в произведенях Гофмана и т. д., но приспособить категориальный инструментарий психоанализа к описанию дотекстуальных влияний довелось лишь его последователям, одним из которых следует назвать литературоведа Х.Блума. Блумовский «Anxiety of Influence» («Страх влияния») по степени психологической блокады сравним, разве что, с «Das Unheimliche» («тревожащая странность») Фрейда. Термин, знакомый уже Шеллингу («Мы называем „unheimliche“ все то, что должно было остаться тайным, скрытым, но вдруг появилось»), наделяется Фрейдом похожим значащим ядром: 'Тревожащая странность является той разновидностью страшного, которая связана с давно знакомыми вещами, всегда бывшими близкими и известными" 1 («Das Unheimliche» (1919)). Блумовский «Anxiety of Influence», вырастающий из дотекстуальной репрезентации, минует авторскую или читательскую субъективность и присваивает себе шесть типов защит («Abwehrmechanismen» («защитных механизмов»))2, заимствованных из фрейдовских комментариев Анны Фрейд. Выбор, сделанный Блумом, в высшей степени неудачен, так как А. Фрейд всегда преувеличивала роль «Я» во всех его аффективных идентификациях. Начальную фазы процесса вытеснения можно назвать самой опустошительной, когда недонесение (misprision) поэтического наследия предшественника оформляется как защитная реакция («Reaktionsbildung»), чреватая мучительным низведением «присутствия» его поэтического мира к «отсутствию». Доверимся здесь толкованию Фрейда Ж. Лаканом, имеющим ясное представление об условиях дальнейшей реконструкции отсутствующего Другого: «Я говорил вам о Fort и Da. Это пример того, каким образом ребенок непринужденно вступает в игру. Он начинает играть с объектом, а точнее, единственно с фактом его присутствия и отсутствия. Когда объект находится рядом, ребенок гонит его прочь, а когда его здесь нет, он зовет его» 3. Последующее вытеснение «страха влияния» в подсознание поэта-читателя только укрепляет этот психологический императив. Сдерживая гнетущий натиск воображения поэта-Отца, цельность читательского влечения последователя затмевается и теряет устойчивость, и вся эта незрячая агрессия обращается против него самого. Нестройный ряд тревожных мыслей, нахлынувший на поэта-читателя, гасит его писательский пыл и принуждает к пассивному бездействию и.
1 Дадун Р. Фрейд. М., 1994. С. 413.
2 ЛапланшЖ., ПонталисЖ. Словарь по психоанализу. М., 1996. С. 145.
3 Лакан Ж. Семинары. Кн.1. М., 1998. С. 235. заточению в себе. Дальнейшее течение поэтического невроза на уровне психологических защит отмены, изоляции, регрессии предоставим описанию самого автора данной теории поэзии: «Отмена, ипдеэсЬеЬептасЬеп Фрейда, — это навязчивый процесс, в ходе которого прошлые действия и мысли, повторяемые магически противоположным образом, открыто сохраняющим то, что он пытается отрицать, обращается в ничто и пустоту. Изоляция разделяет мысли или стремится, зачастую разрушая временную последовательность, порвать нити, связующие мысли с другими мыслями и действиями. Регрессия, самая поэтическая и магически активная из всех этих трех навязчивых за щит,-это возвращение к ранним стадиям развития, часто проявляющееся в использовании не столь сложных, как нынешние, модусов выразительности» 1. На фактуре сексуального влечения регрессивный механизм защиты Фрейд сопроводил всё тем же пленом отвергнутых ранее образов: «.в порядке регрессиимы вполне можем поставить рядом с ними прилагаемые при некоторых неврозах усилия возвратить позицию либидо, некогда им занимаемую, но затем потерянную» 2. После этого осуществляется окончательная сублимация (виЬКпгиегипд) творения поэтического инфантилизма, внешне обнаруживаемого среди выглядывающих из подсознания сгустков давних замыслов предшественника. Наконец, заключительной фазой этого психоаналитического сеанса становится непреднамеренное рождение шедевра с оттеснённым в глубину Сцены Обучения именем автора-читателя. Поэт осмеливается признать свои заслуги достижением предшественника и стать свидетелем чужого триумфа. С последней защитой «проекции-интроекции» (открытой Ференци) преодолено вынужденное невротическое запирательство и утеряна былая привязанность к Фобосу. Проецируя своё творение и своё Я вовне, полностью заполняя собой внешнюю объективность, изнутри поэт-визионер идентифицирует его с возвращающимся новым и лишенным навязчивости образом, когда-то обретенным его предшественником. Вот и психоанализ становится еще одной и, пожалуй, основной подпоркой, скрепляющей Сцену Обучения и открывающей простор для заднего плана дотекстуальной репрезентации.
Вовлекаясь в самую гущу противоречий между структурализмом и романтизмом, Х. Блум не скрывает своей пристрастности по отношению к ним при.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 86.
2 Фрейд 3. Женщина, которой казалось, что её преследуют / Знаменитые случаи из практики психоанализа. М., 1995. С. 38. характеристике повествовательного психологизма, отстаивая незыблемость текстуальной преемственности и репрезентацию обосновывающего её чтения. Предпочтение романтического «присутствия» структуралистской форме всегда делает видимыми различия в очерчиваемой ими пространственно-временной текстуальности. Романтическая или дотекстуальная репрезентация, возвращающая к онтологическому истоку, несомненно чужда пишущейся поверхности текстуальной формы и, тем более, заставляет усомниться в предположительном существовании особого посттекстуального пространства чтения, звучащего не только как различающее повторение письма, но и как возможное становление знаковой структуры вне текста-оригинала. Блум, противник подобных воззрений, призывает на свою Сцену Обучения поэтов-философов, каббалистическую диалектику, американскую религию, психоанализ, чтобы поставить на службу дотекстуальной репрезентации и своей аналитике повествовательного психологизма разрушающую мощь времени и «ложного прочтения» {"misreading").
2.3.
КАРТА «ЛОЖНОГО ПРОЧТЕНИЯ"(«М18ВЕАОШО»).
У.Джеймс, популяризатор американского прагматизма, цитируя стихотворение У. Уитмена «Тебе», изыскивает совершенно неповторимое значение читательского «Ты» по отношению к повествующему голосу автора. Поэт, предвидя неизбежность переиначивающей интертекстуальности или выхода читателя за пределы наличного текста, сумел воплотить в себе сцену этого удивительного диалога, участники которого возвращаются к себе через Другого. Свидетельством того, что речь идет именно об обретении внутреннего мира, являются следующие строки:
Восток и Запад ничто в сравнении с тобоюЭти безграничные луга — эти бесконечные реки — ты так же безграничен и бесконечен, как они, Ты — тот или та, кто господин или госпожа над ними, Господин или госпожа, повелевающие природой, стихиями, страданиями, страстями, уничтожением.
Оковы падают с твоих ног — ты чувствуешь спокойное самоудовлетворение. Молод ли ты или стар, мужчина или женщина, грубый, низкий, отверженный остальными, — кем бы ты ни был, ты открываешь себя. Средства уже готовы, все уже имеется, чтобы через рождение, жизнь, смерть, погребение, Через гнев, несчастье, честолюбие, незнание, скуку проложило себе дорогу то, что ты представляешь собой1. Философская проблематика возникает сама собой в этом предрешенном изяществе воображаемой вселенной поэтического повествования, преодолевающей любые субъект-объектные ограничения, конституирующей «Я» в «Ты» и «Ты» в «Я». Джеймс поясняет: «Это столь прославленное «Ты», это «Ты», которому поётся гимн, может означать заключающиеся в нас лучшие возможности, взятые в их.
1 Уитмен У. Избранные произведения. М., 1970. С. 177−178. феноменальном значении, или же то особое искупляющее действие, которое производят на нас самих или других даже наши ошибки и недостатки" 1. Признаки духовного истощения авторского эго на этой Сцене чтения незамедлительно компенсируются «Ты», т. е. верификацией опытного приобретения мира «лучших возможностей». Предпочтение ближайших эмпирических истин или следование к имеющимся целям Другого отличает образ мышления современных американских интеллектуалов. В русле подобных суждений Р. Рорти твердит о новой философской парадигме «исторической случайности, как поворот в разговоре», проводниками которой становятся не философы в общепринятом смысле, а, к примеру, критик романтической поэзии чувств Х. Блум2. Последний философскую истину романтической репрезентации природы сводит к эмпирическому обертону фактуальной текстуальной зависимости между поэтами. Прямолинейный прагматизм Джеймса, отождествляющий поэзию и природную действительность и не искушенный в отношениях среди поэтов, замещается утонченной игрой влияний, ревизий и repression. Тот же Уитмен оказывается не просто заложником опыта «Ты», а одновременно мстительным и покорным последователем Эмерсона и Шелли, открывающим себя через них. Схема всех этих разоблачений строится на изначальной фиксации позднего поэта на образе предшественника, его последующим ревизионистским пересмотром с точки зрения солипсизма и соперничающего источника вдохновения и, наконец, признании последователем своего ученичества у предшественника, т. е. их онтологической идентификации. Оригинальность Я поэта, активизирующая первичное вытеснение (repression) поздним поэтом раннего, провоцирует обратное поэтическое и даже психологическое воздействие поэта-предшественника на своего адепта3. По этой режессуре Поэтического Влияния, поэт становится гарантом величия Другого, теряя собственный мир:
Поэтическое Влияние в некотором смысле — удивление, страдание, радость других поэтов как эти чувства испытывает в глубине души едва ли не совершенный солипсист, потенциально сильный поэт. Ибо поэт обречён учиться своим глубочайшим устремлениям у других. Стихотворения у него.
1 Джеймс У. Прагматизм / Джеймс У. Воля к вере. М., 1997. С. 314.
2 Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С. 290.
3 Bloom Н. Poetry and Repression: Revisionism from Blake to Stevens. New Haven — London, 1976. P. 190 внутри, и все же он переживает позор и славу, когда его находят стихотворения — великие стихотворения, — приходящие и з в н е" 1. Умаляя самость поэта, Блум старается смягчить радикальность своей антитетической критики возвращением к логике традиционной романтической репрезентации, но не природы, а поэтического мира предшественника. Лурианская диалектика «ограничение-замещение-представление» обрамляет эту визионерскую подстановку цепью законченных пропорций. Учреждая своей ревизионистской теорией агон между поэтами, Блум, вместе с тем, называет его «извращением» и «ложным прочтением», указывая на предрешённость победителя с самого старта. Негативность субъективного честолюбия лишает всякой свободы выбора и подчеркивает исключительность власти конкретного деспота, которая поучая, скрывает. Совсем другому эллинскому соревнованию воздает хвалу Ф. Ницше:
Это — сущность эллинского представления о соревновании: оно гнушается единовластия и боится его опасных последствий, оно требует как предохранительной меры против гения — второго гения. Каждый грек с детства чувствует в себе страстное желание участвовать в состязании городов, быть орудием для блага своего города: этим воспламенялось его самолюбие и этим же оно обуздывалось и ограничивалось" 2. Согласно этой ранней работы Ницше, эллинское соревнование представляет собой божественную благодать всеобщих истоков и не преемлет присутствия мифа о воле конкретного человека, пусть даже гения. Бесконечный космос, вдохновляющий, по меньшей мере, двух гигантов подменяется Блумом ограниченными пределами визионерского мира поэта-предшественника, малейшая попытка отклонения от которого другого поэта наказуема неизменным раскаянием. Поэт, «.который не хочет терпеть наличия слов между ним и Словом» 3, обречен на крушение своих иллюзий первооткрывателя. Оставшаяся вера в собственное творчество поддерживается в нём только представлением слова поэта-Отца. Это единственное замечание о репрезентации рознит взгляды Блума и деконструктивиста Деррида, превратившего «письмо» в независимый от фонического Логоса симулякр. Американский теоретик увлекает читателя неожиданностью ревизионистских трактовок поэтической традиции, но и.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 28.
2 Ницше Ф. Гомеровское соревнование/ Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 97−98.
3 Bloom Н. Poetry and Repression. New Haven — London, 1976. P.10. репрезентативной предсказуемостью конечного онтологического результата критики последователем предшественника. Постараемся определить повествовательные нюансы этой критики, сохраняя дистанцию к поэту-читателю, так и поэту-автору.
Настороженность Х. Блума по отношению к бытию влияния одного поэта на другого вполне объяснима, так как оно вырывается из прошлого вместе с Ничто, смертью. Поэтическое Влияние целиком поглощает поэта, живущего в мире тропов, не оставляя ему времени для будущего творения и вынуждая возводить лишь тропы защиты от этого нахлынувшего извне прошлого: «Если смерть — это радикальное представление прежнего состояния, оно также представляет прежнее состояние значения, или чистую внешность, так сказать, повторение буквального, или буквальное значение. Поэтому смерть — это разновидность буквального значения или, с точки зрения поэзии, буквальное значение — это разновидность смерти. Защиты можно назвать тропами от смерти, практически в том же смысле, в котором тропы можно назвать защитой от буквального значения, а это и есть антитетическая формула, которую мы искали» Иными словами, за каждым повтором последователем значения образов предшественника следует усматривать попытку защититься от их умервщляющей и закостеневшей буквальной формы и жизнеутвердиться в иной, но все-таки аллюзивной, фигуральной потусторонности и неявности. Именно в это заповедное пространство репрезентации поэтического вымысла всеми силами стремиться вмешаться Блум, чтобы, проследовав по его бугристой поверхности, в точности нанести на свою «карту ложного прочтения» («Map of Misreading»). По ней поэт-эфеб проходит шесть видов защит, имеющих, во-первых, ревизионистское обоснование: Клинамен (поэтическое недонесение) — Тессера (дополнение и антитезис) — Кеносис (повторение и непоследовательность) — Даймонизация (Контр-Возвышенное) -Аскесис (самоочищение и солипсизм) — Апофрадес (возвращение мертвых), во-вторых, психологическое: формирование реакции — поворот против себя — отмена, изоляция, регрессия — вытеснение — сублимация — интроекция, проекция, в-третьих, риторическое: ирония — синекдоха — метонимия — гипербола, литота — метафораметалепсис, в-четвертых, образное: присутствие, отсутствие — часть вместо целого и целое вместо части — полнота и пустота — высокое и низкое — внутри и вовнераннее и позднее. Переход от одной защиты к другой осуществляется по фазам.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 210−211. лурианской диалектики: Цимцум (удаление Творца), Швират ха-келим (сокрушение сосудов), Тиккун (восстановление). Очевидно удобство опоры на подобную законосообразность, так как помимо непосредственных отношений позднего и раннего поэта триада ограничение-замещение-представление координирует еще в процессе повествования и технику последовательной смены психологических защит.
Ступая на местность поэтического мироощущения позднейшего поэта, поэт-новичок принуждается к бесцеремонному и полному самоотречению и почитанию ушедшей традиции. Соответственно, его первой реакцией будет попытка спастись от этого натиска, заглушив голос Другого, собственной ироничной и неподвластной Музой. Блум называет этот первый выпад поэтического недонесения Клинаменом. Клинамен в поэме «De rerum natura» римского философа-атомиста Тита Лукреция Кара означает случайное отклонение атомов от их первоначальной траектории необходимости:
Но чтоб ум не по внутренней только Необходимости все совершал и чтоб вынужден не был Только сносить и терпеть и пред ней побеждённый склоняться.
Легкое служит к тому первичных начал отклоненье.
И не в положенный срок и на месте дотоль неизвестном1. Кроме легко уловимых мотивов эпикурейской философии обращает на себя внимание фрагмент рассуждений Тита Лукреция Кара о явлении, обусловленном материальными процессами. По мнению философа, отдельные атомы не обладают ощущениями и любыми феноменологическими свойствами до тех пор, пока не соединятся в новом материальном целом. Внешнее обращение Клинамена сопровождается рождением этого нового тела, отличного от первоначального и уже невозвратимого к нему. Это рассуждение не в пользу блумовской поэтической репрезентации учеником своего учителя. За именем «клинамен», по мнению литературоведа, стоит бесконечное поэтическое пространство, прежде всего англоязычной поэзии, зачинателем и духовным наставником которой был трагический романтик Мильтон. Ему также отводится место третьего великого последователя, следующего за первичным эпосом Гомера и вторичным эпосом Вергилия, Овидия, Данте. А вот пример демонического переиначивания Мильтоном своего ближайшего предшественника Спенсера, где слышится ирония и утверждается иная, отличная от пророчеств христианской ортодоксии, постановка.
1 Тит Лукреций Кар О природе вещей. Т.1. М., 1946, С. 89. присутствия" и «отсутствия»: «Поэтому та добродетель, представляющая собой не что иное, как неопытность в постижении зла, и отвергающая порок, не ведая высот, которые он сулит тем, кто будет ему следовать, — это пустая, а не чистая добродетель, ее свидетельство — лишь фекалиичто и стало причиной того, почему наш мудрый и серьёзный поэт Спенсер, известный, думается мне, как учитель получше, чем Скотт или Аквинат, описывая истинную умеренность в лице Гийона, проводит его вместе с паломником через пещеру Маммона и приют земного благословения, которое он может увидеть и узнать и от которого воздерживается» 1. В свою очередь, поэзия Мильтона подвергается искажающему прочтению со стороны Вордсворта («Ода признаков»), Блейка («Мильтон»), Кольриджа («Определение вкуса»), Шелли («Ода западному ветру»), Китса («Ода Психее»). Затем следует череда более ранних поэтов-эфебов: Теннисона («Улисс») — ревизиониста Китса, Браунинга («Чайлд Роланд») -ревизиониста Шелли и др. Пророком новой эры чувственности в англоязычном романтизме Блум называет Р. У. Эмерсона, оказавшего влияние на Торо, Уитмена, Дикинсон, Стевенса, а через них — и на Элиота, Фроста, Крейна и др. Не забывает Блум упомянуть и о современных противниках своей ревизионистской теории, последователях ницшеанского обновляющего воображения, Эммонсе, Уоррене, Уильямсе, Паунде, Эшбери и др. От лица последних Эммонс посвятил Х. Блуму поэму «Сфера: форма движения», где слились воедино и оборонительная ирония над традицией и великолепие собственного превосходства, не терпящего посредников в представлении природы:
Я взошел на вершину и на всех ветрах я стоял там: В замешательстве ветер несся то в том Направлении, то в этом, И речь его была непонятна, и я говорить с ним не мог: и все же сказал я как будто чужому в себе не говорю я с ветром теперь: ибо так далеко унесённый природой, природой я высказан2.
Перед нами совсем другое понимание Клинамена как независимого и целостного представления, кладущего конец блумовскому ряду ревизионистских пропорций. В.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 242.
2 Там же. С. 305−306. отношениях с оппонентами критик остаётся неумолим, указывая им на дальнейшие психологические, риторические, образные последствия их отступничества. Психологически Поэтическое Влияние сравнивается им с травмирующим воздействием внешней среды, за которым на бессознательном уровне следует «формирование реакции», соответствующее дерзкому посланию поэтом в адрес предшественника разрушительной иронии. Самоутверждение посредством столь резкой защиты «отсутствия» на месте «присутствия» и «присутствия» на месте «отсутствия», по сценарию лурианской диалектики ограничение-замещение-представление, становится лишь первым актом превращения. Клинамен замещается второй репрезентирующей читательской пропорцией — Тессера.
Слово «тессера» взято из лексикона древних мистерий, где оно обозначало священную вещь или её часть, по которой узнавали о принадлежности к какому-либо культу. Блум допускает аналогию между этой сакральной реликвией или её осколком с антитезисом и дополнением читающего поэта в стихотворении своего предшественника, так как, в противном случае, Слово последнего, по его мнению, будет стерто и позабудется. Структуралистский психоаналитик Жак Лакан излагает смысл этого термина в рамках традиции логоцентризма как некий скрытый бессознательный символ («слово, даже донельзя стертое, сохраняет ценность тессеры» 1). Блум, защищая другой, ревизионистский, логоцентризм, выражает «тессеру» в риторическом тропе синекдохи и образной иллюстрации Части вместо Целого и Целого вместо Части. Поэт-ревизионист подводит итоги своего первичного недонесения, доискиваясь собственных истоков. Примером этого переиначивания является стихотворение Уитмена «Когда жизнь моя.», отклоняющегося от романтической репрезентации Природы Эмерсона:
Где волны взбегают с хрипом, и свистом, Где неистовая старуха вечно оплакивает своих погибших детей, В этот день. Это было поздней осенью, я пристально смотрел на юг И электричество души сбивало с меня поэтическую спесь.
Я был охвачен чувством, что эта кромка отлива, Ободок, осадок, воплощает дух воды и суши всей планеты2. Вселенский союз земли и воды явился следствием простого отлива, который противопоставляется неистовым и гибельным деяниям естественной стихии. Иначе.
1 Лакан Ж. Функция и поле языка и речи в психоанализе. М., 1995. С. 22.
2 Уитмен У. Листья травы. М., 1982. С. 225. говоря, это образный поединок природы поэтического мира предшественника и отчаянно сопротивляющегося всякой предначертанности последователя. Другой характерной чертой «тессеры» является психоаналитический диагноз «обращения против себя». После разрушительной иронии поэта настигает невротическое представление о собственной немощи, как например, в стихотворении Уоррена «Вечерняя прогулка в оттепель в штате Вермонт», которое, кстати сказать, с трудом поддается блумовскому анализу:
В воспоследовавшей тишине,.
Ослеплённый внезапно и дрожа еще от неожиданности, Я стою и пялюсь. В грязном снегу Ноги. И, глядя на красный закат за черными ветками, слышу,.
Как в клетке груднойВ темной пещере безвременьяСердце Стучит.
Куда Годы ушли?1.
Как годы уходят вместе с закатом, так и сердца не слышно в «тёмной пещере», т. е. поэта гнетёт неуверенность в своих былых прозрениях, подтверждаемая потерянностью во времени. Но после попытки предшественника на стадии клинамен/тессера пристыдить ранних поэтов за неоправданность бескомпромиссного отречения от его творений, агон не завершён. Полный решимости последователь создает Контр-Возвышенное, намеренно персонифицированный пафос которого еще предстоит одолеть предшественнику на стадии кеносис/даймонизация.
Ближайшим свидетельством читательского пренебрежения обучающим воздействием позднего поэта становится ревизионистская пропорция Кеносис. Кеповгё Блума истолковывается как самоуничижение, самоопорожнение и извлечено из библейского фрагмента послания св. Павла, где Иисус добровольно утрачивает божественность ради искупления грехов человеческих. В главе IV «К ефесянам послания Святого апостола Павла» (перевод А.С.Хомякова) сказано: «7. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова.
1 Уоррен Р. П. Вся королевская рать. Стихотворения. М., 1982. С. 634.
8. Потому и сказано: «Возшед на высоту, пленил Он плен и дал дары людям» .
9. А что же это «взошел», как не то, что Он и нисходил прежде в низшие места земли;
10. низшедший есть Самый Тот, Который и взошел превыше всех небес, да исполнит все" 1.
В поэтической теории американского литературоведа имя «кеносис» обозначает единовременное опустошение поэта-предшественника и поэта-читателя или уничижение, омраченное крайней разъединенностью и безысходностью. Творческая агония разыгрывается в сочиняемом стихотворении на месте «принудительного повторения» в нём мотивов ушедших, как казалось, в небытие Апокалипсиса прошлых поэтических свершений. Аллюзия небрежна и непоследовательна, в ней царит глубокое уныние в образах пустоты и образах полноты. Риторический троп метонимии, господствующий при Кеносисе, обречён приносить из прошлого текста иллюзорность и разочарование. Лёгкую тень содрогания наводит описание окрестностей Черного Замка в поэме Браунинга «Чайлд Роланд», звучащее припоминанием предшествующей «Оды западному ветру» Шелли, где ветер побеждает и возвышается над земной бренностью:
Вот пни торчат. Когда-то лес был тут, А ныне лишь безжизненный сушняк. (Не так ли, что-то смастерив, дурак Уничтожает собственный свой труд И прочь бежит?) Здесь птицы не поют. На всем распада и забвенья знак2. Психоаналитическое объяснение этим защитным превращениям Блум находит в трёх состояниях навязчивости: отмены, отрицающей все сохраняющиеся образы прошлогоизоляции, дробящей воспоминания на множество бессвязных впечатленийрегрессии, возвращающей в первичное состояние активизирующей воспоминания созерцательности:
Рождённый Матерью Земной Опять смешается с ЗемлёйСтав прахом, станет Персть равнаТак что же мне в тебе, Жена?
1 Хомяков A.C. Работы по богословию. М., 1994. С. 323.
2 Браунинг Р. Стихотворения. Л. 1981. С. 134.
Блейк «К Тирзе» 1).
Читательское прикосновение к тексту соизмеряется с тиранической властью Отца над ничего не ведающим Эдипом. Невротические восторги, бессвязные озарения, ускользающие недомолвки — вот результат этого блуждающего во тьме творчества. Но Блум не останавливается на этом, давая читающему поэту шанс на кратковременное вытеснение этих латентных переживаний Эдипа в бессознательное и возможность следовать обходными путями репрезентации Котр-Возвышенного. Так самая разрушительная для психики поэта ограничивающая пропорция Клинамен замещается представляющей Даймонизацией. В «даймоне» Блумом угадывается ревизионизм гностиков, восставших против произвола лживого христианского демиурга и устремившихся к стоящему над этим божеством абсолюту, полноте, единому. Сократовский «даймон» указует на сокровенное значение внутреннего слуха и предельного самоуглубления. За разъяснениями Блум обращается к наследию неоплатоника Плотина, облекшего «даймон» в таинство Другого. В Enneadis VI, Lib. IX им сказано: «Созерцающий не созерцает и не противопоставляет созерцаемое как другое, он словно сам становится другим и сам более уже не принадлежит себе, весь он принадлежит тому и становится едино с ним, соединенный с ним как центр к центруи здесь сложные вещи составляют единое, а двойственность имеет место лишь в том случае, если они разделены, — в таком случае говорим мы о различённом. Поэтому такое созерцание и трудно описуемо. Как может кто-либо описывать нечто как другое, когда он то, что созерцал, видел не как другое, но как единое с самим собой?» 2 На этой стадии последнего отсвета сознательности поэта (перед вытеснением в бессознательное) Блум своей репрезентацией опровергает все современные ему деконструктивистские теории Другого (Autre), превращая Даймонизацию лишь в ступень своей «карты ложного прочтения», когда «поэт открывается тому, что он считает силой родительского стихотворения, принадлежащей не самому родителю, но сфере бытия, стоящей за этим предшественником. Он устанавливает такое отношение своего стихотворения к родительскому, что уникальность раннего стихотворения становится сомнительной» 3. Творческое истощение сменяется лихорадочным притязанием на.
1 Блэйк У. Стихи. М., 1982. С. 201.
2 Плотин О благе и едином // Логос. М., 1992, № 3, С. 225.
3 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 18−19.
Возвышенное, оттесняющее позднего поэта на противоположный полюс вновь утверждаемых ценностей. Это поэтическое пространство встречи предшественника и последователя, где гипербола соседствует с литотой, величие с уничижением, изобилие с обнищанием. В унисон с этим суждением Эмерсон восклицает: «Оставь думать об опыте и примере других. Ты идешь не к человеку, ты идешь от человека. Все люди, когда-либо жившие на земле, — позабытые странники, что шли этой дорогой. Ты в равной мере изведаешь надежду и страх. Что-то тягостное ты ощутишь даже в надежде. Когда является видение, ничто не внушает ни чувства благодарности, ни, строго говоря, радости. Поднявшись над страстями, душа созерцает целостность и вековечную причинную связность, постигает независимость Истины и Блага, и в нее вселяется успокоение, ибо она уверяется, что все идет хорошоКаково же было последователю-ревизионисту Эмерсона Уитмену, вторящего в ответ:
Сбитый с толку, загнанный в угол, втоптанный в грязь. Казнящий себя за то, что осмелился открыть рот, Понявший наконец, что среди всей болтовни, чье эхо перекатывается надо мной, я даже не догадывался, кто я и что я, Но что рядом с моими надменными стихами стоит мое подлинное Я, еще не тронутое, не высказанное, не исчерпанное2. Через признание собственной виновности поэт утверждает незримое «оно», деформирующее и уничтожающее останки прошлого. Блум в каждом его жесте видит признаки двойственности и неминуемой агонии. Это вера, что за последним вздохом сознания поэта-отступника последует Апокалипсис в мифологизированном мире бессознательного. Последнее сублимированное возвращение к истокам размолотого, искалеченного, извращенного в борьбе с поздним текстом читательского воображения характеризуют ревизионистские пропорции Аскесис/Апофрадес.
Стадия Аскесис на карте «ложного прочтения» отсылает нас к истёршимся письменам древнегреческого натурфилософа V в. до н.э. Эмпедокпу из Агригента. В своей философской поэме «О природе» он отыскивает природные «корни» всех вещей и сущностные силы их взаимодействия — «дружбу» и «вражду» или притяжение и отталкивание. Аскесис, момент одинокого самоочищения и.
1 Эмерсон Р. У. Забота о себе / Эмерсон Р. У. Эссе. Topo Г. Д. Уолден. М. 1986. С. 147−148.
2 Уитмен У. Листья травы. М., 1982. С. 226. максимального сокращения, более всего соответствует второму типу взаимодействия. Так и поэт, словно потухший, но бурлящий изнутри вулкан, предается аскезе солипсизма, отказываясь от погони за родительским стихотворением и даже собственной славы обольщения потомков. Неудивительно, что в этом пространстве самоизгнания преобладают поэтические образы «Внутри и Вовне», а их риторическим обоснованием являются скрытые аналогии метафоры. Отказ от соперничества с предшественником означает для читающего поэта вытеснение в подсознание оставшегося неудовлетворенным влечения к победному овладению «оно», а психоаналитической диагностикой творчества солипсиста объявляется сублимация. Душевные терзания поэта ведомы в текст уже независимо от него, порой будучи даже непонятными ему. Слова Музы из «Падения Гипериона» Китса звучат тревожным предостережением поэту-затворнику, замечающего её великолепие лишь в собственном отражении: Если ты не сможешь Ступени эти одолеть — умри Там, где стоишь, на мраморе холодном. Пройдет немного лет, и плоть твоя, Дочь праха в прах рассыплетсяистлеют И выветрятся костини следа Не сохранится здесь, на этих плитах. Знай, истекает твой последний часВо всей Вселенной нет руки, могущей Перевернуть песочные часы Твоей погибшей жизни, если эта Смолистая кора на алтаре Дотлеет прежде, чем сумеешь ты Подняться на бессмертные ступени1. Этой ступенью, возвышающейся над бесплотным пространством Аскесиса, становится завершающая репрезентация всей блумовской теории дотекстуального ревизионизма — Апофрадес.
Апофрадес наведывается сюда из древнегреческих мифов, где он был грозным знамением возвращения мертвых в дома своих близких. Интертекстуальность претерпевает грандиозную подмену: оживающие тени.
1 Ките Дж. Стихотворения. Л., 1986. С. 196. предшественников вытесняют и умервщляют читающих последователей. Вступает в свои права бытие текста предшественника, замутнённое лишь незначительными искажениями, явившимися следствием столь длительного обучения поэта. Пространство воображения зрелого поэта походит на сцену Возрождения Другого в драме его личного Апокалипсиса. Главные поэтические образы оформляются как Раннее и Позднее, а среди риторических обращений преобладает металепсис. Блум даёт металепсису совершенно неожиданную трактовку, называя аллюзивной фигурой фигур и противопоставляя вымыслу и намеренной ошибке деструктивного тропа иронии. Им положено начало репрезентации предшествующего дискурса, где теряются любые читательские фантазии и гарантируется калькирование истины. Функцию психологической адаптации последователя к плоскости дотекстуальности выполняет аналитическая защита интроекция и проекция. Интроекция — это вид идентификации, связанный с изменениями, привносимыми вонутрь Я, а проекцияэто вымещение в объективность всего, что не принимается Я. Объективность аллюзии целиком поглощает собой созидающую способность читательского воображения, так что его Я во внешнем текстуальном выражении делается послушным любому её указанию. На этом кульминационном изломе долгой читательской эпопеи уже и утративший всякую веру в райскую благодать даже своенравный Мильтон потупил взор перед неувядающей поэзией Гомера, Вергилия и Данте, заключая их в объятья «блестящего ада»:
Не мудрено Что золото в Аду возникло. Где Благоприятней почва бы нашлась. Дабы взрастить блестящий этот ад? Вы, бренного художества людей Поклонники! Вы, не щадя похвал, Дивитесь Вавилонским чудесам И баснословной роскоши гробниц Мемфиса, — но судите, сколь малы Огромнейшие памятники в честь Искусства, Силы, Славы, — дело рук Людских, — в сравненье с тем, что создают Отверженные Духи.1.
1 Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец. М., 1976. С. 46−47.
Итак, «ложное прочтение» неизменно обречено на отражение немногих сверкающих красотой поэтического замысла текстов прошлого. Справедлива и заметка о том, что отражение того, что ни с чем не сравнимо становится минующей читательское сознание производной онтологического самовыражения. Наше путешествие по измятому ландшафту субъективного текста читателя избавляет от иллюзии субъективности и возвращает к примерному повторению им изгибов своего исходного оригинала. Роль «автор-читатель», несмотря на заверения Блума о её единстве, никогда не упускала случая подтвердить собственное двуличие в дуэте с Другим, последователем или предшественником. Так, обойдя круг, мы узнали только об авторе и нескольких нанесенных наугад помехах в его тексте, как следствие непокорности честолюбивого читателя. В этом, по-видимому, и заключена вся скудная репрезентация фактуализма, столкнувшая автора и читателя на месте конкретного поэтического образа. Христианский сюжет о Распятии и Вознесении обрел для поэта-читателя грубую чувственно-осязаемую сторону естественного отбора. Здесь Блум готов сколько угодно цитировать своего прародителя Эмерсона: «Те, чьё существо выше, подавляет низших по духу, словно бы погружая их в летаргию. Появляется скованность, исчезает сопротивление. Возможно, тут действует универсальный закон. Если натура высокая не может поднять натуру низкую до своего уровня, она её покоряет, — так человек умеет подчинять своей воле низших животных. Та же неподвластная разуму сила сказывается в отношениях между людьми. Как часто воздействие истинного мастера по своему характеру оказывалось в полном соответствии с тем, что рассказывают о нём легенды! .все внимавшие оказывались затоплены его мыслями, начинали воспринимать все события именно в том свете, в каком воспринимает их он» 1. Перестать ощущать себя и быть проглоченным опытом Другого. Такова опасная для любого творчества пародия прагматизма на нынешнюю интроспекцию. С обратной стороны, поэту, отказавшемуся признать истину своего ученичества, по мнению Блуму, уготована еще более печальная судьба. Его путешествие по карте «misreading» завершается обрывом, пустотой, гибелью безо всякой надежды на возрождение. Гнетущие следствия уклонения от металепсиса и представления позднего поэта звучат предсмертным эхом в стихотворении Эшбери «Пришедший из святой земли» :
1 Эмерсон Р. У. Характер / Эмерсон Р.у. Эссе. Торо ПД. Уолден. М, 1986. С. 302. давно ушедшим — не здесь, не вчеранаполнится пропасть текущего дня, тебе откроется пустота в идее того, что такое время, которое в прошлом уже навсегда1. В этой самозабвенной и нигилистической демонстрации нет пресловутого аллюзивного металепсиса, обнажающего ностальгию по поэзии предшественника, но есть одно лишь напоминание современной англоязычной поэзией постромантизма об отсутствии вечного онтологического истока традиционной романтической репрезентации. Блум, более снисходительный ревизионист традиционного романтизма, называет представление искажающим чтением, уловимым в сетях риторических форм. Бытие Природы и поэта-творца сменяется обучающим влиянием онтологического пространства поэзии конкретного Отца, а тождественность мимесиса самому себе достигается не созерцанием, озарением или верой, а извращением психологических защит и фактуальной ошибкой читательского воспроизведения. Блум крайне обедняет онтологию поэтической традиции, предписывающей единый канон репрезентации общих истоков, подменяя её инструментализмом случайного поэтического «присутствия» читателя: «Поэты живут унаследованной ими силойих сила проявляется в их влиянии на других сильных поэтов, и влияние, распространяющееся более чем на два поколения сильных поэтов, становится частью традиции, даже самой традицией. Стихотворения выживают, когда порождают живые стихотворения, пусть даже неприятием, негодованием, неверным истолкованиемстихотворения становятся бессмертными, когда их последователи, в свою очередь, рождают жизненно важные стихотворения» 2.
Что же заключено в центре читательских орбит, сооруженных Х. Блумом? Эти пояса возвращения к исходному притягиваются не романтической репрезентацией Природы и не деконструктивистской однородностью письма, а их нечаянным симбиозом представляющей интертекстуальности. Отстаиваемая им антитетическая критика уличает оторванный от действительности и Логоса деконструктивизм, исповедуемый в языковых играх Ницше, Деррида, де Мана, в ироничности, разрушительности и децентрированности, но странным образом обнаруживает.
1 Bloom Н. Map of Misreading. N.Y., 1975. P. 171.
2 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 305. единство во взглядах с эмерсоновским романтизмом, исполненным природной чувственности. Блум возлагает на Эмерсона бремя открывателя его интертекстуальной репрезентации, ставшей почему-то американской идеологией и самым надежным заслоном деконструктивизму:
И я полагаю, Ницше, в частности, понимал, что Эмерсон, в отличие от него самого, призван прорицать не децентрирование, которое превосходно исполняют Деррида и де Ман, но особое американское рецентрирование и вместе с тем американский способ истолкования, к развитию которого мы, от Уитмена и Пирса до Стевенса и Кеннета Берка, и приступили — но только приступилиспособ интертекстуальный, но упрямо логоцентрический и все так же следующий Эмерсону, ставившему красноречие, вдохновенный голос, выше сцены письма" 1. Этот логоцентризм при посредничестве позднего поэта, как оказалось, отлично помещается в рамках фрейдовского психоанализа. Критик Л. Женни даже счет «комплекс Эдипа» и сопряженные с ним шесть видов защит ведущим мотивом в преобразовании поэтических форм («La strategie de la forme»). Блум убеждён, что без вытеснения страха перед отцовским влиянием в бессознательное поэта никакой текстуальной репрезентации не произойдет. Именно поэтому невротическое состояние пациента — раннего поэта, как и процесс чтения, он растягивает на шесть замещаемых фаз. Если предположить отказ от незримого вытеснения в бессознательное и последующей сублимации, то, по этой поэтической теории, мы станем свидетелями типично романтического противостояния Высокого и Низкого, Внутреннего и Внешнего. Влияние предшественника не будет столь подавляющим, и с последователем их объединит только общая традиции природной репрезентации. Блум зачастую сам признает искусственность таких теоретических допущений, произвольно смешивая сознательные и бессознательные переживания: «Важен не точный порядок пропорций, но принцип замещения, в соответствии с которым представления и ограничения постоянно отвечают друг другу*'2. Этот нонсенс вместе с таким же техницизмом представления заставляет усомниться в онтологичности раздробленного пространства карты misreading. Столь разомкнутой выглядит судьба романтизма, отлученного от природной созерцательности и индивидуальности творца. Поэт обращается в критика, обновляющей антитетикой.
1 Там же. С. 284.
2 Там же. С. 223. которого становится мания, невроз и апофрадес. По мнению видного литературоведа Нартропа Фрая, следует уклоняться и от такой погрешности Поэтического Влияния как волюнтаризм, явившегося для Блума начальным мотивом недонесения (misprison) и поэтического соперничества: «Раз художник мыслит в терминах влияния, а не ясности формы, усилие воображения становится усилием воли, а искусство извращается в тиранию» Но и это отдающее картезианством суждение предоставляет весьма сомнительный источник вдохновения, таящийся в предопределенных границах субъективного восхождения духа. Неудивительно, что Джеффри Хартман сталкивает в основной современной полемике о природе читательского сознания исследователей влияния со структурализмом и идеализмом, деконструктивизмом и формализмом2. Американский постструктурализм совершенно иначе ставит проблему репрезентации, редукции или литературной формы, удаляясь от онтологических истоков, структурных отношений на письме или интенций читателя в посттекстуальную среду критики. Такие известные авторы как Борхес, Кортасар настойчиво вопрошают читателя, создающего свой собственный текст, находясь за гранью читаемого. На карте «ложного прочтения» X. Блума есть очень значительная иллюстрация посттекстуального одиночества читателя на стадии Клинамен/Даймонизация, когда влияние утрачивает свою непосредственность, а проявления бессознательного ещё не столь очевидны. За романтической содержательностью плотиновского высказывания: «Пытаюсь божественное в нас возвести к божественному во всем» 3, характеризующего пропорцию Даймонизации и солипсистского Аскесиса, слышится самостоятельный голос читателя, удалившегося от текста предшественника. Текст, прежде всего, провоцирует негативную рефлексию читательского существования или продуцирование новых текстуальных структур, а не репрезентацию природы и текста. Блумовская интертекстуальность частично подготавливает нас к этому выводу, но строго придерживается своих концептуальных предпочтений в вопросах Поэтического Влияния и бессознательных защит. Хотя определить эти предпочтения в противоречивом смешении психоанализа, романтической репрезентации, прагматизма и деконструктивизма подчас бывает практически невозможно.
1 г-. / IГгА ГГГ Г^ ЛЛ*т.
О.чурл /Ч. '! {JCiA rT! jJ ! С1. ! ! ^^СЛНР.М. d- ! О. !
2.4.
СТРУКТУРНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА.
Самое губительное прегрешение в современном определении читательского или критического текста Блуму видится в предпочтении повествовательному психологизму топографии «рассеянных» («(ЗеББ^паКоп») знаковых отношений. Особенную остроту это противоречие приобретает на фоне несовместимых читательских стратегий романтической репрезентации природы и деконструктивистского письма, не выходящего за собственные пределы. Блум чужд любым структуралистским воплощениям рационалистической метафизики или сверхсовременного деконструктивизма, и в своей интертекстуальной репрезентации он остаётся критиком-философом, популяризирующим романтическую онтологию, избирая при этом факгуализм посредничества поэта-предшественника между бытием Природы и читателем. Ближайшим своим соперником в деле подобного перерождения романтической репрезентации Блум называет сокрушительные для читательского представления аналитизм и редуцирование, принесённое Ницше и Фрейдом:
Духовный подъем слишком часто объясняется стремлением к власти над предшественником, стремлением, истоки которого твердо определены, а цели-вполне произвольны. После Ницше и Фрейда невозможно целиком и полностью вернуться к модусу истолкования, стремящемуся восстановить значения текстов. И все-таки даже самые утонченные современные ницшеанцы-«деконструкторы» текстов — вынуждена редуцировать эти тексты, стремясь обойти стороной историю и психологию или убежать от них. Деконструктивистские прочтения избавляют от иллюзии тексты, допускающие такого рода иллюзии. И все же «перспективизм» Ницше, то единственное, что он смог предложить в качестве альтернативы западной метафизике, — это лабиринт, практически куда более иллюзорный, чем иллюзии которые он намеревался рассеять. Не нужно быть религиозным в каждом чувстве, чтобы заключить, что значение стихотворений и сновидений, всего текста вообще, существенно обеднено вдохновленной Ницше деконструкцией. Ницше, якобы покончившего с реминисценциями или любым следованием ностальгии, деконструируя сам мыслящий субъект, превращая «я» в «rendezvous» личностей" 1.
Ревизионизм ХБлума, вставшего на защиту романтической истории репрезентации и психологии чтения, объясняется жаждой заложить прочный онтологический фундамент на месте руин деконструктивистской беспринципности, проникнуть в текст вместе с языком подсознательных замещений и разоблачить метафизику рационализма, а также дезорганизованную ницшеанскую «волю к власти». Блум намеренно не желает прислушиваться к пояснениям Р. Барта о современной текстуальной анонимности: «.письмо есть деструкция всякого голоса, всякого происхождения. Письмо — это то нейтральное, то разнородное и уклончивое, куда убегает наш субъект, то бесцветное, где теряется всякая идентичность» 2. Наперекор этому утверждению, критик-романтик наделяет любое произведение авторством предшественника и превращает структурный анализ текста из семиологии дискурсивного «поля методологических операции» 3 в психологию репрезентирующей ревизии повествователя. Парадоксом подобной интертекстуальности становится то, что обвинения в сбивчивом редукционизме, брошенные Блумом в адрес Фрейда и Ницше, к нему же и возвращаются в виде дотекстуального читательского феномена, наугад и бессознательно сводимого ко всегда удаляящемуся за горизонт «присутствию» тексту прошлого. Grammatike как единство письма и чтения, наличного авторского письма и читаемого текста-предшественника в однородной языковой среде не всегда может выдать себя заложницей гносеологических приемов романтического созерцания природной сущности в силу особой симпатиии Блума к ложным трактовкам бесконечных текстуальных повторений. Учитывая, что программа созидательного антидеконструкгивизма X. Блума, как и подобает теории критики, сплетается в тонкую сеть опровержений, обратимся сначала к рассмотрению самой логики негативного анализа текста Ницше, Фрейда, Деррида, Фуко, де Мана и Миллера.
Ницше обрёл своё призвание в беспощадном развенчании сущностных начал рационализма и христианства. Именно в этом растерзанном противоречиями сознании промелькнула крамольная во все времена весть об оскудении незыблемой истины духа, о ценности мгновенного становления и «выведенного.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е. 1998. С. 204 -206.
2 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 256.
3 Там же. С. 415. кровью" письма как самопреодоления тела. Преисполненная дерзости, страсти и разрушения «воля к власти», подобравшая ключи ко всем тайнам мира, с нескрываемым презрением и враждебностью взирает на метауступки человека её неизведанности и стихийности: «Этот мир иллюзорен: следовательно, существует истинный мир- - этот мир условен: следовательно существует безусловный мир- - этот мир исполнен противоречий: следовательно, существует мир непротиворечивый- - этот мир есть становление: следовательно, есть мир сущий: — ряд ложных выводов (слепое доверие разуму: если существует А, то должно существовать и противоположное ему понятие В)» За безрассудной лаконичностью «всё есть становление» скрывается высокое покровительство Ницше одержимости «жизни», ее авантюрной и сомнительной игре: «Существа, обладающие крайним избытком силы и играющие силой, одобрили бы в смысле эвдемонистическом именно аффекты, неразумность и изменчивость, со всеми их последствиями — опасностью, контрастом, гибелью и т. д.» 2 Один взгляд на изгиб, движение, позицию телесного «Само» способен уличить в софизме все исторические суждения о духовности: «.во всем развитии духа, быть может, дело идет о теле. В конечном выводе дело идет вовсе не о человеке, он должен быть преодолен» 3. Телесность, или лучше сверх-телесность, взывает к довольству дионисийской ощутимостью, расчищающей простор для новой бесконечности: «Феномен тела наиболее богатый отчетливый и осязаемый феномен: методически поставить его на первое место, ничего не предрешая о его конечном значении» 4. А вот, наконец, и ключевое решение для всего современного деконструктивизма: «Взяв тело за руководящую нить, мы увидим чрезвычайную множественность» 5. Пространственная телесность языка, устремлённая вдаль, выражает агрессивную недоверчивость любой незримости внутренней духовности, в особенности, — христианской, которая в молитве воспаряет к ангелам, а в обыденной речи потворствует ущербности стада:
Но пусть остерегаются видеть здесь (в христианстве) что-нибудь более чем язык знаков, семиотику, повод для притчи. Ни одно слово этого антиреалиста не должно приниматься буквально, — вот предварительное условие.
1 Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994. С. 269.
2 Там же. С. 268.
3 Там же. С. 318.
4 Там же. С. 228.
5 Так же. С. 239. для того, чтобы он вообще мог говорить. Можно было бы с некоторой терпимостью к выражению назвать Иисуса «свободным духом» — для него не существует ничего устойчивого: слово убиваетвсе, что устойчиво, то убивает. Понятие «жизни», опыт «жизни», какой ему единственно доступен, противится у него всякого рода слову, формуле, закону, вере, догме. Он говорит только о самом внутреннем: «жизнь», или «истина», или «свет» — это его слова для выражения самого внутреннеговсе остальное, вся реальность, вся природа, даже язык, имеет для него только ценность знака, притчи" 1.
Противопоставление внутреннего и внешнего наглядно демонстрирует как тело или вообще отсутствие такового преодолевает свое знаковое выражение. Для себя признаем убедительным мнение П. Клоссовски о том, что осмысленный знак Ницшеэто вечное устремление к себе через Другого, след интенсивности «присутствия-отсутствия"2, где «присутствие» Христа оправдывается лишь его «отсутствием», а внешнее течение «жизни» — её внутренним самоуничижением. По этой причине, чем больше корпускул действительности найдут воплощение в символе, тем быстрее энергичное тело захочет избавиться от этой искромсанной знаковой оболочки. Становление губительно не только для духа, но и для знака.
По мнению Блума, деконструкция текста сродни аналитизму Фрейда. Его психология ищет объяснение невротической навязчивости в детских переживаниях предсексуального периода, вытесненных в подсознание, а затем обретших травматическую силу немотивированных воспоминаний. Вся мудрость бессознательного заключена в ранних влечениях «Эдипова комплекса», той «Первичной сцены», за которой тянется длинный шлейф знаковых ассоциаций, патологических прозрений и сексуальных фантазий, замещенных цензурой подсознания. Психоанализ деструктуирует явления сознания и сновидения с целью реконструкции этих хаотичных влечений Эроса и Танатоса. Любой знак или событие сознания оказывается в тени расщепления Fort/Da, составляющего подмостки другой великой сцены самоописания истории. Именно таким предстаёт психоанализ в эссе Ж. Деррида «Фрейд и сцена письма» («L'ecriture et la differance»): «Так, вероятно, благодаря прорыву Фрейда возникают понятия по ту сторону и по эту сторону — относительно ограничений, которые можно назвать.
1 По ту сторону добра и зла. Минск, 1997. С. 328−329.
2 Делёз Ж. Лотка смысла. М., 1998. С. 390. платоновскими". В этот момент мировой истории, каким он «вырисовывается» по Фрейду, через невероятную мифологию. описание историко-трансцендентальной сцены высказывается, не высказываясь, возникает в мыслях: она написана, но и одновременно стерта, метафорична, указывает на всемирные связи, представляет себ я" 1. Извлечённое из подсознания письмо не субъективно, не внешне самому себе и не вторично, — вот признанное официальным открывателем деконструктивизма основное достижение фрейдовского психоанализа. Нас приглашают к освидетельствованию «само-презентации видимого и даже чувственного в их чистоте» 2. Под телесным опытом Деррида понимает, главным образом, письмо, противопоставленное метафизике Начала или Логоса, где в знаковых отношениях господствует случай, различие и самореферентные «военные хитрости читающего автора и диктующего первочитателя» 3. Неоницшеанский деконструктивизм Деррида стал реакцией на структуралистскую реставрацию рационализма знаковой организации текста и формализации смысла. Философа тревожит факт того, что «быть структуралистом это, в первую очередь, противостоять всякой заорганизованности смысла, суверенности и равновесию всякой ставшей формыэто значит отказываться считать неуместным и случайным все то, что не вмещается в рамки выстраивающейся конструкции» 4. Самопишущееся «архи-письмо» упреждает любые попытки собственного закрепощения европейским логоцентризмом, провоцирующим появление рационалистической метафизики и структурализма (особенно его негенетического варианта), и выбирает «.ницшевское радостное приятие игры, его открытость грядущему, приятие мира, в котором знаки не лгут, но и не вещают истин, мира без истоков, открытого всем истолкованиям.» 5 Итак, деконструкция не привносится в текст извне, а всего лишь отражается с телесной поверхности письма. Эта мысль нашла себе по-настоящему благодатную почву для истолкования в современном американском литературоведении.
Одним из первых последователей Ницше и Деррида был доктор философии Гарвардского университета Поль де Ман, углубивший теорию открытой или.
1 Derrida J. L’ecriture et la defferance. Paris, 1967. P. 337.
2 Ibid. P. 349.
3 Ibid. P. 297.
4 Ibid. P. 40.
5 Ibid. P. 15. сильной" формы обращением к риторическому тропу иронии. Комментируя ранние работы Ницше по риторике об инверсии и саморазрушительности иронии, де Ман становится приверженцем убеждения, что все намеренные вымыслы, заключенные в этом тропе, не более чем скопление ошибок и запутанных авторских уловок. Величие англо-язычных или французских романтиков в самоиронии. Для них «мировая тоска» или, например, бодлеровская «скука» («unnui») — порочащее бремя собственной отрицательности и конечности, но в том и их превосходство над типично романтическим демонизмом и смертностью, домогающихся дуэли со своей просветленной противоположностью1. Любой автор ставится перед выбором: -либо предпочесть субъективность w неизменную буквальность смысла своего текста, либо саморазрушение и открытость текста самоистолкованию. Деконструктивность иронии, обнажающая поверхность текста, пытается расколдовать автора, вслушивающегося в свой голос, и даровать ему «прозрение» (Insight) в бесконечности собственного истолкования, в котором фрагментарность субъективного и объективного, внутреннего и внешнего лишает их значимости противоречивого и целостного2. Письменные «различия» и «отсрочки», обнаруженные Деррида, прослеживаются также у де Мана во всевозможных письменных аллегориях как бездонных новообращениях формы и смысла, не повинующихся сущностному центрированию и субъективному замыслу и не исчерпывающихся только словесным представлением. Задний план аллегории становится местом нового истолкования, скрытого смысла и последующего текста, поэтому исследование аллегорических самопревращений на поверхности письма составляет главный деконструктивистский интерес по текстуальной реконструкции отсутствующего Другого3.
Эту функцию аллегории М. Фуко передает пространному и изменчивому дискурсу, который на текстуальной поверхности может предаваться забвению, но преобразовываться по возвращении:
Чтобы было возвращение, нужно, на самом деле, чтобы сначала было забвение, и забвение — не случайное, не покров непонимания, но сущностное и конститутивное забвение, это возвращение обращается к тому, что присутствует в тексте, или, точнее говоря, тут происходит возвращение к.
1 Man P. de Allegories of Reading. New Haven — London, 1979. P. 54.
2 Man P. de Blindness and Insight. N.Y., 1971. P. 112.
3 Man P. de Allegories of Reading. New Haven — London, 1979. P. 63. самому тексту — к тексту в буквальном смысле, но в то же время, однако, и к тому, что в тексте маркировано пустотами, отсутствием, пробелом. Отсюда, естественно, следует, что это возвращение, которое составляет часть самого дискурса, беспрестанно его видоизменяет. возвращение есть действенная и необходимая работа по преобразованию самой дискурсивности" 1. Вновь раздаются отзвуки ницшеанского «вечного возвращения», а телесная поверхность текста получает статус независимой от влияний со стороны означаемого дискурсивности. Как и для прочих аналитиков постструктурализма, для Фуко текст — это монистическое пространство «в себе», границы (к примеру, авторские) которого аморфны, а письмо неотделимо от чтения.
Образец такого текстуального становления, мотивированного простым повторением толкователя, подается профессором Йельского университета Дж.Х.Миллером. Любой значительный автор, взявший в руки некогда созданную им книгу, вынужден признать, что написанное — это только клочок, вырванный из бесконечного процесса текстуального самоистолкования. Также и критик, кичащийся своей виртуозностью в наращивании метаязыка является лишь орудием повторяющегося самопорождения вымысла (fiction). Критик, в сущности, не отличим от автора в своем главном достоинстве повторения предыдущего текста. У текста нет начала и конца и в силах читателя лишь насладиться мгновением семиозиса («Linguistic Moment»), которое уже в следующий момент ускользает из-под его присутствия. Деконструкция — это нахождение произведения в очаге спора, борьбы, слияния авторских и читательских значений, вместе составляющих неизбывную поверхность текстуального самовоспроизводства. Причём, повторение здесь — не просто тождественное калькирование, а подражающее различие, расточающее все новое изобилие красок художественного вымысла2.
Таким образом, генеалогия деконструктивного текста берёт своё начало в ницшеанском становлении тела и подсознательных искажениях явлений на «Первичной сцене» эдиповых переживаний, а завершение — на текстуальной поверхности смыслопорождения, уравнивающей письмо и чтение, изобретающей возможности изменения своих знаковых игр и представляющее для нас автаркичное пространство текстуальной онтологии случая, прерывности, «присутствия-отсутствия» и т. д.
1 Фуко М. Что такое автор? / Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 36−37.
2 Miller J.-H. Linguistic Moment. Princeton, 1985. P. 121.
Сравнение психологического и структурного анализа текста уводит нас от дальнейшего рассмотрения взаимоизобличающих аргументов генетического и негенетического структурализма и ставит перед необходимостью сравнения романтической репрезентации, точнее, её ревизионистского варианта дотекстуальной репрезентации Х. Блума, и самопреодолеваемой изнутри формы деконструктивистского письма. Уточнения здесь требует возникающее противоречие интертекстуальных перемычек прошлого и будущего. Критика американскими деконструктивистами «Йельской школы» блумовской теории интертекстуальных влияний позволяет обосновать новое темпоральное членение текста -«посттекстуальность». «Посттекстуальность» предполагает безусловное разделение предшествующего письма и чтения таким образом, что читаемый текст полностью деструктурируется, обращается в Ничто, но ни как самоцель, а как предварительное условие поиска осмысленного, как возможность будущего нечто. Иначе говоря, «посттекстуальность» — это открытие различающего противовеса смыслу наличного текста.
Обзор антидеконструктивистской критики можно начать с изучения структуры романтического созерцания. Неистовый призыв возвращения к Природе присутствует почти у всех писателей-романтиков, но особенно в американской литературе эта вселенная духа возвышается до онтологической ступени Начала и чистой созерцательности. Любой поэт и тем более читатель черпает отсюда вдохновение, обретает утраченный смысл и признание. Доверительные отношения Природы и поэта снискали особое почитание американсткого романтика Г. Д. Торо: «Где та литература, которая отражает Природу? Поэт, как правило, тот, кто может поставить себе на службу ветры и реки и заставить их говорить за него. чьи слова столь правдивы, новы и естественны, что они, кажется, распускаются, подобно почкам весной, хотя и лежат полузадушенными между страницами пахнущей плесенью книги, да что там расцветают, они ежегодно дают плоды, которые может вкушать любящий книги читатель, — в полном согласии с законами окружающей природьГ1. Topo передаётся благоговение перед первородным природным совершенством, воспетым в первых мифологиях, и заглушаемым современным удаляющимся от естества воображением: «Насколько богаче была природа, из которой выросла греческая мифология, чем та, из.
1 Topo Г. Д. Прогулки // «Сделать прекрасным день» М., 1990. С. 271. которой вышла английская литература" 1. Причина этого ещё и в том, что Природа ослепляет и обольщает, но ничуть не возвеличивает индивидуальность поэтаона возвращает к себе, обезличивая безмерностью собственного совершенства и гармонией всех, кто её представляет. Эмерсон весьма чуток в определении этих отличительных признаков созерцательной одержимости: «Всё, чему я научился, — это умение воспринимать: я существую и я владею, но не приобретаю, когда я внушал себе иллюзию, будто нечто приобрел, оказывалось, что я не приобрел ничего» 2. У Новалиса, представителя немецкого романтизма, вопрос о природном одухотворении приобретает более отчетливую контрастность внутреннего и внешнего, что однако же не оставляет сомнений в одноимённости их истока:
Природа хочет сама ощутить свое великое мастерство и поэтому она претворилась в людей и, таким образом, созерцает в них свое величие, отделяет от предметов их приятность и обаяние и создает и то и другое отдельно. Поэзия же, напротив того, не создает ничего внешне осязательного. Зрение и слух не воспринимают поэзию, ибо слышать слова не значит еще испытывать чары этого таинственного искусства. Оно все сосредоточено внутри. Подобно тому, как в других искусствах художники доставляют приятные ощущения внешним чувствам, поэт наполняет новыми, дивными и приятными мыслями святыню души. Он умеет пробуждать в нас по желанию тайные силы и открывает нам через посредство слов неведомый обаятельный мир" 3.
Романтик исповедует одну-единственную веру, что лишь его трепетное соощущение с Природой обогатит животворящий родник вечных истин. Тайна романтической репрезентации в полнейшей идентификации почитателя действительности с восторженным совершенством самой Природы. Подмена романтической неделимости внутреннего и внешнего, индивидуального и природного, деконструктивистской поляризацией на письме форм внутреннего и внешнего исключена. Романтическая референция природной сущности не предусматривается в деконструктивистском монопространстве письма, т. е. для романтизма созерцание Природы равноценно Логосу, а для деконструктивизма.
1 Там же. С. 271.
2 Эмерсон Р. У. Опыт / Эмерсон Р. У. Эссе. Topo Г. Д. Уолден. М., 1986. С. 297.
3 НовалисФ. Генрих фон Офтердинген. Спб, 1922. С. 35.
Логос преодолеваем письмом. Выход во внешнее для романтика сопряжен с обретением внутреннего смысла, что у его оппонента может повлечь только разрушение. К этим выводам склоняет и различное понимание той и другой стороной тропа иронии. Вот пример рассуждения об иронии одного из родоначальников философии романтизма Ф. Шлегеля: «Однако комический гений требует и внешней свободы, без которой он может подняться только до грации, но не до высшей красоты. Он достигнет ее, когда намерение завершит свое дело, — вероятно, в отдаленном будущем и закончит природой, когда закономерность превратиться в свободу. комедия стала бы самым совершенным из всех произведений поэтического искусства или, скорее, место комического заняло бы восторженное и, возникнув однажды, пребывало бы вечно» Здесь читается еще один излюбленный романтический мотив о слиянии внешнего и внутреннего, преобразовании комического тропа иронии в представление о свободной и вечной Природе. Виднейший последователь теории деконструкции П. Де Ман в работе «The Rhetoric of Romanticism» полагает в основу данной аллегории романтизма разрушительную «самоиронию», нарушающую не только абсолют Природы, но и целостность произведения. Развивается мысль о том, что зачастую в комическом вместо идеального символа встречается ироническое «presence-absence», неизменно готовящее новое раздвоение образа2. Сами по себе демонические символы романтизма являются не столько противостоянием субъекта внешним влияниям, сколько становятся аллегорическими шрамами на письме, как следы встречи взаимозаглушаемых значений3. Итак, романтический органицизм со своей созерцательностью всегда угадывается в тексте, но его двуликая вычурность и чувственность никогда не будет испытывать недостатка в дополнительных истолкованиях, тем более таких сокрушительных как деконструктивизм.
В своей психологической теории интертекстуальности Блум, оставаясь последователем романтизма, дает конкретное имя онтологическому истоку поэтического произведения. Мир естества перемещается в поэтическое пространство текста предшественника, а репрезентация из созерцания обращается в критическое чтение последователя. Преодолены все препятствия, разделяющие.
1 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 1. М., 1983. С. 59.
2 Man Р. de. The Rhetoric of Romanticism. N.Y., 1984. P. 103.
3 Ibid. P. 108. поэта и критика, вдохновение и влияние, письмо и чтение. Воображаемый мир поэта — не его индивидуальное творение, а повторенное «присутствие» Другого, подающего из прошлого знаки вечности. Степень поглощения этим «присутствием» определяет границу между поэтом и критиком. Обретению поэтом покровительства предшественника, своего духовного отца и наставника, сопутствует искажающее чтение (misreading) и недонесение (misprison) Поэтического Влияния:
Поэтическое Влияние, когда оно связывает двух сильных поэтов — всегда протекает как перечитывание первого поэта, как творческое исправление, а на самом деле это — всегда неверное истолкование. История плодотворного поэтического влияния, которое следует считать ведущей традицией западной поэзии со времени Возрождения, — это история страха и самосохраняющей карикатуры, искажения, извращения, преднамеренного ревизионизма, без которого современная поэзия как таковая существовать бы не могла" 1. Блум прослеживает шесть пропорций ревизионистского чтения, начиная от первого небрежного искажения поэтом избранного им текста прошлого и заканчивая совершенным и бессознательным возрождением последнего в пределах нового создаваемого поэтического пространства. Первая пропорция — Клинамен означает первичное и самое враждебное отклонение последователя от предшественникавторая — Тессера — оформляется как антитеза наличного текста прошломутретьяКеносис — сопрягается с общей неуверенностью поэта как в собственных прозрениях, так и в прозрениях предшественникачетвертая — Даймонизация (в неоплатоновском смысле состояния предбожественного посвящения в сущее) -сотворение Контр-Возвышенногопятая — Аскесис — самоочищение через солипсизмшестая — Апофрадес (древнегреческое возвращение мертвых) -признание автором своего ученичества у предшественника2. Если первые пять фаз ревизии свидетельствуют о преобладании читательского искажающего письма, то шестая фаза является непосредственной бессознательной репрезентацией авторского письма из дотекстуальной плоскости. Ступени этого восхождения исчерпывающе отображает также и лурианская диалектика ограничение-замещение-представление. По мнению Блума, любой из позднейших ангоязычных поэтов Браунинг, Теннисон, Йейтс, Стевенс подвержен этим бессознательным.
1 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 31−32.
2 Там же. С. 18−19. превращениям, отсылающим к более ранним поэтам, например, Мильтону, Шелли, Китсу, Эмерсону и др. Внутреннее напряжение, спровоцированное первичным ограничением и поэтической истерией, для письма имеет несомненно деконструкгивный характер, но отыскивается путь преодоления этого психологического и риторического замешательства в ослепительной развязке, завершающей акт драмы Поэтического Влияния самоустранением последователя и до-наличной-текстуальной репрезентацией. Деконструктивное чтение, разрушающее формы письма, выглядит половинчатым в составе выдвинутой Блумом диалектики антитетической критики, уповающей на естественность замещения такой рассогласованности текстуальных структур «присутствием» дотекстуального пространства. Пришедшая из глубины веков лурианская диалектика в лице Блума уличает деконструктивизм в поверхносной беспринципности, кстати, не скрываемой им:
Первые два этапа можно уподобить многочисленным теориям деконструкции, от Ницше и Фрейда до современных толкователей, превращающих чтение в предмет, который Ницше весело назвал «по большому счету rendez-vous личностей» и которое я бы назвал мифическим существом — что явно подразумевается, в частности, Полем де Маномчитателем Сверхчеловеком Uberleser. Этот вымышленный читатель одновременно негативно дополняет «я» и все же значительно превосходит его, уподобляясь столь противоречиво представленному Заратустре. Такой читатель и слеп и пронизан светом, самодеконструирован и все же вполне сознает боль отделения от текста и от природы, и, вне всякого сомнения, он лучше всех подходит для исполнения ревизионистских действий сокращения и разрушения, но едва ли он способен выполнить антитетическое восстановление" 1.
Блум недооценивает «учителя вечного возвращения» Заратустру, ставшего на сторону «жизни» и вещей, так как и сам он твердит о возвращении предшественника, обозревая творческие терзания поэта с противоположного берега дотекстуальности. Ницшеанские решения оказываются очень близки Блуму:
1 Bloom H. The Map of Misreading. N.Y., 1975. P. 12.
Смотри, мы знаем, чему ты учишь: что все вещи вечно возвращаются и мы сами вместе с ними и что мы уже существовали бесконечное число раз и все вещи вместе с нами.
Ты учишь, что существует великий год становления, чудовищно великий год: он должен, подобно песочным часам, вечно сызнова поворачиваться, чтобы течь сызнова и опять становиться пустым" 1. Это можно назвать извлечением корня блумовской интертекстуальной онтологии, становление которой сдерживается немногочисленностью сильных достойных друг друга поэтов и фактуализмом «ложного прочтения». Иное дело современный структурный анализ «Йельской школы», возносящий риторическую актуализацию на письме самопреодолеваемого тропа иронии, которому Блум противопоставляет металепсис — аллюзивную фигуру фигур:" Через голову других тропов металепсис становится представлением, вопреки времени приносящим настоящее в жертву идеализированному прошлому или будущему надежд. Фигура фигуры отказывается стать редукцией или ограничением, становясь вместо этого представлением." 2 Значимость металепсиса подтверждается существованием всей романтической традиции, «начиная с эпохи Возрождения и вплоть до настоящего времени, включая эпоху романтизма, он был главным модусом поэтической аллюзии и фигурой, без которой стихотворение невозможно было бы закончить. Преобладание переиначивающей аллюзии — это единственно важный фактор воспитания сознательно риторического тона в романтической и пост-романтической поэзии» 3. В истории философии и поэзии совершился необычный круг превращений: из суждений метафизической репрезентации романтизма родился деконструктивизм со своей архитектоникой смысла, а из критики деконструктивизма явился психологический фактуализм Блума, сумевший вобрать в себя как законченную репрезентацию логоцентризма, так и extensum текста со своими случайностями misreading, различающими письмо и чтение. Экспериментированию такого рода до блумовского металепсиса предавался американский литературовед Энгус Флетчер, сумевший сузить невыразимость символа в романтическом идеализме до простой аллегории, имеющей форму какого.
1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1997. С. 200.
2 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Е., 1998. С. 221.
3 Там же. С. 220. угодно несловесного выражения («Аллегория: Теория символического модуса»)1. Антидеконструктивизм как направление мысли обрёл совершенно конкретную программу и незаурядных основателей, стал исторически оправданным завершением диалектической триады: метафизический тезис романтизмадеконструктивистский антитезис = дотекстуальная репрезентация Х. Блума 2.
Способен ли склонившийся над текстом читатель основать собственное посттекстуальное пространство? Что за новая глубина может таиться за пределами наличного письма? Дж. Хартман, остерегающийся омертвляющей законченности форм, сумел почувствовать авторское беспокойство перед этой незримой перспективой, внушающей ненасытный «страх требования» грядущих творений3. Следует, по-видимому, получить доказательство того, что чтение помимо психологии репрезентативной функции может стать источником возможного самопорождения смысла. Оценит ли читатель свое нахождение за гранью наличного повествования и предназначение созидателя? Последние исследования в области риторики казалось бы хотят помочь ему в этом, усматривая за буквенным облачением текста все новые и новые зазоры с незаполненным пространством смысла. Совлечением этих покровов с риторических тропов занимается Ж. Женетт в работе «Фигуры» :
Таким образом, фигура есть не что иное, как чувство фигуры, и её существование полностью зависит от того, осознает читатель или нет двойственность предложенной ему речи. значение фигуры не заключено в составляющих ее словах, но зависит от расстояния между этими словами и теми, которые читатель мысленно различает за ними «в процессе постоянного преодоления того, что написано» 4. Под «двойственностью речи' Женетт понимает завораживающую безмерность фигур, чье пространство колеблется между «тем, что поэт написал и тем, о чем.
1 Э. Флетчер уравнивает аллегорию и символ романтической поэзии, оспаривая определение, данное И.-В.Гёте: «Аллегория превращает явление в понятие, понятие в образ, но так, что понятие всё ещё содержится в образе в определённой и полной фюрме и с помощью этого образа может быть выражено.
Символика превращает явление в идею, идею в образ, и притом так, что идея всегда остаётся в образе бесконечно действенной и недостижимой. Даже выраженная на всех языках, она остаётся всё-таки невыразимой" (Гёте И.-В. Избранные философские произведения. М., 1964. С.352).
2 Bloom Н. Deconstruction and Criticism. L., 1979. P. 43.
3 Hartman J. The Fate of Reading. Chicago, 1975. P. 120.
4 Женетт Ж. Фигуры. T.2. M., 1998. С. 213. он думал", а также между «линией означаемого» и «линией означающего» В посттекстуальности критика уместно также говорить о бесконечном множестве ступеней истолкования интерпретантой читаемого. Пресловутый смысл оказывается не менее разнороден, оформляясь то как облик «присутствия», то — «отсутствия». Достаточно читателю выйти из этой преднамеренной авторской игры, как он тут же ощутит собственную обделённость и обманутость заданностью какого-либо означения. Деррида достаточно строг в подобном непризнании суверенного читательского права на осмысление письма. Авторская субъективность и трансцендентальное означаемое также периодически исключаются им из процесса смыслообразования как издержки иллюзорной метафизики логоцентризма. За чередование «присутствия» и «отсутствия» становятся ответственны только выведенные на письме отпечатки, следы Логоса в виде кратковременных структурных отношений между знаками: «Si tout commence par la trace, il n’y a surtout pas de trace originairen2. Differance, диктуемое бессвязностью онтологических копий, вследствие взаимоконституирования Логоса-Голоса (Logos-Le Voix) и телесности письма, а также „разнозакония“ знаков, оказывается не столько привилегией читателя-человека, сколько самого текста. По-видимому, весь этот „грамматологический“ коллаж был восполняющей аллюзией (говоря словами Х. Блума) на благоговение Хайдеггера перед ускользающей истиной Логоса: само слово — даритель присутствования, т. е. бытия, в котором нечто является как существующее, однако, слово, имеющее такую власть, отсутствует. Клад поэтому ускользает. Но при этом он вовсе не рассыпается в ничто. Он остается драгоценностью, которую поэт уж, наверное, никогда не сможет хранить в своей стране» 3. Иначе говоря, слово может и не воссиять размеренностью Dasein, но даже в этом случае его отсутствия в тексте оно остается значащим. Такому безоглядному доверию слову Сартр, к примеру, противопоставляет сильного читателя, превосходящего структуру или бытие слова, прежде чем им будет сказано новое слово. Тишина Начала или самоконституируемое письмо редуцируется к безосновности Ничто, а взамен предлагается опыт трансгрессии, устремленный вовне языка поток самопреодолеваемых феноменов:
1 Там же. С. 206.
2 «Если всё начинается со следа, то первоначального следа вообще не существует» (Derrida J. De la grammatologie. Paris, 1967. P. 90.).
3 Хайдеггер WL Слово / Хайдеггер M. Время и бытие. M., 1993. С. 306.
Но если трансцендентность объекта есть неизменная нужда самопревосхождения, то из этого следует, что объект, в принципе, составляет бесконечный ряд явлений самого себя. Таким образом, конечное явление указывает на собственную конечность, но одновременно оно нуждается в том, чтобы его рассматривали как явление-того-что-является, в непрестанном преодолении" 1.
Понимающее «присутствие-с-собой» заслоняется от объективности и ее первичной интенцией, знаковой фиксацией, огромным множеством переродившихся явлений. Трансцендентное «по ту сторону» активизирует читательское воображение в стремлении к последующему феномену. Тот же принцип сохраняется и в читательском отношении к тексту. Ближайшим следствием читательского самоуглубления является оформление всегда новой посттекстуальности, которая не эксплицирует отношение критики к читаемому, а конституирует всегда новый текст в его несовершенной или негирующей копии. Речь не идет об опосредующей роли читательско-авторской интерпретанты, как это отражено в схематической конструкции Г. Фреге Т-И-Т', или нелинеарной отсылки читателя к другому тексту, как поясняет французский семиолог М. Риффатерр2, но об онтологии возможных текстуальных условий, предваряющих или разрывающих эти текстуальные структуры.
Встреча структурного и психологического анализа повествования заявляет о важности такого приёма как повторение. Если здесь его внутрии интертекстуальная функция уже определена с достаточной полнотой, то его вне-или межтекстуальные возможности, формирующиеся на стадии читательских феноменов, требуют дополнительного подтверждения. Межтекстуальное пространство — это психологизирующее пространство читателя-аналитика, которое мыслит через неточную репродукцию и самопреодоление феноменов. Текст, рассматриваемый структурно, не в состоянии контролировать этот непрерывный процесс, останавливаясь лишь на каком-то его фрагменте в пространственно-временном оформлении описываемого события. Об альтернативе другого, скрепленного только случаем текста, заявляет Х. Л. Борхес: «Ни одно решение не является окончательным, все они разветвляются, порождая другие. Невежды предположат, что бесконечные жеребьевки требуют бесконечного временина.
1 Sartre J.- P. L’etre et le neant. P., 1968. P. 11.
2 Riffaterre M. La production du texte. Paris, 1979. P. 86. самом деле достаточно того, чтобы поддавалось бесконечному делению. Стоит герою любого романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные, в неразрешимом романе Цюй Пэна он выбирает все разом. Тем самым он творит различные будущие времена, которые, в свою очередь, множатся и ветвятся" 1. Ситуация кажется нереальной для героя романа, но она предсказуема воображением слепого читателя. Все вымышленные существа, рожденные не реальностью и не авторским повествованием, располагаются на пространственной сцене посттекстуалычости. То, что для читателя-поэта Х. Блума было предметом репрезентации и возвращением к истокам, здесь превращается в обольщение случаем и нескончаемостью развязки. Блум, проникаясь идеей тождества, ограничивает возможности ревизионистского повторения. Каббалистистический замысел появления поэта через свой Апокалипсис навсегда оставляет читателя в прошлом, отвращая от приумножения посттекстуальности. Законченный сценарий текстуального фактуализма одновременно предопределяет и сдерживает повторение в пределах определенного поэтического действия. Все разнообразие повторения текстуального события может быть нанесено на карту и превращено в теорию. Читатель становится вестником магического оживления текста предшественника, изгоняясь из собственной жизни некой приравнивающей и назначающей силой. Демонический «Апофрадес» возглавляет процессию актеров, доверивших ему судьбу своих творенийон способен найти в факте прошлого разгадку любого парадокса исполняемой ими роли. За минутной слабостью страха и неуверенности гарантировано испепеляющее вдохновение Другого. Читатель безволен и растерян, испытывая эту странную приверженность навязанному призванию, подсказанного реинкарнацией авторства чужого текста. Его чувства омрачают другие страхи, другие миры, другие судьбы, другие стихии, он — геодезист, странствующий по картам чужих и незнакомых ландшафтов. Мириться с собственной кротостью по отношению к представлению другого текста — означает признание утраты мира как самопреодолеваемого феномена. Испытывается иллюзия своего переживания при всматривании в любое явление как знак предстоящего. На практике читатель, прячащий свой взор в книге, перестаёт повторять ее смысл, становясь рабом содержания и непроверенных заблуждений. Этот порок не смог ускользнуть от проницательности Ницше: «Второе.
1 Борхес Х. Л. Проза разных лет. М., 1984. С. 75, 91. благоразумие и самозащита состоит в том, чтобы свести до возможного минимума реагирование и отстранять от себя положения и условия, где человек обречён как бы стремиться от своей «свободы» и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который в сущности лишь «переворачивает» горы книг — средний филолог до 200 в деньсовершенно теряет в конце концов способность самостоятельно мыслить. Если он не переворачивает, он не мыслит. Он отвечает на раздражение (на прочтенную мысль), когда он мыслит, — он в конце концов только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного — сам он не думает больше. Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть decadentФрагмент максимального сжатия первичных образов высвобождает в сознании читателя громадный выброс энергии, требуя нового письма и других слушателей. Мысль неумолимо разрастается в этом межтекстуальном промежутке, не будучи зависимой от наличных текстов. Повторенное читательское явление — это уже другое явление о явлении, опередившее и исчерпавшее первое. Скоропалительно запечатленный образ всегда имеет преимущество перспективы: смысл, конституированный на гладкой линеарной поверхности текста, вскоре оказывается разбросан по жёванному и обрывистому рельефу посттекстуальности. В этом разоблачительном эпицентре мимесис может вызвать самый неожиданный артефакт, не схожий ни с призрачной и неопределенной репрезентацией, ни с феноменологической редукцией к трансцендентальному. Мысленный отрезок, проложенный в прошлое или будущее, безоглядно увлекает читателя от тлеющего письма в некую глубину активного преодоления критиком текста. В становлении явлений даже после преображения читателя в автора, по мнению Борхеса, «каждый писатель создает своих собственных предшественников» 2. В этом сингулятивном и замкнутом построении нет места тождествам картезианского субъекта, кантовского дуализма, гуссерлевского феноменологического трансцендентализма или экзистенциалистского предстояния и ангажированности. Оторваться от поверхности письма, отклониться от кривых, прочерченных «жизнью», выйти за пределы текстуальной объективности, освободиться от прессинга формы — вот главный лейтмотив повторения в послетекстуальной мысли. В ступенчатой.
1 Ницше Ф. Ессе Homo / Ницше Ф. Сочинения. Минск, 1997. С. 405−406.
2 Borges Н. L Labyrinths. Harmonsworth, 1970. P. 236. эволюции сингулярных текстов незрячий читатель исполняет роль вертикального перехода между ними. Таким образом, повторение является еще одним диагностом читательских пространств на дотекстуальной и посттекстуальной плоскости.
Антидеконструктивистская проблематика, развившаяся из диалектического синтеза метафизической репрезентации и деконструктивизма, открывается новыми возможностями антитетической критики не только в замкнутом пространстве природы или дотекстуальности традиции, но и в особом негативном измерении посттекстуальности. Столкновение этих читательских позиций рисует картину осмысления действительности ближайших веков эпохи модернизма и постПросвещения. Мир вещей и мир текста знакомит со всё новыми глубинами знаний так, что современную интеллектуальную среду, пресыщенную ими, начинает больше заботить знание о знании, текст о тексте. Текст в чистом виде, о котором до сих пор мечтают формалисты и ортодоксальные структуралисты, не существует, так как он не может быть первичнее читательского самопреодоления. От подобных ревизий рационализма предостерегал еще Ницше: «Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью — и ты узнаешь, что кровь есть дух. Не легко понять чужую кровь: я ненавижу читающих бездельников. Кто знает читателя, тот ничего не делает для читателя. Еще одно столетие читателей — и дух сам будет смердеть» 1. Только такой агрессией против себя самого и можно сохранить мысль в набегающих волнах бескрайнего текстуального пространства, хотя и без особого упования на судьбоносное на-следие «жизни». Смысл возникает не из мимесиса, потревоженного трансценденцией или внешней референцией текста, но из самоценности неутомимого читательского погружения в текст. Поистине ошеломляет присутствие бесконечности, где один феномен чтения перестает угадываться за другим и сиюминутность существования в настоящем одаривает только предпоследним значением симулякра. Текст уподобляется материи, вымещающей читателя в его посттекстуальное одиночество и безосновность, которые активизируют знание о тексте в текст о тексте. Так первичный текст обращается в Ничто, становясь возможностью Другого текста. Ничейная территория читательской трансгрессии предваряет любой авторский текст и превращает во фрагмент собственной бесконечности. Несложно догадаться о яростных возражениях блумовского психологизма в ответ на эту.
1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1997. С. 33. теорию, в которых помимо защиты дотекстуального фактуализма имеется ревизия тождеств (не природа-текст, а текст-текст) романтической репрезентации.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II.
Повествовательный психоанализ Х. Блума является неотъемлемой частью его теории интертекстуальности, при разборе которой мы сделали следующие умозаключения:
1. Психоанализ был основной, но не единственной стратегией чтения повествования Х.Блумом. Фрейдовский инструментарий психологической диагностики, используемый американским критиком, позволял ему на уровне бессознательного и невротических фантазий сохранить основные принципы художественного рассказа: имперсональность и вымысел. В этом случае интертекстуальность становится повествованием, где автор неотделим от аналитики своего критика, как рассказ пациента выглядит патологией без вмешательства пояснений психолога.
2. В блумовской теории ревизионистских влияний смешиваются взаимоисключающие элементы психологического и структурного анализа текста. Особую резкость этой несоизмеримости придает тема состязания бессознательной интертекстуальной репрезентации Х. Блума, явившейся виртуальной субституцией романтической репрезентации природы, и постструктуралистской дифференциации форм текста, наследующей деонтологизацию ницшеанского становления. Но из-за того, что автор и критик, писатель и читатель, пациент и психоаналитик связываются только текстом, играющим знаковыми означаемыми, все они оказываются незрячим орудием психологических и структурных стратегий чтения. Бессознательные замещения детских переживаний рассказчика как и риторическая парадоксальность в работах Блума оказываются в равной мере причастны к отысканию истины.
3. Среди выделенных нами темпоральных уровней текстуальной линеарности репрезентация традиции Блума располагается в плоскости дотекстуальности. Дотекстуальность основывается на репрезентации текста традиции в «ложном прочтении» последователем текста предшественника, т. е. это своеобразное пространство сцены воскрешения прошлого (Апофрадес) или возвращения к ушедшей текстуальной линеарности. В отличие от наличных формальных тождества текстуальности или перспективной неисчерпаемости фигуральных значений посттекстуальности, дотекстуальное представление текста возвращает событию художественного повествования тематическую историчность. Это даёт возможность определить имя скриптора текста и через психологию проникнуть в мир его бессознательного. При анализе англоязычной поэзии Блум видит свою задачу критика в определении персоналий предшественника и последователя на фактуре психологических защит и риторических замещений.
4. В блумовской интертекстуальности используются и сворачиваются на благо единой концепции американская философия прагматизма, романтическая репрезентация природы и отвергаемый ею структурный деконструкгивизм. Дотекстуальная репрезентация традиции даже в этом отстаивает своё ревизионистское амплуа. На аналогию с прагматизмом наводит, например, факт текстуальной предсказуемости и исчерпаемости опыта чтения последователем своего предшественника. Блум даже провозглашает особую американскую онтологию «рецентрированного» Логоса, вырастающую из опыта чтения его посредников. Критика в его теории Поэтического Влияния не смущает противоречивость соседства этих воззрений с используемыми им идеалистическими представлениями великих романтиков, Эмерсона, Topo, Кольриджа и др. Вцелом этот сценарий обучающей репрезентации, искусно сплетённый из несметного числа цитат, кажется хрупким и уязвимым, так как за утверждением автора-предшественника от нас постоянно ускользает в Апокалипсис имя анализирующего его повествование последователя. Подобное субъект-объектное примирение компенсируется лишь гордостью читателя за свое возрождение у потомков, так как бытие читателя или критика помещается в дотекстуальной линеарности прошлого. Можно предположить, что антитетическая критика Блума, устраняя деконструктивную «грамматологию», была существенно заражена влиянием её текстуальным фактуализмом, что сделало Логос зримым только в скрытых бессознательных значениях предшествующего текста. В этом рассуждении Блума о ревизионистской риторике постоянно напоминается о поглощении читателя и автора предшествующим текстом, т. е. повторяется столь популярный у деконструктивистов античный перевод grammatike как единство письма и чтения.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III.
При выявлении экзистенциального аспекта повествования в концепциях литературной критики Дж. Хартмана и Дж.Х.Миллера нами сделаны следующие выводы:
1. Критическая интертекстуальность преобразует любой художественный или спекулятивный текст, обоснованный миметической референциальностью, в повествование. Повествовательный вымысел, как указывалось ранее, характеризуется своей перформативной прагматикой, т. е. не миметической копией репрезентируемой реальности, а изменчивым повторением, презентацией, реальности. Нарратив опережает собственные референты и в этом его онтологическая уникальность. Экзистенция повествования состоит в укоренённости бытия в текстуальном сущем, т. е. в самопрезентации текста, влекущей за собой его становление. Данное утверждение разделяет большинство французских и американских постструктуралистов (Р.Барт, Ж. Деррида, П. де Ман, Ю. Кристева и др.).
2. Новация Дж. Хартмана и Дж.Х.Миллера в осмыслении вопроса о текстуальной экзистенции заключается в выдвижении на передний план повествовательной темпоральности, сталкивающей в своей игре временных модусов настоящего и грядущего Бытие и Ничто текста. Возможно, что подчёркивание этого экзистенциального аспекта повествования было продиктовано необходимостью для американских деконструктивистов опровергнуть догматику «новой критики», стягивающих повествовательный дискурс вневременным постоянством формы. Американские формалисты даже не ставили вопроса о темпоральном измерении повествования, так как форма не нуждается в развитии и навсегда отпечатывается неизменным событием в окостеневшей структуре истории. Отлаженная машина знаковой системы только штампует новые модели для текста, будучи за пределами текста. Такое трансцендентальное означаемое в виде абсолютной знаковой системы априорно созидает и ограничивает текст. Переосмысление или интерпретация текста, загнанного в строгую оболочку таких субстанциональных моделей, невозможно. Текст остаётся застывшим памятником общемировых понятий Разума, Логоса, Начала, Автора и т. д.
Экспликация бытия-настоящего свершается от имени говорящего и тем самым конституирующего себя субъекта повествования, лишая текст его прошлого и будущего. В атмосфере господства таких спекулятивных воззрений понятно желание деконструктивистов начать реформирование «новой критики», учитывая новое пространственно-временное состояние внутреннего становления текста. Конечно, в этой текстуальной среде исключаются все внешние влияния субъективной фонологии, априорной формы и реального референта. Внутри текста обнаруживаются совершенно новые отношения знаковой референции, когда, сохраняя собственные значения, знак отсылает к другому знаку. Их этих нестройных гетерогенных структур, провоцирующих в текстуальном сущем одновременность своего «присутствия» и «отсутствия», и плетётся ткань бесконечного текста.
3. Посттекстуальность как онтологическая возможность грядущего текста и открытой знаковой структуры даёт право критику непрерывно расширять границы текста, избавляя его от принадлежности бытию-настоящему и абсолютной форме. Это также влечёт за собой и многозначность трансцендентальных понятий, которые после деструктивной работы критики оказываются подвержены всевозможным онтологическим различиям. В созидании через разрушение просматривается изнанка посттекстуальности, отыскивающей скрытую сущность слова сквозь оптику нигилистической дистанции. Меру этой несомненно экзистенциальной дистанцированное&tradeпо отношению к изначальному тексту автора (но не тексту вообще) определяет фигура письма и прагматика повествования. Критик, оказавшийся в центре этих смещений означения, становится выразителем неизбывной потребности текста к самоистолкованию, т. е. называнию скрытого, непредсказуемого и парадоксального. Критическое письмо даёт дискурсивное и недискурсивное (например, у Миллера это могут быть иллюстрации или топографические карты) объяснение этих с точки зрения самотождественного понятия аномалий прагматики или вымышленного времени повествования. Чувственная рефлексия, эмпирический объект или Абсолют, определявшие смысловое ядро повествования в качестве сущности мира, обращаются текстом в эпифеномены чего-то таинственного и необъяснённого. То, что американские деконструктивисты называют иллюзиями или мистификациями бытия-настоящего, внутри интертекстуальных структур получает вторичное обоснование, равносильное онтологическому различению. Задача критика: проследить момент выпадения «настоящего» из повествования и определить темп восполнения последнего. Дальше посттекстуальность сама помечает изменяющуюся прагматику и возможное знаковое значение рассказанной на письме истории мира и человека. Другими словами, в объективе критика сцена повествования в вымышленном времени будущего отделяется от реальности настоящего нигилистическим отрицанием последнего. Единственным воплощением существования текстуального сущего остаётся дискретная игра означения, размечающая границы бытия и небытия, природы и культуры, человека и не-человека, Я и Другого.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
В заключительных строках диссертации подведём итог методологической, композиционной и теоретической структуры работы. Главным объектом исследования был анализ философских аспектов повествования в концепциях литературной критики «Йельской школы» с методологической опорой на философский инструментарий постструктурализма. Однако в процессе письма основные черты постструктурализма (из классификации М. Сарупа следует, что к ним относятся интертекстуальность и критика истинности, сознания, референта1) применительно к концепциям «Йельской школы» трансформировались нами в критику научности, критику онтологической формы, критику авторского сознания, критику знаковой референции и посттекстуальность. Все эти пункты с большей или меньшей степенью соответствия применялись нами к освещению в I главефигурального аспекта повествования в работах П. де Мана, во II главепсихоаналитического аспекта повествования в концепциях деконструктивистов и Х. Блума, в III главе — экзистенциального аспекта повествования в критических исследованиях Дж. Хартмана и Дж.Х.Миллера.
Такая многоплановость при разрешении выдвинутой нами проблемы «Философия и повествование» объясняется принципиальным выбором каждым из представителей «Йельской школы» какого-то определённого аспекта повествования. К примеру, для читательской стратегии де Мана характерен риторический разбор повествования, когда из фигуральной многозначности делается вывод о его эстетической самоцельности, включающей в себя его бессубъектность и перформативность. Его критический анализ текстуальных фигур ведёт и к более существенному заключению о разделённое™ бытия слова и мира, а также об онтологическом тождестве бытия и небытия текстуального сущего. Не случаен и выбор другого критика Х. Блума, развившего свою теорию интертекстуальности из онтологии психоаналитического рассказа. Анализируемые им поэтические, философские, религиозные влияния и ревизии текстов обретают самотождественность только на письме читающего последователя традиции, репрезентирующего бессознательные замещения своего предшественника. Несмотря на то, что Блум предложил общую теорию логоцентризма (или скорее его прагматический вариант фактуального лого-рецентризма), деконструкция как вид онтологических различий знака тоже признаётся им, но лишь как этап к подражательной репрезентации критиком предшествующего текста. Примечателен и третий экзистенциальный аспект, раскрываемый Дж. Хартманом и Дж.Х.Миллером. Критикуя догматизм формалистов с их утверждением бытия-настоящего текста, смоделированного абсолютной формой, они исходят из негативной укоренённости бытия в текстуальном сущем. По убеждению Дж. Хартмана и Дж.Х.Миллера, метафизическое взаимоисключение Бытия и Ничто текста сменяется их взаимодополнительностью в игре временных модусов настоящего и будущего, а также в пространстве складчатого ландшафта текста. Причиной этого экзистенциального «провала» настоящего является имперсональность и перформативная прагматика повествования. Внутри выдвинутой нами оппозиции «означение и существование» подобная постструктуралистская онтология текста напрямую зависит от различающих смещений знаковых значений. Впрочем, эта критика абсолютной формы и негенетической структуры текста, вытекающая из отношения значения и смысла, знака и бытия применима также к фигуральному и психоаналитическому аспектам повествования.
Важнейшим итогом нашего исследования было создание онтологической структуры текстуальной темпоральное&trade-. Упоминание о структуре не означает поиска общего основания, так как о заведомой безнадежности этого предприятия писал еще исследователь американского деконструктивизма профессор Уэльского университета К. Норрис: «Деконструкция. теория, сопротивляющаяся общему описанию» 2. Необходимо только отобразить как перед нами выстраиваются две типично американские традиции романтического идеализма, породившего на новом витке структуралистского моделирования формализм «новой критики», и прагматичного деконструктивизма, сметающего все дисциплинарные границы и каноны чтения. Таким образом получается, что романтическая репрезентация реальности или Природы в произведениях Эмерсона, Торо, Вордсворта и др. намечает природную и идеализированную линеарность текста, а три временных и, вместе с тем, онтологических, модуса прошлого, настоящего, будущего в тексте ведут к образованию соответственно дотекстуальности (репрезентация традиции.
1 Surupe М. An Introductory guide to post-structuralism and post-modernism. N.Y., 1988. P. 52.
2 Norris Ch. The deconstructive turn. L., N.Y., 1983. P. 130.
Х.Блума), текстуальности (формализм «новой критики») и посттекстуальности (онтологические различия деконструктивной стратегии П. де Мана, Дж. Хартмана, Дж.Х.Миллера).
Стараясь охватить как можно больше сторон деконструктивистской критики художественного повествования, всегда остаются неизученными какие-то частности. Например, проблема текстуального фаллоцентризма в критических воззрениях феминисток (Г.Спивак, С. Фелперин и др.), вопрос о непростых отношениях деконструкции и политики (Дж.Бренкман, М. Рьян), деконструкции и теологии («Deconstruction and Theology"/ ed. J. Altizer. N.Y., 1982) и т. д. Но на примере избранных нами концепций философско-литературной критики «Йельской школы» нами раскрыта особенная логика американского постструктурализма, отличающая его от своих европейских вариантов: острие своей разоблачающей абсолютные тождества текста критики он направляет не против метафизики вообще, а против отечественного романтического идеализма и формализма, апеллируя при этом не к ницшеанской деонтологизации становления, как это делает Деррида, а к онтологическим различиям экзистенциальной неподвижности слова. Ж. Деррида на правах основателя деконструктивистской стратегии чтения критикует американских критиков за эту практику сохранения традиционного текстуального различия отправителя/получателя, наличного/возможного, настоящего/будущего и интерпретацию повествовательной метафоры с точки зрения экзистенциальной трансгрессии. У американских критиков можно наблюдать раздираемый противоречиями паралич существования слова, потерявшего связь с реальным объектом и субъектом повествования, но имеющего своё избавленное от иллюзий абсолютной формы и вечного настоящего посттекстуальное будущее. Зто отличие американского деконструктивизма подчеркивается и объясняется неизбежной риторической формализацией языка. Критическая деконструкция, подрывающая своими логическими и риторическими различиями основание рационалистической философии логоцентризма, имеет несомненно общекультурное значение в пропаганде новой эры текстуальной вовлечённости анализирующего читателя, преодолевающей не только действительность, но и психологизм смысла. Тщательное самочтение безграничного интертекста навлекает даже на антропологию новые подозрения в несовместимости бытия языка и бытия человека. Не последнюю роль в данном процессе играет сближение философии и повествования, науки и художественного вымысла, трансцендентального понятия и метафоры. Американские критики только указали на этот поиск новой сферы познания истины в повествовательной имперсональносги и перформативной прагматике.
Список литературы
- Автономова Н.С. Деррида и грамматология / Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ас! Магдтет, 2000.
- Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа. М.: Наука, 1977.
- Автономова Н.С. Язык и эпистемология в концепции Деррида // Критический анализ методов исследований в современной западной философии. М.: ИФАН, 1986.
- Американская новелла XX века. М.: Худ. лит., 1976.
- Аристотель Аналитики. Минск: Современное слово, 1998.
- Аристотель Метафизика. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
- Аристотель Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск, 1998.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
- Барт Р. Фрагменты речи влюблённого. М.: Ас! Магдтет, 2000.
- Барт Р. ЪП. М.: Ас! Магдтет, 1997.
- БатайЖ. Смерть поэзии. М., 1999.
- Бахтин М.М. Автор и герой. Спб.: Азбука, 2000.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества М.: Искусство, 1975.
- Бланшо М. От Кафки к Кафке. М.: Логос, 1998.
- Блейк У. Песни Невинности и Опыта. Спб.: Азбука, 2000.
- Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М.: Рипол Классик, 1997.
- БодрийярЖ. Америка. М., 2000.
- БодрийярЖ. Символический обмен и смерть. Спб.: Ювента, Наука, 2000.
- БодрийярЖ. Система вещей. М.: Рудомино, 1999.
- Борхес Х.-Л. Проза разных лет. М.: Радуга, 1984.
- Борхес Х.-Л. Книга вымышленных существ. Спб., Азбука, 1999.
- Браунинг Р. Стихотворения. Л.: Худ. лит., 1981.
- Бубер М. Диалог / Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995.
- Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1998.
- Блюмберг X. Антропологическое приближение к актуальности риторики // Это человек: Антология / Сост., вступ. Ст. П. С. Гуревича. М.: Высш. Шк., 1995.
- Верлен П., Рембо А., Малларме С. Стихотворения, проза. М.: Рипол Классик, 1998.
- Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. М.: Наука, 1940.
- Виндельбанд В. От Канта к Ницше. М.: Канон-пресс, 1998.
- Вэленс А. де Феноменология Гуссерля и феноменология Гегеля // Феномен человека: Антология / Сост., вступ. Ст. П. С. Гуревича. М.: Высш. шк., 1993.
- Гартман Н. Проблема духовного бытия. Исследования к обоснованию истории философии и наук о культуре // Культурология. XX век. М.: Юрист, 1995.
- Гадамер Х.Т. Актуальность прекрасного. М.: Наука, 1991.
- Гадамер Х.Т. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Наука, 1988.
- Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Соч. в 2-х тт., Т.2. М.: Наука, 1977.
- Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т.З. М.: Наука, 1977.
- Гурко Е.Н. Письменность и значение в стратегии деконструкции. М.: ИНИОН, 1992.
- Гурко Е.Н. Тексты деконструкции. Деррида Ж. Differance. Томск: Водолей, 1999.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. Спб.: Наука, Ювента, 1998.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия// Культурология. XX век. М.: Юрист, 1995.
- Гуссерль Э. Собрание сочинений. Феноменология внутреннего сознания времени. Т.1. М.: Гнозис, 1994.
- Гуссерль Э. Начало геометрии/ Введение ЖДеррида. М.: Ас! Магдтет, 1996.
- Де Ман П. Аллегории чтения. Екатеринбург Издательство Уральского университета, 1999.
- Де Ман П. Лирика и современность // Комментарии. 1999, № 17. С. 135−153.
- Декарт Р. Разыскание истины. Спб.: Азбука, 2000.
- Деррида Ж Голос и феномен. Спб.: Алетейя, 1999.
- Деррида Ж О грамматологии. М.: Ас! Магдтет, 2000.
- Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000.
- Деррида Ж Позиции. Киев, 1996.
- Деррида Ж Эссе об имени. Спб.: Алетейя, 1999.
- Делёз Ж. Лотка смысла. М. Фуко ТТгеа1гит рИПоБОр^сит. М.: Раритет, Екатеринбург Деловая книга, 1998.
- Делёз Ж. Пруст и знаки. Спб.: Алетейя, 1999.
- Делёз Ж Различие и повторение. Спб.: Петрополис, 1998.
- Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998.
- Делёз Ж., Гваггтари Ф. Что такое философия? Спб.: Алетейя, 1999.
- Джеймс У. Воля к вере. М.: Республика, 1997.
- Джойс Дж. Соб. соч. в 3-х тт. М.: Знаменитая книга, 1994.
- Дильтей В. Описательная психология. Спб.: Русский книжник, 1996.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Наука, 1975.
- Дьюи Д. Реконструкция в философии. М.: Логос, 2001.
- Жзгс Деррида в Роскве. Дегонструкцмя' путешествия. Ш: Аб Магд’тет, 1993.
- ЖенеттЖ. Фигуры. Работы по поэтике. Т.1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
- ЖенеттЖ. Фигуры. Работы по поэтике. Т.2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
- Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до наших дней. М.: Интрада, 1998.
- Ильин И.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М.: Интрада, 1996.
- Ильин И.П. Теоретичекские итоги эволюции «новой критики» от американского «неогуманизма» до французского структурализма. М., 1979.
- Йейтс У. Б. Видение. М.: Логос, 2000.
- Кант И. Соб. соч. в 6-ти тт. М.: Наука, 1961.
- Кассирер Э. Философия символических форм// Культурология XX в. М.: Юрист, 1995.
- Ките Д. Стихотворения. Л.: Худ. лит., 1986.
- Косиков Г. К. От структурализма к постструктурализму. М., 1999.
- Кулик И. Автоматичекское письмо и графоманское письмо // Логос, 1999, № 2.
- Кольридж. С.Т. Избранные труды. М.: Мысль, 1987.
- Кьеркегор С. Или-или. М.: Прогресс, 1991.
- Кьеркегор С. Повторение. М.: Лабиринт, 1997.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1998.
- Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. Русское феноменологическое общество. М., 1997.
- Лакан Ж. Семинары. К. 1. М.: Логос, 1998.
- Лакан Ж. Семинары. К. 2. М.: Логос, 1999.
- Лакан Ж. Функция и поле языка и речи в психоанализе. М.: Гнозис, 1995.
- Лангер С. Философия в новом ключе. М.: Республика, 2000.
- ЛапланшЖ., ПонталисЖ. Словарь по психоанализу. М.: Высш. шк., 1996.
- Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: ТЕРРА- Книжный клуб- Республика, 1994.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985.
- Леви-Строс К. Сырое и приготовленное. К.1. Спб.: Университетская книга. 2000.
- ЛиотарЖ.-Ф. Состояние постмодерна. Спб.: Алетейя 1998.
- Лосев А.А. Мифология. Культура. Философия. М.: Прогресс, 1990.
- Лосев А.А. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1994.
- Лотман Ю. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
- Мамардашвили М. Лекции о Прусте. Психологическая топология пути. М.: Ad Marginem, 1995.
- Миллер Дж.Х. Критик как хозяин II Комментарии, 1999, № 17. С. 194−225.
- Мильтон Дж. Потерянный рай. М.: Худ. лит., 1982.
- Нанси Ж.-Л. Corpus. М.: Ad Marginem, 1999.
- Новиков Д. Деконструкция мимесиса. Ф. Лаку-Лабарт // Логос, 1999, № 2.
- Ницше Ф. Воля к власти. М.: REFL-book, 1994.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Спб.: Алетейя, 2001.
- Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М.: Мысль, 1990.
- Ницше Ф. Философия в трагичекую эпоху. М.: REFL-book, 1994.
- Паскаль Б. Мысли. Спб.: Азбука, 1999.
- Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2001.
- Пирс Ч.С. Основания прагматизма. 2 тт. М., 2000.
- Плотин. О благе и едином// Логос, 1990, № 3.
- Психоанализ: знаменитые случаи из истории психоанализа. М.: Port-Royal, 1995.
- Подорога В.А. Авто-био-графия. М.: Логос, 2001.
- Подорога В.А. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995.
- Подорога В.А. Мерцание мысли // Логос, 1993, № 1.
- Подорога В.А. Навязчивость взгляда II Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.
- Пруст М. По направлению к Свану. М.: Республика, 1992.
- Райхман Д. Постмодернизм в номиналистской системе координат II Флэш арт, 1990.
- Рикёр П. Время и рассказ. К.1. Спб.: Университетская книга, 2000.
- Рикёр П. Время и рассказ. К.2. Спб.: Университетская книга, 2001.
- Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Медиум, 1995.
- Руссо Ж.Ж. Избранные сочинения в 3-х тт. М.: ГИХП, 1961.
- Руссо Ж.Ж. Трактаты. М.: Худ. лит., 1964.
- Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997.
- Рорти Р. Философия Хайдеггера и прагматизм II Комментарии, 1998, № 14.
- Рыклин М.К. Искусство как препятствие. М., 1997.
- Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. М., 2000.
- Сартр Ж.-П. Герострат. М.: Республика, 1992.
- Сартр Ж.-П. Проблемы метода. М.: Прогресс, 1994.
- Сартр Ж.-П. Ситуации. М.: Рудомино, 1997.
- Сартр Ж.-П. Слова. Спб.: Азбука, 1999.
- Серль Дж. Рациональность и реализм // Путь, М., 1994.
- Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. Екатеринбург, 1999.
- Структурализм «за» и «против». М.: Наука, 1977.
- Тит Лукреций Kapp. О природе вещей. М.: АН СССР, 1946.
- Тодоров Ц. Теории символа. М.: Дом интеллектуальной книги, 1998.
- Topo Г. Д. Прогулки/ «Сделать прекрасным наш день». М., 1990.
- Уитмен У. Листья травы. М.: Худ. лит, 1982.
- Уоррен Р.Г. Вся королевская рать. Стихотворения. М.: Прогресс, 1982.
- Феномен человека: Антология / сост. П. С. Гуревича. М.: Высш. шк., 1993.
- Фрейд 3. Избранное. Ростов-на-Дону, 1998.
- Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Республика, 1992.
- Фрейд 3. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.
- Фуко М. Воля к истине. М.: Магистериум Касталь, 1996.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Спб., 1994.
- Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.
- Хайдеггер М. Бытие и Время. М.: Ad Marginem, 1995.
- Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993.
- Хайдеггер М. Положение об основании. Спб.: Алетейя, 1999.
- Хомский Н. Язык и мышление. Язык и проблема знания. Благовещенск: БГК им. ИАБодуэна де Куртенэ, 1999
- ШлегельФ. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983.
- Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. М.: Мысль, 1997.
- Эйзенштейн С.М. Чёт-нечёт: Развоение единого / Восток Запад, М.: Наука, 1988.
- Эко У. Имя розы. М.: Худ. лит., 1989.
- Эко У. Отсутствующая структура. Спб.: Петрополис, 1998.
- Эмерсон Р.У. Нравственная философия. Минск: Харвест- Москва: ACT., 2000.
- Эмерсон Р.У. Эссе. Topo У. Д. Уолден. М., 1986.
- Юлина Н.С. Очерки по философии в США. М.: Эдиториал-Пресс, 1999.
- Ямпольский М. Память Тиресия. М.: Ad Marginem, 1998.
- American criticism in the poststructuralism age / ed. J. Culler, Michigan: Michigan University Press, 1987.
- Arac J. Yale Critics: Deconstruction in America. Minneapolis, 1983.
- Batler Ch. Interpretation, deconstruction and Ideology. Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Brenkman J. Deconstruction and the social text // Sotial text. Michigan, 1979. Vol2. № 1.
- Brooke-Rose Ch. A Rhetoric of the Unreal: Studies in narrative structure especially the fantastic. Cambrige: Harvard University Press, 1981.
- Blanchot M. L’espace littirature. Paris: Gallimard, 1955.. Bloom H. Shelley’s Mythmaking. New Haven-London: Yale University Press, 1959.
- Bloom H. Agon: Toward a Theory of Revisionism. N.Y.: Oxford University Press, 1982.
- Bloom H. American Religion. N.Y.: Simon and Schuster, 1992.
- Bloom H. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. N.Y.: Oxford University Press, 1975.
- Bloom H. Blake’s Apocalypse. N.Y.: Doubleday, 1963.
- Bloom H. Deconstruction and Criticism. New York-London: Routledge, 1979.
- Bloom H. Kabbalah and Criticism. N.Y.: Oxford University Press, 1975.
- Bloom H. Map of Misreading. N.Y.: Oxford University Press, 1975.
- Bloom H. Poetry and Repression: Revisionism from Blake to Stevens. New Haven-London: Yale University Press, 1976.
- Bloom H. Ruin the Sacred Truth. Cambridge-London: Harvard University Press, 1989.
- Bloom H. Shelley’s Mythmaking. New Haven-London: Yale University Press, 1959.
- Bloom H. Western Canon. New York-San Diego-London: Harcourt Brace, 1994.
- Borges H.L. Labyrinths. Harmondsworth: Penguin Books, 1970.
- Bowie M. Freud, Prust and Lacan: Theory of Fiction. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
- Caputo J. Radical Hermeneutics: Repetition, deconstruction and hermeneutical project. Bloomington, 1989.
- Chase C. Decomposing Figures: Rhetorical Reading in the Romantic Tradition. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.
- Culler J. Ferdinand de Soussure. N.Y.(ltaca): Cornell University Press, 1986.
- Culler J. Framing the Sign: Criticism and its institution. London: Oclahoma University Press, 1988.
- Culler J. On Deconstruction: On Theory and Criticism after Structuralism. London: Routledge & Kegen Paul, 1983.
- Culler J. The Persuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction. London- Henley: Routledge & Kegen Paul, 1981.
- Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistic and Study of Literature. N.Y.(ltaca): Cornell University Press, 1979.
- De Man P. Critical writings 1953−1978 / Theory and history of literature.Vol.17. Minneapolis, 1987.
- De Man P. Aesthetic Ideology I Theory and history of literature. Vol. 60. Minneapolis, 1987.
- De Man P. Allegories of Reading. New Haven: Yale University Press, 1979.
- De Man P. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism/ Theory and history of literature. Vol. 7. N.Y., 1971.
- De Man P. The Resistance to Theory / Theory and history of literature. Vol. 33. Minneapolis, 1986.
- De Man P. The Rhetoric of Romanticism. N.Y.: Columbia University Press, 1984.
- De Man P. Romanticism and Contemporary Criticism. Baltimore-London: Johns Hopkins University Press, 1993.
- Derrida and Deconstruction. Ed. Hugh J. Silverman. N.Y. L.: Routledge, 1989.
- Derrida J. Deconstruction and the Other. Interview with Richard Kearney. Manchester: Manchester University Press, 1984.
- Derrida J. L’ecriture et la differance. Paris: Gallimard, 1967.
- Derrida J. Memoires for Paul de Man. N.Y.: Columbia University Press, 1986.
- Derrida J. Schibboleth / Midrash and Literature / ed. J. Hartman. New Haven-London: Yale University Press, 1986.
- Dews P. Logic of Disintegration. Post-structuralist Thought and the Claims of Critical Theory. N.Y.: Columbia University Press, 1987.
- Fekete J. The Structural Allegory: Reconstructive Encounters with the New French Thought. Minneapolis, 1984.
- Felperin H. Beyond Deconstruction. The Uses and Abysus of Literary Theory. Oxford: Claredon Press, 1985.
- Frye N. Creation and Recreation. Toronto, 1980.
- Hartman J. Andre Malraux. N.Y.: Columbia University Press, 1960.
- Hartman J. Beyond Formalism: Literary essays 1958−1970. New Haven-London: Yale University Press, 1970.
- Hartman J. Bible. The Struggle for the Text 1 Midrash and Literature. New Haven-London: Yale University Press, 1986.
- Hartman J. Criticism and the Wilderness. New Haven- London: Yale University Press, 1980
- Hartman J. The Fate of Reading and Other Essays. Chicago: Chicago University Press, 1975.
- Hartman J. The Interpreter: Self Analysis. New Haven-London: Yale University Press, 1975.
- Hartman J. Saving the Text: Literature, Derrida, Philosophie. Baltimore-London: Johns Hopkins University Press, 1981.
- Hartman J. The Unremarkable Wordsworth / Theory and history of literature. Vol 31. Minneapolis, 1987.
- Hartman J. Wordsworth’s Poetry 1787−1814. New Haven-London: Yale University Press, 1964
- Hassan I. The Dismemberment of Orpheus: Towards of postmodernist literature. Urbana, 1971.
- Hassan I. The Right Prometean Fire: Imagination, science and cultural change. Urbana, 1980.
- Jameson F. Postmodernism and the cultural logic of late capitalism. London: Routledge., 1984.
- Jenny J.L. La strategie de la forme. Poetique, 1976, №.27.
- Johnson B. The Critical Difference. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980.
- Kaplan A. Reproductions of Banality: Fascism, Literature and French Intellectual Life. Minneapolis: Minnesota University Press, 1986.
- Kristeva J. Desire in Language: A Semiotic approach to Literature and Art. N.Y.: Columbia University Press, 1980
- Leitch V. Deconstructive criticism. London: Routledge., 1988.
- Lentricchia F. After the New Criticism. Chicago: Chicago University Press, 1980.
- Lentricchia F. The Guile of Language. Berkeley-Los Angeles, 1968.
- Les chemens actuels de la critique. Paris, 1967.
- Lesson of Paul de Man. New Haven-London: Yale University Press, 1985.
- Lodye D. Working with Structuralism. London: Routledge, 1981.
- Melville S. Philosophy besides Itself: On Deconstruction and Modernism. Minneapolis, 1986.
- Miller J.H. Ariadne’s Thread: Repetition and the Narrative Line. New Haven-London: Yale University Press, 1992.
- Miller J.H., Borowitz D.C. Ch. Dickence and G.Gruikshank. Paper read at a Clark library seminar on May 9. Los Angeles, 1971.
- Miller J.H. The Disappearance of God. Five nineteenth century writers. Cambridge (Massachusetts): Belknap Press of Harvard University, 1963.
- Miller J.H. Fiction and Repetitoin. Cambridge (Mass.), London.: Harvard University Press, 1982.
- Miller J.H. The Form of Victorian fiction: Thackeray, Dickence, Trollope, Eliot, Meredith, Hardy. Notre Dame-London: Notre Dame University Press, 1970.
- Miller J.H. Illustration. Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press., 1992.
- Miller J.H. The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens. Princeton: Princeton University Press, 1985.
- Miller J.H. Reader’s Ethic / Criticism in the Poststructuralist Age / Ed. J. Culler. Michigan: Michigan University Press, 1981.
- Miller J.H. The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens. Princeton: Princeton University Press, 1985.
- Miller J.H. Narrative/ Critical Terms for literary study/ Ed. F. Lentriechia. ChicagoLondon: Chicago University Press, 1995.
- Miller J.H. Publication as a Form of Authorial Authority: Dickens’s Bleak House/ Trajekte, № 1, sep. 2000.
- Miller J.H. Reading Narrative. London, Norman: Routledge, 1998.
- Miller J.H. Topographies. Stanford: Stanford University Press, 1994.
- Norris Ch. Deconstruction: Theory and practice. London and New York: Methuen, 1982.
- Norris Ch. Deconstructivism of Paul de Man. N.Y.: Columbia University Press, 1988.
- Norris Ch. The deconstructive Turn. London: Routledge, 1983.
- Reading de Man Reading. Minneapolis, 1989.
- Riffaterre M. La production du texte. Paris: Seuil, 1979.
- Rorty R. The Linguistic turn. Recent essays in philosophical method. ChicagoLondon: Chicago University Press, 1967.
- Ryan M. Marxism and deconstruction. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.
- Sartre J.-P. L’etre et le neant. Paris: Gallimard, 1968.
- Sarupe M. An Introductory guide to post-structuralism and postmdernism. N.Y.: Columbia University Press, 1988.
- Spivak G. Feminist critic I American criticism in the poststructuralist age. Michigan:
- Michigan University Press, 1987.
- Spivak G. Translator’s Preface / Derrida J. Of Grammatology. Baltimore: Johns
- Hopkins University Press, 1976.
- Stoekl A. De Man and the Dialectic of Being / Diacritic, 1985.
- Thicher A. Words in Reflection: Modern Language Theory and Postmodern Fiction. Chicago: Chicago University Press, 1984^