Взаимодействие христианской этики и архаической традиции в повседневной жизни средневекового общества Западной Европы: На материале представлений о болезни и целительных практик в VI-XIII вв
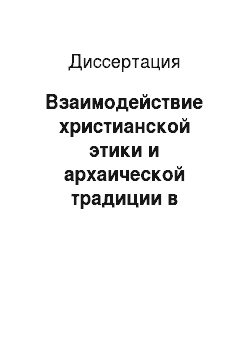
Те культурные процессы, которые мы наблюдаем на арене народной медицины, — бесконечная вариативность обрядовых форм, смешение «старого» и «нового» — свойственны народной культуре раннего и высокого Средневековья в целом. Пока шел процесс интеграции христианства в традиционную культуру местного населения, многие традиционные формы и стереотипы поведения уходили в прошлое или изменялись… Читать ещё >
Содержание
- 0. 1. Обоснование темы исследования и формулировка задач (эпистемологический аспект)
- 0. 2. Проблематика, связанная с болезнью, в историографии
- 0. 2. 1. «Историко-медицинский» аспект темы болезни в разных гуманитарных дисциплинах
- 0. 2. 2. Историография проблемы «народной медицины»
- 0. 2. 3. Тема болезни в исторической науке
- 0. 3. Структура работы и хронологические рамки исследования
- 0. 4. Методы исследования, обоснование понятийного инструментария, рабочие гипотезы
- 0. 4. 1. «Картина мира», ее «категории» и «христианское Средневековье»
- 0. 4. 2. «Мифологическое мышление», «народная культура» и архаическое" в Средние века (обоснование основных понятий)
- 0. 4. 3. «Традиция» как моделирующая социальное поведение система
- 0. 4. 4. Как происходит «диалог культур»? Третья рабочая гипотеза
- 0. 4. 5. Христианская этика как регулятор социального поведения: историографический и источниковедческий аспекты. Окончательная формулировка проблемы исследования
- 0. 5. Источники и методы работы с ними
- 0. 5. 1. Обоснование принципа отбора источников
- 0. 5. 2. Обзор источников и некоторых специфических методов работы с ними
- 1. 1. Этиология болезни в аспекте религии, этики и мифологии
- 1. 2. Мифологические истоки традиционных представлений о болезни
- 1. 2. 1. Некоторые теоретические аспекты проблемы
- 1. 2. 2. Следы мифологем «болезнь как влияние &bdquo-извне»" и «болезнь как утрата жизненной силы» в источниках
- 1. 3. Объяснение болезни колдовством людей: формы проникновения веры в магию в христианскую картину мира
- 1. 3. 1. Субъекты колдовства и вера в магию (историко-историографический аспект)
- 1. 3. 2. Вредоносное колдовство в скандинавских источниках
- 1. 3. 3. К вопросу о вере в «колдовское» происхождение эпидемий
- 1. 3. 4. Вредоносное колдовство (maleficium) в континентальных латинских источниках
- 1. 3. 5. Формы и степень проникновения в церковную литературу и в христианский ритуал веры во вредоносное колдовство
- 1. 4. «Сглаз»
- 1. 5. Вредоносное влияние мифологических существ как этиологическая конструкция и ее генезис под воздействием христианства
- 1. 5. 1. Вмешательство мертвых как причина болезни или внезапной смерти
- 1. 5. 2. Болезни от альвов и других персонажей низшей мифологии
- 1. 5. 2. Кодифицированное поведение в быту: проблема этической мотивации
- 1. 6. Персонификация болезни в архаических этиологиях и в христианской традиции
- 1. 7. Христианское учение о происхождении болезни в церковной литературе и в жизни
- 1. 7. 1. «Теология болезни»
- 1. 7. 2. Проблема формирования внутренней этики
- 1. 7. 3. «Популярная» версия теологии болезни в назидательной литературе
- 1. 7. 4. Одержимость как этиологическая конструкция
- 1. 7. 5. Христианская этиология в зеркале миракул святых и в повседневности
Взаимодействие христианской этики и архаической традиции в повседневной жизни средневекового общества Западной Европы: На материале представлений о болезни и целительных практик в VI-XIII вв (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
0.1. Обоснование темы исследования и формулировка задач (эпистемологический аспект).
Предлагаемая работа являет собой попытку подойти к изучению проблемы христианизации народов Европы, не принадлежавших античной культуре (главным образом германских), исходя из трансдисциплинарной, т. е. выходящей за границы любой из традиционных гуманитарных дисциплин формулировки исследовательской проблемы, и в контексте сравнительного подхода в широкой диахронической ретроспективе. Речь идет об одном из ее наименее изученных аспектов — о раннем этапе истории проникновения норм и категорий христианской этики в традиционно-бытовой уклад обыденной жизни рядовых прихожан в ранее и высокое Средневековье, т. е. в VI—XIII вв.
Обоснование данной темы необходимо, по меньшей мере, в трех аспектахэпистемологическом, историографическом и с точки зрения выбора исторического материала, на котором основывается предлагаемое исследование. В свою очередь, именно специфика выбранного исторического материала, отражающего мир представлений средневекового человека о болезни и, соответственно, связанных с ними практик, которые в процессе их выявления анализируются в контексте проблемы взаимодействия дохристианского традиционного жизненного уклада с христианской этикой и ее учением о грехе, смирении и милосердии, обусловила необходимость формулировки и обоснования исследовательских задач на двух уровнях обобщения. Поэтому первая часть «Введения» к диссертации посвящена тому, чтобы обосновать выбор исторического материала (отражающего «образ болезни» в культуре) и задачи его изучения (с учетом существующей историографии), вторая часть — рабочим гипотезам и основным понятиям, обоснованию путей и методов разработки (также с учетом существующей историографии) центральной проблемы диссертации — взаимодействию христианской этики и архаической традиции как различных моделирующих социальное поведение систем.
На первый взгляд в предлагаемой работе речь идет о том, что значило в Средние века быть больным, как объяснялось происхождение болезней, как их лечили или пытались уберечься от них, как переживали собственную болезнь и как общество относилось к больным. Как такой, казалось бы, историко-медицинский подход, может соотноситься со свойственной в большей мере медиевистике проблемой христианизации и содержания массового религиозного сознания?
Во-первых, саму христианизацию следует понимать не просто как смену религий, замену одного представления о боге на другое, а как комплексный процесс изменения общественного сознания и структуры самой личности под воздействием христианской религиозной этики, приведший к масштабным изменениям во всех сферах организации жизни, к образованию новых социальных институтов, в том числе и в сфере призрения бедных и больных.
Понятно, что поставленная в таком ракурсе проблема христианизации может иметь бесконечное количество аспектов, ведь в соприкосновение пришли не просто две религии — язычество и христианство, а две совершенно разных культуры, два мировидения, два уровня цивилизации, различия которых проявлялись буквально во всем. Вряд ли это соприкосновение стоит изображать как конфронтацию «теорий» или религиозных догм — таковыми дохристианская культура европейских народов, не принадлежавших античной цивилизации, просто не располагала. Скорее, взаимодействие шло на уровне обыденной жизни. Процесс христианизации населения означал каждодневное взаимодействие в самых разных сферах жизненной практики двух разных моделирующих социальное поведение систем представлений и образцов поведения, при посредстве которых истолковывается всякое восприятие действительности и мотивируется всякое действие — архаической традиции и христианской религиозной этики. В этом смысле представляется вполне оправданным взять для анализа один из фрагментов повседневной жизнисферу представлений о болезни и связанных с нею практик. Она будет являть собой своего рода арену, на которой можно наблюдать это практическое взаимодействие новой культурной доминанты — христианской этики — с традиционными образцами поведения и мировосприятия.
Во-вторых, выбор «нетрадиционного» исторического материала и трансдисциплинарная формулировка проблемы эпистемологически вполне соответствуют привлекающей в последние годы все больше сторонников исторической науке о культуре, к которой с известной долей условности можно отнести и такие направления как историческая антропология, «история памяти», история традиций в устной культуре1.
Историческая наука о культуре, обоснование которой на рубеже XX столетия связывается с именами М. Вебера, Г. Зиммеля, Э. Кассирера, примыкавшего к ним М. Блока и др., понимает культуру как общую сумму достижений человечества во всех сферах жизни. «Мы назвали „науками о культуре“ такие дисциплины, — пишет М. Вебер в своей работе „'Объективность' социально-научного и социально-политического познания“ (1904г.), — которые стремятся познать жизненные явления в их культурном значении» .
Болезни — то самое «жизненное явление», часть повседневности, культурное значение которых и влияние на мотивацию человеческих действий до сих пор не нашли должной оценки у историков. Тогда как нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что помимо специального интереса к болезни и немощи, который проявляют к ним те, кто занимается врачеванием, будь то средневековый знахарь или врач из современной, оборудованной по последнему слову техники клиники, в любую историческую эпоху существует образ болезни в повседневной жизни, установки в отношении к болезни.
1 Gotz H.-W. Die Moderne Medievistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt, 1999. S. 330 л.
Weber M. Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre. Tubingen (5. Aufl.), 1982. S.175, 180 f. Здесь цит. по русскому изданию: Вебер M. Избранные произведения. М., 1990. С. 374, 379. являются важным параметром массового сознания. А это уже достаточный аргумент для того, чтобы вывести категорию «болезнь» из сферы «биологии» в сферу «культуры» и «общества» и сделать предметом внимания исторической науки, признавая при этом, что «общество» и «культура» — различные аспекты одних и тех же явлений3. То, что называется обществом, есть часть культуры, а именно, «составная часть нематериальной культуры», тот «аспект культуры, который структурирует постоянно находящиеся в движении отношения человека с окружающим миром». С другой стороны, «общество» не является всего лишь порождением «культуры», оно — «непременное условие» для ее существования4.
Иначе говоря, человек не только «социальное существо», но и существо, которое связывает со своими действиями субъективный смысл, т. е. создает «мир значений». Следовательно, «общество» базируется на «культуре», поскольку «культура» обеспечивает осмысление действительности и делает возможными действия людей. При этом «культура» является «фактом общественным», поскольку производит значения, которые, однако, становятся действенными только благодаря «обществу"5.
Из такого понимания культуры напрямую вытекает выбор предназначенного для анализа исторического материала — образа болезни в культуре и связанной с ним практики. То, что этот образ воздействует на поведение людей, нам лучше всего известно в связи с так называемой «историей ментальностей», в частности, из знаменитой формулировки Жоржа Дюби: «Поведение и действия людей не обусловлены непосредственно действительностью, они обусловлены ее образами, которые составили себе люди и которые управляют их действиями"6.
Tenbruck F. Representative Kultur / Tenbruck F. Perspektiven der Kultursoziologie. Gesammelte Aufsatze. Opladen, 1996. S. 65.
4 Berger P.L. Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischen Theorie. Frankfurt a.M., 1973. S. 7 f.
5 Tenbruck F. Representative Kultur. S. 104−105.
6 Ce n’est pas en fonction de leur condition veritable, mais de I’image qu’ils s’en font., que les hommes reglent leur conduite". Цит.: Duby G. Histoire sociale et ideologie des societes / Faire de l’histoire / J. Le Goff, P. Nora (Ed.). T. l: Nouveaux problemes. P., 1974. P. 148.
Чтобы понять, как функционирует диалог архаической традиции и христианской религиозной этики, следует сначала выяснить, как возникают эти «образы» и «поведение». Поэтому в качестве первой исследовательской задачи обозначим задачу выявления «модели» отношения к болезни, ее объяснения, лечения, переживания в средневековом обществе, считающем себя христианским.
И здесь состояние имеющих отношение к заданной в таком ракурсе теме болезни исследований в разных сферах гуманитарного знания — в истории медицины, этнологии, религиоведении, медиевистике — невольно дает еще один повод взглянуть на эту проблематику с позиций исторической науки о культуре как на фрагмент многоликой и многогранной «всеобъемлющей действительности».
Человек живет не в чисто «физическом» или в чисто «социальном», а, скорее, в «символическом универсуме», составными частями которого можно считать язык, миф, искусство, религию, науку. Они подобны, по выражению Э. Кассирера, многообразным нитям, из которых сплетается сеть символов, ткань человеческого опыта. Вместо «самих вещей» человек, таким образом, постоянно имеет дело «с самим собой». Он живет не просто в мире «твердых фактов», и стремится он также не к «непосредственному удовлетворению своих желаний или потребностей». Он живет, скорее, в сфере предположений, истолкований и эмоций, «в надеждах и страхах, заблуждениях и разочарованиях», в «фантазиях и мечтах». Не сами вещи беспокоят человека, а гораздо больше — «его мнения и представления о вещах». Поэтому в данной работе весь исторический материал концентрируется вокруг темы «представлений» о болезни («образов») и всего того, что с ними связано на практике.
7 Cassirer Е. An Essay on Man (1944). Neudruck 1972. S. 24.
0.2. Проблематика, связанная с болезнью, в историографии.
0.2.1. «Историко-медицинский» аспект темы болезни в разных гуманитарных дисциплинах.
После многолетних штудий литературы по истории медицины Средних веков у меня сложилось следующее, возможно, не самое оригинальное впечатление. История медицины и, шире, того, что мы бы сейчас назвали «здравоохранением», обычно представляется как процесс непрерывного прогрессивного развития, накопления позитивных знаний и опыта. Но период с IV по XI/XII столетия на латинском Западе — время, когда из разных культурных составляющих постепенно складываются основы будущей относительно единой западноевропейской культуры, — в этом процессе как-то сужается и уплотняется, превращаясь в одно мгновение на ленте времени Истории, в одну маленькую точку эдакого «темного Средневековья», словом, практически выпадает из поля зрения исследователей. В любом учебнике медицины в хронологическом порядке за главой о достижениях медицины в Древнем Риме следует глава (а чаще — маленький параграф) о Салернской школе — первой светской медицинской школе в Европе, обретшей известность в конце XI в.(!) и в 1213 г. преобразованной в университет. А что же было до Салернской школы?
Получается, не было ничего? В раннее Средневековье обучение врачебному искусству в соответствии с античной традицией было индивидуальным, знания передавались от врача к ученикам. В Италии в VI—IX вв. существовали мелкие медицинские школы, выросшие из римских школ риторики. Но вдали от средиземноморских медицинских центров, в Западной и Северной Европе, до XIII/XIV вв. профессиональные врачи вообще были редкостью и роскошью, доступной далеко не каждому. В городах основной контингент практикующих медицину составляли объединявшиеся в цехи лекари, цирюльники, банщики, владевшие и основами хирургии. Все это были люди очень низкого ранга и образованности, по статусу к ним приближались и городские врачи, в Германии появившиеся, к примеру, только после XIII в. Монастырские и епископские госпитали были, в свою очередь, скорее богоугодными заведениями по призрению всех категорий нуждающихся, нежели «медицинскими учреждениями», а те, в которых действительно наличествовала «научная» медицина, можно пересчитать по пальцам, и они, разумеется, не удовлетворяли всей потребности населения в медицинской о помощи. Остается задаться вопросом, где и как мог лечиться средневековый человек, если он не был королем или епископом и жил даже не в каком-нибудь «медвежьем углу» тюрингских лесов или Богом забытой горной долине в Исландии, а вообще на так называемых «землях севернее Альп», т. е. на территории, гораздо меньше подвергшейся влиянию античной цивилизации?
Ответ напрашивается сам собой — «народная медицина», т. е. те способы объяснения, лечения и профилактики болезней, которые постоянно имели место в обыденной жизни общества и практиковались не профессиональными медиками, а самыми обычными людьми или «специалистами» из народа — знахарями.
Однако и народная медицина не получила должного освещения в специальной литературе. То обстоятельство, что «древние культурные народы», т. е. население Европы от Средиземноморья до Скандинавии — греки и римляне, германцы и кельты, славяне и балты — имели транслируемую в устной форме народную медицину, ни у кого сомнений не вызывает, но в ее изучении исследователи не преуспели.
Отчасти это связано с недостаточным количеством источников, отчастис разобщенностью гуманитарных дисциплин, обычно обращавшихся к этой проблематике, — истории медицины, этнографии, истории религии. Традиционное «разделение труда» между ними состояло в том, что история медицины всегда была историей науки, историей тщательно продуманных.
8 Арнаутова Ю. Медицина // Словарь средневековой культуры / А. Я. Гуревич и др. (Ред.)., М., 2003. С. 271−276. теоретических концепций и практических приемов, совершенствовавшихся по мере того, как человечество набиралось опыта, и научно-технический прогресс пробивал себе дорогу сквозь мрак невежества «темных веков», а все, что не было «наукой», относилось к сфере профессиональных интересов этнологов или религиоведов. Поэтому историки медицины искали в народной медицине Средних веков «рациональное» — следы античного влияния, заимствования из античных рецептариев и лечебников, а этнографы описывали «местные суеверия». Обе науки сходились во мнении, что средневековая народная медицина, хотя и несла в себе «некую сумму позитивных знаний и эмпирического опыта», по сути своей была «магической и суеверной». Религиоведы, в свою очередь, концентрировали внимание на теологическом учении о происхождении болезни и на «теургической терапии» — целительных процедурах с участием священника и исцелениях святыми, как известно, игравших существенную роль в повседневной жизни средневековой Европы, а также на каритативной деятельности Церкви.
Не оставляет сомнения тот факт, что все три аспекта целительной практики — в высшей степени условно назовем их «этнографический», «религиозный» и «собственно медицинский» — в жизни составляли нерасторжимое единство и не только не были взаимоисключающими, а, напротив, дополняли друг друга и проникались взаимным влиянием. Фигуры знахаря, священника (или святого-целителя) и врача не были принципиально антагонистичны: каждый из них занимал определенную, исторически обусловленную нишу в структуре средневекового общества и органически вписывался в повседневную жизнь.
Таким образом, предварительная задача исследования видится мне в том, чтобы связать все нити воедино и представить по возможности полную картину существовавших в Средние века в повседневности целительных практик и стоящих за ними представлений, рассматривая и оценивая их при этом не «извне», не с высоты нашего «научного мировоззрения», а «изнутри», со стороны субъективного восприятия их средневековым человеком.
Разумеется, обратившись к теме народной медицины в раннее и высокое Средневековье, я руководствовалась желанием попутно восполнить существующий в специальной литературе пробел и попытаться ответить на вопрос о том, как объясняли и лечили болезни не профессиональные врачи (в современном смысле слова), т. е. не те, кого средневековые источники называют medici, archiatri и которых в изучаемую эпоху было крайне мало, а самые обычные люди, «простецы», но все же ее вряд ли можно в полной мере посчитать очерком средневековой «народной медицины». В данном случае мои интересы, повторю еще раз, выходят далеко за пределы собственно «медицинской» проблематики. Историко-медицинский аспект отнюдь не исчерпывает темы болезни как факта истории культуры. Именно в том, как ведут себя люди перед лицом болезни и грядущей за нею смерти, обнаруживаются коллективные представления, ценности, способы осознания и переживания действительности, которые присущи изучаемой культуре и составляют ее картину мира. Историческая наука о культуре, в частности, историко-антропологический подход к проблематике, связанной с болезнью, ее лечением и переживанием, дает возможность взглянуть на нее иначе, чем это делает каждая из упомянутых выше гуманитарных дисциплин, и это, собственно, уже в большей степени трансдисциплинарное исследование культуры, нежели «только» истории народной медицины или религиозных представлений.
0.2.2. Историография проблемы «народной медицины».
Изучение народно-медицинских представлений и практик (отчасти и средневековых) имеет давнюю традицию, хотя, похоже, никогда не было отдельной отраслью гуманитарного знания, а оставалось периферийной областью различных дисциплин и научных направлений.
Первый импульс обращение к данной теме получило во время развернувшегося во второй половине XIX в. научного изучения мифов, к которым возводился и фольклор.
Понятия «народ», «народный» были введены в научный обиход немецкими романтикамиим же историки обязаны понятием «народный дух» («Volksgeist») — мистический источник народного творчества и представлений. Романтический интерес ко всему «народному» обусловил появление множества работ о народных обрядах и верованиях, в том числе и относящихся к народной медицине. Немецкие ученые XIX и начала XX веков описывали «народно-медицинские суеверия» различных более или менее крупных регионов и исторических областей. Это добротные капитальные труды, проникнутые духом позитивизма и содержащие массу сведений о поверьях и обрядах, в интерпретации которых, тем не менее, нетрудно усмотреть влияние одного из двух магистральных в то время научных направлений — «мифологической» («натурической») или (и) «антропологической» школ9.
Приверженцы «мифологической» школы, вдохновленной «Немецкой мифологией» Я. Гримма, опирались на сравнительно-историческое индоевропейское языкознание. Вследствие свойственного этому направлению романтического отождествления «древнего» с «народным» сведения об обрядах и фольклоре из разных времен анализировались одновременно и служили равноценными доказательствами, а этнографические материалы XIX в. спокойно экстраполировались на «древность».
Антропологическая" школа Э. Тайлора сложилась в Англии как школа сравнительной этнографии. Исходя из постулатов о единообразии человеческой психики и прямолинейности культурной эволюции, ведущей к прогрессу, сторонники этого направления рассматривали народную обрядовую практику и стоящие за нею представления европейских народов как содержащие.
9 См., напр.,: Andree R. Braunschweiger Volkskunde. 2. Aufl. Braunschweig, 1901; Bruck M. Medizinischer Volksglauben und Volksaberglauben aus Schwabe. Kavensburg, 1865- Ho/ler M. Deutsches Krankheitsnamen-Buch. Miinchen, 1899- HopfL. Organtherapie // Janus. 1898−99. Bd. пережитки" и объясняли их на основании похожих культурных феноменов у современных «примитивных» народов.
Концепция «пережитков» неявно признавалась и сторонниками (мифологической школы и, в целом, превратилась в объясняющую теорию при изучении «народных суеверий» в литературе этнографического характера первой половины XX столетия. К «антропологической» школе Э. Тайлора восходит и характерный поиск «рационального» (в частности, влияния античной медицины) в народной медицине Средних веков и Нового времени, и анимистическая интерпретация объяснений болезни (этиологий)10.
Существует также отдельная группа исследований (в том числе и относительно новых), в которых в большем или меньшем объеме изучаются собственно средневековые медицинские «суеверия» из рецептариев, травников, лечебников11. Эволюционистский подход в этих работах не вызывает сомнений: «суеверное» понимается скорее как «иррациональное», «ненаучное» и в этом > смысле отождествляется с «народным». Действительно, открыв любой рецептарий на любой странице, можно натолкнуться на самые фантастические рецепты, ничего общего с «научной» медициной того времени не имеющие. Но даже если на минуту абстрагироваться от того, что, как показали исследования Г. Е. Зигериста еще в начале XX столетия, все содержащиеся в континентальных рецептариях VII—XI вв. так называемые «суеверные» способы лечения заимствованы из античных рукописей и их греко-римское или ближневосточное происхождение очевидно12, остается открытым вопрос о том, являются ли «народными», т. е. общеупотребимыми и постоянно.
3,4. Seligmann S. Der bose Blick und Verwandtes. 2 Bd. Berlin, 1910; Wuttke A. Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin, 1869. (ND 1900).
10 Hojler M. Volksmedizin und Aberglaube in Oberbayerns Gegenwart und Vergangenheit. Miinchen, 1893- Reichborn-Kjennerud J. Altnorvegische Heilkunde // Janus. 1936. S. 113−136- Bargheer E. Eingeweide. Lebensund Seelenkrafte des Lebensinneren im deutschen Glauben und Brauch. Berlin-Leipzig, 1931.
11 См., напр., Jorimann J. Friihmittelalterliche Rezeptarien. Zurich-Leipzig, 1925; Kreienkampf M. t Das St. Georgener Rezeptar. Ein alemanisches Arzneibuch des 14. Jhs. aus dem Karlsruher Kodex.
St.Georgen 73. Wurzburg, 1992; Zinser H. Glaube und Aberglaube in der Medizin. Dortmund, 2000. практикуемыми в обыденной жизни, рецепты из рукописных или (с XV в.) печатных книг в обществе, подавляющее большинство в котором, по общему мнению историков, было неграмотным? А если эти «суеверия» и являются «народными», то к какому народу следует их относить?13.
0.2.3. Тема болезни в исторической науке.
В конце шестидесятых годов XX столетия тему болезни открыли для себя «собственно историки», и ее изучение стало развиваться в новом направлении. Обращение историков к истории повседневности, к изучению обыденной жизни широких слоев населения предопределило их особый интерес к восприятию болезни именно в массовом сознании.
Впервые вопрос о болезни как культурно-историческом феномене стал актуальным в связи изучением эпидемий чумы XIV в. и их роли в истории. Чума поразила воображение современников своей масштабностью и чудовищностью последствий, что нашло отражение в относительной многочисленности источников разных жанров. Работами Ж. Н. Бирабена, Ж. Легоффа, Н. Бульста и ряда других авторов открывается целая серия исследований, посвященных истории этой болезни в демографическом, экономическом и, отчасти, в историко-культурном ракурсах 14.
12 Siegerist Н.Е. Studien und Texte zur frtihmittelalterliche Rezeptliteratur. (=Studien zur Geschichte der Medizin 13). Leipzig, 1923.
13 К этой проблеме мы еще вернемся в разделе 3.4.
14 Biraben J. N. Les hommes et la peste en France et dans les pays europeens et mediterraneens. T. I-II. Paris, 1975;78- Bulst N. Der Schwarze Tod. Demographische, Wirtschaftsund Kulturgeschichtliche Aspekte der Pestkatastrophe von 1347−1352. Bilanz der neueren Forschung // Saeculum. Bd. 30. 1979. S. 45−67- Dormeier H. Die Flucht vor der Pest als religioses Problem // Laienfrommigkeit im spater Mittelalter. Formen, Funktionen, politisch-soziale Zusammenhange/ K. Schreiner (Hg.). Munchen, 1992. S. 331−397- Bergdolt K. Der Schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des Mittelalters. Munchen, 1994; Esser Th. Die Pest — Strafe Gottes oder oder Naturphanomen? Eine frommigkeitsgeschichtliche Untersuchung zu Pesttraktaten des 15. Jahrhunderts// Zeitschrift fur Kirchengeschichte. 1997. № 108- Булъст H. Почитание святых во время чумы //Одиссей. Человек в истории. 2000 // М., 2000. С. 152−185.
Тема чумы дала историкам интеллектуальный импульс к изучению разных аспектов массовых представлений о здоровье и болезни, физической силе и немощи, жизни и смерти как с точки зрения их аксиологической значимости, так и во взаимосоотнесенности с основными тенденциями в демографической и культурной ситуации разных исторических эпох15. Подобно тому, как тема осознания смерти в разных культурах в 1970;80-х годах превратилась в целое направление в исторической науке, тон в котором задавала французская «l'histoire de la morte» 16, возникшая примерно в то же время «культурная история болезни» («histoire culturelle de la maladie» 17) также обещала превратиться в отдельное направление, охватывающее не только.
1 о.
Средневековье, но и Античность, и Новое время. Однако, похоже, не превратилась. Причины?
Самое первое, что приходит на ум: разные аспекты проблематики смерти лучше документированы. В любых источниках, в той или иной мере позволяющих пролить свет на тайники человеческой души, проникнуть в мысли и чувства индивидов, на разных уровнях обобщения и в разных жанровых системах тема смерти так или иначе обсуждается. В Средние века смерть означала не просто конец жизненного пути — событие само по себе уже значительное. Она воспринималась как момент перехода к «жизни вечной», к райскому блаженству или адским мукам, к которому человек должен был.
15 Характерным примером может служить работа Г. Яритца с обстоятельной библиографией по данной проблематике: Jaritz G. Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einfuhrung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters. Wien-Koln, 1989.
16 Подробно об этой проблеме и библиографию см.: Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. Человек в истории. 1989 / М., 1989. С. 114−135.
17 Именно так называется один из характерных для этого направления в историографии сборник работ: М. Sendrail (ed.). Histoire culturelle de la maladie. Toulouse, 1980.
I ft.
Auge M., Hertzlich C. Le sens du mal. Anrtopologie, histoire, sociologie de la maladie. Paris, 1984; Crisciani C. Valeurs ethiques et savoire medical entre le XII et le XIX siccle. Problcmes et themes d’une rescherche // History and Philosophy of Life Sciences / Grmek. M.D. (ed.). Florence, 1983/1984. P. 33−52- Brown P. The body and society. New-York.1988; Grmek M.D. Les maladies a 1'aube de la civilisation occidentale. Recherches sur la realite pathologique dans le mond grec prehistorique, archaique et classique. Paris, 1983; Der Kranke Mensch im Mittelalter und Renaissance / P. Wunderli (Hg.). Dtisseldorf, 1985; Gepeinigt, begehrt, vergessen. Symbolik und готовиться с самого рождения и ради которого он, собственно, и жил на земле. Одно только упоминание, пусть даже лаконичное, о факте смерти в источниках уже гораздо более информативно, нежели подобное упоминание о факте болезни. В последнем случае у исследователя сразу же возникают «специфические» вопросы: что это была за болезнь, как долго длилась, чем объяснялась и т. п. Иными словами, тема болезни предполагает ряд специфических аспектов, которые освещаются в источниках (если только это не специальная медицинская литература) очень скудно. О болезни вообще писали меньше, чем о смерти. Полагаю, потому, что вплоть до последних столетий она была лишена самостоятельного значения в культуре, такого, каким наделялись понятия «жизнь» или «смерть». В мифологической по своему происхождению оппозиции жизнь/смерть болезнь служила лишь медиатором, средством для перехода из одного состояния в другое.
Относительная бедность исторического материала стала причиной того, что до XIV в., т. е. до момента, когда в связи с эпидемиями чумы тема болезни «прорывается» в письменные источники разных жанров (строго говоря, этот процесс начался раньше, уже на рубеже XII/XIII в., и его можно объяснить возрастающим признанием самоценности земной жизни в светской культуре19), она изучалась историками главным образом в контексте «истории чуда» (, 1'histoire du miracle" — выражение Ж.-К.Шмитта), т. е. исцелений святыми .
Это не удивительно: в раннее и высокое Средневековье помимо «узкоспециальных» медицинских текстов, агиографические сочинения — жития святых и перечни их чудес (миракулы) — едва ли не единственный литературный жанр, в котором содержатся какие-либо сведения о болезнях, их.
Sozialbezug des Korpers im spaten Mittelalter und in der friihen Neuzeit / Hg. v. Kl. Schreiner, N. Schnitzler. Munchen, 1992.
19 Бессмертный IO.JI. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории Франции. М&bdquo- 1991. С. 107.
20 Finucane R. C The Use and Abuse of Medieval Miracls// Histori. I960. Vol. 60.P.1−10- Fehlmann H.-R. Das Mirakelbuch Annos II. Erzbischof von Koln als Quelle heilkundlicher Kasuistik. Diss, phil. Marburg. 1963; Assion P. Die mittelalterliche Mirakelliteratur als Forschungsgegenstand // Archiv fur Kulturgeschichte. 1968. Bd. 50. S. 172−180- Rousselle A. Du sanctuaire au thaumaturge: la guerison en Gaule au IV siecle // Annales Ё .S.C. 1976. P. 1085−1107. переживании и способах их лечения. Тему чудесных исцелений и религиозного лечения в историографии нельзя назвать новой, и работы в этой области.
А.Франца, М. Блока, К. Лумиса, Ф. Грауса, вряд ли когда-нибудь перестанут будить интерес новых поколений исследователей. Однако историография 1980;начала 90-х гг., сделав акцент на изучении социальной истории, народной культуры и народной религиозности, изменила ракурс исследования. Проблемы восприятия болезни и человеческого тела стали рассматриваться с позиций самих носителей культуры, с учетом мира их воображения и содержания религиозного сознания, эмоций, словом, всего того ментального универсума, который в конечном счете и реализуется во внутренней мотивации их действий. Речь идет прежде всего о ставших уже классическими работах П.-А.Сигаля, Ж.-К. Шмитта, Н. Олера, Ж. Жели, К. Рендтель и ряда других историков, работающих, как правило, в русле новой социальной истории и исторической антропологии. Французскому медиевисту П.-А.Сигалю принадлежит первое (1969) исследование массовых материалов миракул на предмет чудесных исцелений, свершаемых святым после смерти (так называемые miracula post mortem). Проанализировав миракулы св. Жибриана Реймсского (XII в.) с учетом данных о возрасте и социальном положении больных, типа заболеваний, частоты их упоминаний, он заложил тем самым определенную парадигму исследования, которой в той или иной мере стали придерживаться и другие историки. В 1985 г. П.-А.Сигаль опубликовал гораздо более масштабное исследование, базирующееся на изучении 5000 сообщений о чудесных исцелениях в высокое Средневековье23, хотя принципиально новых подходов в.
ОI.
Имеются в виду следующие исследования: Block М. Les rois thamaturges. Etude sur le caractcre surnaturel attribue a la puissance royale particulierement en France et en Anglettere. Paris, 1924. (n. ed. 1983) — Graus F. Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merovinger. Studien zur Hagiographie der Merovingerzeit. Praha, 1965; Franz A. Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Bd. 1−2. Graz. 1960. (N.D.) — Idem. Die Messe im deutschen Mittelalte. Beitrage zur Geschichte der Liturgie und des religiosen Volkslebens. Freiburg, 1902; Loomis C.G. White Magic. An intoduction to the folklor of christian legend. Cambridge, 1948; Idem. Hagiological Healing. //Bulletin History Medicine. N8. 1940. P. 634−642. лл.
Sigal P. A. Maladie, pelerinage et guerison au XII sifecles. Les miracles de saint Gibrien a Reims // Annales E.S.C. 1969. Vol. 24. P. 1522−1539.
Sigal P.A. L’homme et le miracle dans la France medievale, XI-XII siecles. Paris, 1985. нем не обозначил. Так в практике изучения чудесных исцелений укоренился подход к миракулам как к источникам массовым, дающим богатый материал прежде всего для статистических обобщений. Об известной ограниченности такого подхода в настоящее время, двадцать лет спустя после выхода работ П.-А.Сигаля, речь еще пойдет в разделе «Источники», однако в контексте историографической ситуации конца 1970;х гг. это явление трудно переоценить: в нем манифестировалось новое тогда сочетание социально-исторического исследования с изучением ментальностей. Одной из первых работ, где подобный подход стал еще и предметом методологической рефлексии, была диссертация впоследствии весьма авторитетной кремсской исследовательницы К. Рендтель «Миракулы высокого Средневековья как источник по социальной истории, истории ментальностей и истории почитания святых» (1982)24.
Под влиянием работ П.-А.Сигаля появились аналогичные исследования французских миракул25 и миракул из других регионов и эпох, прежде всего исследования немецких историков26. Так, исследования Кристиана Крётцла базировались на материале миракул XII—XV вв. из Скандинавии, Барбара. Шу обследовала ок. 1000 позднесредневековых свидетельств из Баварии и Тироля28 и т. д.
24 Rendtel С. Hochmittelalterliche Mirakelberichte als Quelle zur Sozialund Mentalitatsgeschichte und zur Geschichte der Heiligenverehrung untersucht an Texten insbesondere aus Frankreich. Diisseldorf, 1985.
Rouche M. Miracles, maladies et psychologie de la foi a l’epoque carolingienne en France //Hagiographie, Cultures et Societes. IV-e — XII-е siecles. Paris. 1981; Vauchez A. La saintete en Occident aux derniers siecles du Moyen Age d’apres les proces de canonisation et les documents hagiographiques. Rome, 1981; Gelis J., Redom O. Les miracles, miroirs des corps. Saint-Denis, 1983; Schmitt J.C. Religion et guerison dans l’Occident medieval // Historiens et sociologiques aujourd’hui. 1984.
26 Ohler N. Zuflucht der Armen. Zu den Mirakeln des heiligen Anno // Reinische Vierteljahrblatter, 1984; Spangenberg P.-M. Maria ist immer und iiberall. Die Alltagswelten des spatmittelalterlichen Mirakels. Frankfort a.M., 1987.
27 Krotzl Ch. Pilger, Mirakel und Alltag: Formen des Verhaltens im skandinavischen Mittelalter (12.-15. Jahrhundert). Helsinki, 1994.
28 Schuh B. Jenseitigkeit in diesseitigen Formen: Sozialund mentalitatsgeschichtliche Aspekte spatmittelalterlicher Mirakelberichte. Graz, 1989.
При том, что изучение повествующих о чудесных исцелениях святыми источников проводилось преимущественно в аспекте истории повседневности, уже с конца 1980;х гг. оно углубляется и детализируется. С одной стороны, как особые исследовательские сферы выделились проблемы, тяготеющие к социальной истории — разностороннее изучение паломничеств29, практики л принесения обета и ее правовых аспектов, социальной подоплеки феномена 11 чуда. С другой стороны, в контексте общего для мировой историографии последних десятилетий расширения сферы интересов историков и обращения их к методам и проблемам других гуманитарных дисциплин, появились работы по систематизации и интерпретации содержащихся в житиях, миракулах святых и протоколах канонизационных процессов медицинских сведений (так называемая «медицинская казуистика»), осуществляется сравнительное изучение практики чудесных исцелений в раннее и высокое Средневековье, в период после 1300 г. и в XVIII—XIX вв. как форм манифестации совершенно.
29 В качестве примеров различных аспектов постановки проблемы изучения паломничеств см. публикацию дискуссий международного коллоквиума (1990) в Кремсе: Wallfahrt und Alltag in Mittelalter und Friiher Neuzeit. Internationales Round-Table-Gesprach, Krems an der Donau, 8. Okt. 1990. Wien, 1992. См. также примечания к разделу 3.9.5.
30 Schuh В. «Wiltu gesund werden, so pring ain waxen pildt in mein capellen.». Votivgaben in Mirakelberichten // Symbole des Alltags — Alltag der Symbole. Festschrift fur Harry Ktihnel zum 65. Geburtstag / G. Blaschnitz (Hg.). Graz, 1992. S. 747−763- Bautier A.-M. Typologie des ex-voto mentionnes dans des textes anterieurs a 1200 // La р1ё1ё populaire au Moyen Age. Actes du 99е Congres des Soc. Savantes, Besan.
31 Итоги специальных коллоквиумов (1991; 2000) на тему разных аспектов чуда и смысловых оттенков понимания чудесного (miracel и mirabilia) в Средние века опубликованы: D. Schmidtke (Hg.). Das Wunderbare in der mittelalterlichen Literatur. Goppingen, 1994; M. Heinzelmann (Hg.). Mirakel im Mittelalter. Konzeptionen — Erscheinungsformen — Deutungen. Stuttgart, 2002. Сравнительному изучению понимания чуда в разные исторические эпохи посвящена работа: Habermas R. Wunder, Wunderliches, Wunderbares. Zu Profanisierung eines Deutungsmuster in der friihen Neuzeit // Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung / R. van Dulmen (Hg.). Frankfurt a.M., 1988. S. 38−66- 278−280. О социальной значимости постмортальных чудес и общественной функции текстов миракул речь идет в работе Wenz-Haubjleish A. Miraculapost mortem. Siegburg, 1998.
Jansen J. Medizinische Kasuistik in den «Miracula sanctae Elysabeth»: Medizinische Analyse und Ubersetzung der Wunderprotokolle am Grab der Elisabeth von Turingen 1207−1231. Frankfurt a.M., Bern, 1985; Wendel-Widmer R. B. Die Wunderheilungen am Grabe der Heiligen Elisabeth von Turingen. Zurich, 1987; Dolfus M.A. Les affections oculaires dans les miracles de saint Louis // Bulletin de la societe nationale franfaise d’histoire des hopitaux. 1970. Vol. 24. P. 3−9. разных форм религиозного благочестия, делаются интересные попытки интерпретации чудесных исцелений с точки зрения психологии и даже парапсихологии. Образцовым (и своего рода итоговым) здесь можно посчитать вышедшее в конце 2003 г. исследование М.Е. Виттмер-Бутч и К. Рендтель «Miracula. Чудесные исцеления в Средние века"34. Междисциплинарноепрежде всего психологическое и историко-медицинское — исследование чудесных исцелений, по мнению его авторов, не только предоставляет недостающие историкам исследовательские модели и методики и таким образом способствует преодолению их традиционно скептического отношения к жанру агиографии как к историческому источнику, но и дает «особые шансы для научного познания"35. Действительно, только историк с его научным инструментарием и навыками критики источника способен соотнести увлекательные сюжеты о внезапных исцелениях со специфическими условиями возникновения агиографических текстов, с особенностями религиозного сознания исцеленных и самого «ментального климата» Средневековья, возведя тем самым изучение «нетрадиционного» исторического материала в ранг подлинно научного исследования.
Кроме того, интерес к изучению повседневности и народной культуры привлек внимание историков к миру представлений средневекового человека, к народным суевериям, в том числе и имеющим отношение к насыланию или исцелению болезней36. При том, что тема соотношения магического и.
Проблема сравнительного изучения религиозного благочестия в раннее Новое время, особенно в контексте чудесных исцелений, к сожалению, выходит за рамки темы диссертации. О большом эвристическом потенциале подобного рода исследований можно судить, например, по следующим публикациям: Burkhardt A. Les Clients des saints. Maladie et quete du miracle a travers les proces de canonisation de la premiere moitie du XVII-e siecle en France. Paris, 1998; Nissen J.A. Niederlandische Mirakelbiicher aus dem Spatmittelalter, insbesondere das Arnheimer Mirakelbuch des heiligen Eusebius, als Quelle fur den Volksglauben/ P. Dinzelbacher, D.R.Bauer (Hg.). Volksreligion im hohen und spaten Mittelalter. Paderborn, 1990. S. 275−305- Sallmann J.M. Naples et ses saints a 1 age baroque (1540−1750). Paris, 1994; M. Derwich, M. Staub (Hg.). Die «Neue Frommigkeit» in Europa im Spatmittelalter. Gottingen, 2004.
34 Wittmer-Butsch M.E., Rendtel C. Miracula. Die Wunderheilungen im Mittelalter. Eine historisch-psychologische Annaherung. Koln, Weimar, Wien, 2003. Библиография с. 329−362.
35 Ibid. S. l 1−12.
36 См., напр., Grabmayer J. Volksglauben und Volksfrommigkeit im spatmittelalterlichen Karnten (=Kultusstudien bei Bolau). Wien-Koln-Weimar, 1994; Schmitt J.C. HeidenspaB und Hollenangst. чудесного в массовом сознании была предметом специального интереса уже К. Лумиса или М. Блока37, она еще далеко не исчерпана и с новой остротой была поставлена, в частности, в работе J1. Кольмера «Святые как магические целители» (1993). На материале чудесных историй Григория Турского Л. Кольмер обосновал один из наиболее актуальных для изучения проблематики болезни в истории вопрос о месте врача, святого и других целителей, прежде.
3 о всего «магов» (знахарей), в средневековом социуме .
Понятно, что данный историографический обзор не может быть исчерпывающим. Цель его состояла в том, чтобы представить изучение темы болезни как историю проблемы (в смысле Problemgeschichte), как того и требует историческая наука о культуре. Историография более частных тем и сюжетов, прежде всего истории самой христианской этики, будет приводиться в соответствующих параграфах. Но если попытаться коротко охарактеризовать современное состояние медиевистики в области изучения проблематики, связанной с болезнью в Средние века в аспекте взаимодействия традиционной культуры с христианством, то следует обратить внимание на два пункта:
Во-первых, при всем многообразии существующих исследований, так же, как и у историков медицины, в работах медиевистов период раннего и высокого Средневековья освещен гораздо слабее.
Во-вторых, более или менее полной картины обыденных представлений о болезни и, главное, путей их формирования в специфическом культурном контексте раннего и высокого Средневековья до сих пор не существует. Известные мне работы либо затрагивают данную тему попутно, в контексте.
Aberglaube im Mittelalter. Frankfurt a. Main, 1993; Bologne J. C. Magie und Aberglaube im Mittelalter: von der Fackel zum Scheiterhaufen. Diisseldorf, 2003. Подобный интерес характерен и для отечественной историографии последнего десятилетия. Однако в рамках данной работы, ориентированной на западно-европейское Средневековье, не представляется возможным углубиться в ее анализ. Основные направления в изучении русских суеверий и религиозного сознания подробно обсуждаются в работе: Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003. С. 7−24- 30−36. Библиография: с. 363−426. 37 См. прим. № 21. более общих проблем изучения «чуда в обыденной жизни», средневековой религиозности, повседневности или народной культуры, как это, например, имеет место в исследовании Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю, окситанская деревня.
1 Q.
1294−1324)" (1975 г.), недавно переведенном на русский язык, либо концентрируются на каком-либо одном из ее аспектов. Чаще всего это именно религиозный аспект болезни или связанной с ним каритативной деятельности Церкви и общества40.
0.3. Структура работы и хронологические рамки исследования.
Приведенный выше обзор историографии (точнее, та его часть, которая связана с темой болезни в культуре) убедительно свидетельствует о том, что проблема влияния христианской этики в сфере обыденных представлений и практик, связанных с болезнью, нуждается в многостороннем освещении и должна рассматриваться по меньшей мере в трех специфических для самого феномена болезни ракурсах — объяснение болезни, ее лечение (а также диагностика, прогностика и профилактика) и переживание (равно как и отношение к больным). Именно этот принцип лежит в основе членения по главам изложенного ниже материала.
В центре моего внимания — преимущественно период раннего и высокого Средневековья, т. е. в VI—XIII вв., меньше всего изученный в аспекте данной проблематики. В пользу такого отграничения можно привести целый ряд аргументов.
38 Kolmer L. Heilige als magische Heiler // Mediavistik. 1993. N6. S. 153−175.
39 Jle Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294−1324). Екатеринбург, 2001.
40 Помимо упомянутых работ из области «истории чуда» следует отметить работы ориентированных на историческую антропологию или историческую теологию историков медицины разных стран, в частности, публикации из тома «История медицинской мысли. Античность и Средние века» (1996). Особенно см.: Agrimi J., Crisciani СИ. Wohltatigkeit und Beistand in der mittelalterlichen christlichen Kultur // M.D.Grmek (Hg.). Die Geschichte des medizinischen Denkens. Antike und Mittelalter. Munchen, 1996. S 182- 215.
Прежде всего это изменения в сфере представлений о болезни. В целом исследование доводится до того периода, когда на Европу обрушивается первая волна чумных эпидемий (1347−50), не только коренным образом повлиявшая на социально-демографическую обстановку и вызвавшая колоссальные изменения в социальной, экономической, культурной сферах, но и обозначившая новый этап в истории представлений о болезни и опыта ее переживания. Насколько опыт, приобретенный во время чумных эпидемий на латинском Западе, повлиял на изменение поведенческих установок и формы их выражения, показали, в частности, работы Н. Бульста41. Хотя, разумеется, некоторые феномены прослежены мною вплоть до Нового времени, поскольку именно на исходе Средневековья они обретают наиболее выразительную форму, как это произошло, например, с лечением церковными сакраменталиями. На рубеже XIII/XIV вв. картина расхожих представлений о болезни и ее лечении начинает меняться и к концу XIV столетия уже существенно отличается от предшествующей эпохи как гораздо более дифференцированная, и, по моему глубокому убеждению, требует отдельного исследования, возможно, иных подходов, а главное, иных источников, иного уровня обобщения. Дело тут не только в обусловленных общим развитием европейской цивилизации внешних изменениях в целительной практике, в отношении к болезни и к больным. Сами понятия «народное благочестие», «народная культура», «народная медицина» — ключевые для темы восприятия болезни в обыденной жизни, наполняются новым содержанием.
Позднесредневековое благочестие не хуже, и не лучше, чем в другие эпохи, но оно другое. И. Хёйзинга говорил о нем как об «острой религиозной впечатлительности» 42.
В свою очередь, народная культура позднего Средневековья и начала Нового времени все больше определяется как культура низших социальных.
41 Бульст Н. Почитание святых во время чумы / Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 152−185. Подробную библиографию см. С. 177−185.
42 Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988. С. 208- Angenendt A. Geschichte der Religiositat im Mittelalter. Darmstadt, 1997. S. 71. слоев, секуляризующаяся, обладающая уже известной степенью самосознания и собственной письменной формой фиксации43.
Распространяющиеся с изобретением книгопечатания популярные медицинские издания — травники, компендиумы из описаний болезней и способов их лечения (лечебники), сборники рецептов (рецептарии) становятся гораздо более востребованными, а, следовательно, более распространенными и доступными, чем прежде. Транслируемая ими «адаптированная» версия античной медицины, а с нею и разного рода — и тоже античные — медицинские суеверия, несомненно, оказывают влияние на тот облик целительной практики, которая имела место в повседневной жизни разных слоев общества в позднее Средневековье и раннее Новое время.
В том, что касается столь популярных прежде «религиозных» терапевтических процедур с участием священника, Реформация и предшествующие ей десятилетия, которые характеризовались обновленной и интенсивной критикой не только народных суеверий, но и зараженной ими обрядовой стороны католицизма, и многих форм народного благочестия, в итоге существенно сократили как ареал их распространения, так и число людей, к ним прибегающих.
Но главная причина подобного отграничения лежит все же в сфере истории самой христианской этики. Индивидуальность, т. е. содержание сознания отдельной личности, не может быть дана ей от природы. Это продукт «социального воспитания» не только отдельного человека, но и всего общества, в процессе которого — в процессе длительном, растянувшемся на столетия — «внешние» нормы поведения становятся внутренней данностью. Этот процесс берет свое начало в раннем Средневековье и связан прежде всего с формированием таких понятий как совесть (в ее христианском смыслеconscientia), чувство вины и покаяние. Но только когда для человека становится необходимостью постоянно вопрошать свое внутреннее Я и строить свое.
43 Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 10- Davis N.Z. Society and cultur in early modern France. Eigth Essays. Stanford, 1975. P. 190. поведение в соответствии с осознанной нравственностью, можно говорить о формировании у него внутренней этики44. В масштабах средневекового общества это произошло, по мнению историков, лишь на исходе высокого Средневековья45, причем чумные эпидемии сыграли в данном процессе не последнюю роль. В этом смысле рубеж XIII и XIV столетий можно назвать «осевым временем &bdquo-послеантичной» Европы"46.
Именно внутренняя этика — представление о грехе как преступлении против совести, точно и лаконично выраженное Абеляром в его знаменитом высказывании nort est peccatum nisi contra conscientiam, чаще всего становится предметом исследований47. По сочинениям Абеляра (Nosce te ipsum), Бернара Клервосского {Ad clericos de conversione), Фомы Аквинского {Summa theologica. Lib. II) можно проследить, как усиливается функция совести и стремление к самопознанию, превращая «средневековую религию совести» (выражение Т. Ниппердая) в одну из «важнейших данностей, унаследованных Новым временем от Средневековья"48. Но ранняя фаза процесса проникновения норм и представлений христианской этики в обыденную жизнь оказывается гораздо менее изученной. Этот процесс настолько растянут во времени, что кажется почти незаметным стороннему наблюдателю. Поэтому, приходится повторить, представляется особенно важным выявить характерные для раннего и высокого Средневековья пути и степень проникновения христианской этики в обыденную жизнь и те формы, которые под ее воздействием принимали стереотипы традиционного поведения в быту.
44 Подробнее этот вопрос обсуждается ниже, в разделе 1.7.2. «Проблема формирования внутренней этики».
45 Обоснование этой идеи содержит, в частности, одна из последних работ П. Динцельбахера: Dinzelbacher P. Das Erzwungene Individuum. SundenbewuBtsein und Pflichtbeichte//Die Entdeckung der Individuality / R. van Dulmen (Hg.). Berlin, 2003. S. 41−43.
46 Ibid. S. 41.
47 Petrus Abaelardus. Nosce te ipsum. Cap. 13 // Peter Abelard' Ethics / D.E.Luscombe (Ed.). Oxford, 1971. P. 54. Исследования этики Абеляра и Бернара Клервосского см., напр.: Chenu M.-D. V Eveil de la Conscience dans la Civilisation Medieval. Montreal, 1969; Constable G. The reformation of the twelfth century. Cambridge, 1996.
0.4. Методы исследования и обоснование понятийного инструментариярабочие гипотезы.
0.4.1. «Картина мира», ее «категории» и «христианское Средневековье». Первая рабочая гипотеза.
Когда речь заходит о целых исторических эпохах и крупных регионах, обобщение неизбежно. В качестве уровня обобщения здесь можно избрать изучение проблематики болезни как «категории» средневековой культуры, точнее, той ее субструктуры, которую принято называть народной культурой.
Понятие «картина мира» пришло в историческую науку из семиотики культуры, когда в начале 1960;х гг. тартуской школой активно стал разрабатываться один из возможных подходов к изучению культуры — рассмотрение ее как структурной целостности, все звенья которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Характер этих связей сформирован в соответствии с типологическими особенностями данной культуры. Подобный подход позволяет вычленить модель культуры или свойственную ей картину мира — сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции (культуры), взятых в их системном и операционном аспектах. Само понятие «мир», картина которого описывается, целесообразно понимать как человека и среду его обитания в их взаимодействии. Мир есть результат переработки информации о среде и о самом человеке, причем «человеческие» структуры в ходе такой переработки часто экстраполируются на среду, что особенно хорошо видно на примере антропоморфности представлений о космосе в архаическом обществе. Следует особо подчеркнуть, что картина мира не относится к числу понятий.
48 Nipperdey Th. Die Aktualitat des Mittelalters. Uber die historischen Grundlagen der Modernitat / Idem. Nachdenken uber die deutsche Geschichte. Essays. Munchen, 1991. S. 24−35 (S. 28). эмпирического уровня, т. е. носители культуры могут не осознавать ее во всей.
49 полноте, а является скорее инструментом исследования .
Структурный подход к изучению культуры применяется чаще всего в этнографии, особенно в фольклористике. Около тридцати лет назад А. Я. Гуревич применил его в историческом исследовании для изучения средневековой культуры50. И хотя актуальность любого научного метода не безгранична во времени, его опыт построения модели (картины) мира и деления ее на фрагменты с последующим изучением их в синхронном плане и в исторической диахронии при определенной постановке исследовательской проблемы остается весьма продуктивным.
Во-первых, он позволяет выделять из общей картины мира — в зависимости от интересов исследователя — один из ее фрагментов (А.Я. Гуревич назвал его «категорией») для более детального рассмотрения. Во-вторых, даже выделенная «крупным планом», категория продолжает оставаться частью структурного целого, обладая всеми его типологическими характеристиками, и может рассматриваться как один из природных или антропологических аспектов всей социокультурной системы в целом.
При взгляде на болезнь как на категорию культуры, и сама она, и столь часть следующая за нею смерть, равно как и связанные с ними поступки и переживания, предстают как определенный срез культуры и действительности, превращаясь в своего рода «арену», на которой как бы в миниатюре разворачиваются и взаимодействуют те же самые культурно-исторические процессы, которые свойственны Средневековью в целом. Взору исследователя открываются общие для всей средневековой культуры «культурные механизмы», стоящие за описываемыми феноменами.
В этом смысле представляется вполне оправданным рассмотреть на этой «арене», каким образом «на практике» происходило становление того.
49Данная проблематика разработана, в частности, в работе Ю. М. Лотмана «О метаязыке типологических описаний культуры» (Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. С. 386−406).
50 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972 (2 Изд. — 1984 г.). культурно-временного пространства, которое мы условно называем эпохой «христианского Средневековья», связывая с этим названием особую роль фактора религии в развитии общества и специфических форм его жизни — фактора, который в мировой историографии вплоть до второй половины XX в. рассматривался как вторичный.
Изучение проблематики, связанной с болезнью, как фрагмента картины мира предполагает анализ синхронного среза культуры. И здесь не может остаться незамеченным то обстоятельство, что источники разных жанров дают весьма противоречивую картину существовавших в Средние века воззрений на болезнь и ее лечение.
В 1985 г. вышла книга немецкого историка медицины Г. Шиппергеса «Сад здоровья», посвященная анализу средневековых концепций здоровья и болезни. Несколько лет спустя Г. Шиппергес публикует еще одну монографию, продолжающую эту проблематику — «Больные в Средние века» 51.
Основной пафос обеих работ — включенность медицины в картину мира породившей ее культуры. Применительно к Средневековью это означает, что средневековая медицина как наука продолжила традиции античной медицины в области гуморальной теории, терапии, диетики, фармации и т. п., а как любой феномен средневековой культуры — не избежала влияния христианской теологии, что и было блестяще показано Г. Шиппергесом на примере медико-теологических концепций Хильдегарды Бингенской, Гонория Августодунского, Фомы Аквинского. Далее, в монографии о больных в Средние века, он убедительно показывает, как христианские идеи милосердия и любви к ближнему изменили отношение к больным в обществе, а сами больные, подобно библейскому Иову, стали воспринимать свою болезнь со смирением, видя в ней наказание или испытание, ниспосланное свыше Божественным.
51 Schipperges Н. Der Garten der Gesundheit. Medizin im Mittellalter. Miinchen, 1985; Idem. Die Kranken im Mittelalter. Munchen, 1990. провидением, а в исцелении старались полагаться исключительно на волю всемогущего Творца.
Подобного рода наблюдения высказаны и медиевистом Кристиной Ваня в программной статье о средневековых представлениях о болезни в вышедшем в 1993 г. сборнике работ по отдельным проблемам истории ментальностей в Западной Европе: «Средневековые представления о болезни, с одной стороны, восходят к античным теориям взаимодействия соков (гуморальной патологии), с другой стороны, ставят болезнь в зависимость от христианского образа жизни. Центральными, возвышающимися над ее физическим аспектом, были для людей Средневековья экзистенциальная оценка болезни и размещение страдания в рамках их христианской картины мира». И далее: «Болезни, посланные Богом, обрушиваются на человека — это представление долго сохраняло свою актуальность и после Средневековья» .
Нельзя сказать, что оба автора не правы. Подобное представление о средневековой медицине и восприятии болезни действительно можно составить, если читать медицинские и медико-теологические сочинения — плоды многолетней рефлексии выдающихся умов прошлого от Галена до Андрея Везалия, от Августина до Хильдегарды Бингенской.
Но транслируемые исключительно в письменной форме античная медицинская традиция и собственно средневековые медико-теологические концепции были своего рода «эзотерическим» знанием в море устной культуры средневековой Европы, подавляющее большинство населения которой оставалось неграмотным и имело свои собственные представления о мире и месте в нем человека — здорового или больного. Вряд ли средневековому крестьянину, которого сами же христианские авторы упрекали в невежестве, а исповедники, судя по вопросам пенитенциалиев, подозревали в неведении относительно основ христианской веры, было известно, что его болезни происходят от нарушения гармонического сочетания {abundantia) четырех.
Vanja С. Krankheit (Art.) // Europaische Mentalitatsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen / P. Dinzelbacher (Hg). Stuttgart, 1994. S. 195−200 (цит. с. 195, 197). жидкостей (соков) организма или порчи (corruptio) одной из них. Сказанное можно отнести и к представителям других сословий средневекового общества, по тем или иным причинам изолированным от письменной культуры — мелким ремесленникам и бюргерам, низшим слоям рыцарства и даже духовенства.
Если обратиться к источникам других жанров, отражающим бытовавшие в устной форме представления53, картина предстает несколько иной.
Из проповедей, обличающих невежество и грехи прихожан, или «покаянных книг», содержащих перечень церковных покаяний за прегрешения, мы узнаем, что в обыденной жизни возникновение болезней или внезапную непонятную смерть, рождение детей-уродов и разные другие несчастья средневековый человек объяснял воздействием колдовства, «дурного глаза», вредом со стороны мертвых, «стрелами» эльфов, домовых и других сказочных существ, населявших, согласно народной мифологии, весь окружающий мир, и тщательно оберегал себя от их воздействия при помощи далеко не христианских ритуалов, амулетов, наговоренных трав и «магических» предметов. Лечение болезней также не ограничивалось исповедью, молитвой и средствами, допустимыми с точки зрения Церкви, но, как сетуют церковные авторы, сплошь и рядом соответствовало «обычаям язычников» {тоге paganorum, pagano ritu).
Данное обстоятельство не осталось незамеченным исследователями. «Магические действия и формы религиозного культа с раннего Средневековья играли большую роль», — отмечает К.Ваня. Ж.-К.Шмитт уточняет: «В Средние века существовал плюрализм методов исцеления: «суеверные» практики соперничали с благословениями, равно как с античной и арабской традициями натуралистической медицины"54.
В отечественной историографии метод изучения свойственных устной народной культуре представлений по письменным источникам был разработан А. Я. Гуревичем и успешно применен в его книгах «Проблемы средневековой народной культуры», «Культура и общество средневековой Европы глазами современников» (1989), «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства» (1990). 5 Vanja С. Krankheit. S. 197- SchmittJ.C. Heidenspafl und Hollenangst. S. 55.
Но что следует понимать под «плюрализмом методов»? Был ли это случайный конгломерат верований, представлений, стереотипов поведения, восходящих к разным религиозным системам и разным мировидениям, — некая сумма «пережитков» язычества, постепенно вытесняемых Церковью, с одной стороны, и новых религиозных или натуралистических, привнесенных христианством вместе с латинской образованностью, взглядов на болезнь, с другой? Или за кажущейся внешней беспорядочностью смешения элементов разных культур коренится нечто, что позволяет говорить о них как о системах с четкой организацией?
Позволю себе выдвинуть следующую гипотезу. для Средневековья в целом характерно существование двух моделей восприятия болезни и всего, что с нею связано, условно соотносимых с разными «уровнями» или «слоями» внутри единой средневековой культуры, а именно, с «ученой» («письменной») и «народной» («устной») традициями трансляции знания. Понятно, что модель, относящаяся к «ученой» культуре, эксплицируется из медицинских и медико-теологических текстов. Именно она традиционно изучается как «позитивистски», так и «антропологически» (подобно Г. Шиппергесу) ориентированными историками медицины.
Предметом моего интереса будет вторая — «народная» или «популярная» — модель, реализуемая в повседневной жизни широких слоев населения и существовавшая исключительно в устной традиции. Критика народных «суеверий» церковными авторами, записи рассказов о чудесных исцелениях святыми, тексты христианских благословений и заклятий, эпическая литература дают достаточно материала, чтобы подобного рода исследование имело шансы на успех.
0.4.2. «Мифологическое мышление», «народная культура» и «архаическое» в Средние века (обоснование основных понятий).
Разумеется, говорить о популярных представлениях о болезни как о системе — т. е. целостном образовании, единстве закономерно связанных друг с другом элементов, можно только условно. Существующие в устной форме воззрения в стройную систему никогда не укладываются — именно в силу устного способа их трансляциивсегда остается что-то избыточное, внесистемное. И все же для них можно обозначить системообразующий принцип — миф как доминирующий тип мышления, свойственный устной культуре.
В некоторых областях деятельности людей, особенно в повседневной жизни, миф остается основным способом осмысления действительности и разрешения конфликта. Миф не в смысле специфического повествовательного текста, а миф как особый тип мышления, хронологически и по существу противостоящий историческому и естественно-научному типам мышления55. Свойственные мифологическому мышлению неспособность провести различие между естественным и сверхъестественным, безразличие к противоречию, слабое развитие абстрактных понятий, чувственно-конкретный характер, эмоциональность и диффузность превращают миф в особую знаковую систему, в терминах которой описывается весь мир, чем и объясняется регенерация определенных культурных архетипов, снова и снова всплывающих при сходных условиях. Аффективная сторона мифологического мышления является питательным источником для символизации представлений о действительности — индивидуальных и коллективных, а это значит, что существующий и транслируемый в устной форме комплекс представлений о болезни являет собой своеобразную мифологию болезни, миф, формируемый в соответствии.
55 Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира. Т. 1. С. 11−20. ср. также: «Сознание, порождающее мифологические описания, мы будем именовать мифологическим» {Лотман Ю.М., Успенский Б. А. Миф-имя-культура / Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 59.) со всеми особенностями мифологического (архаического) мышления56. Именно это обстоятельство, на мой взгляд, недооценивается исследователями, берущими на себя труд писать о средневековых народных представлениях о болезни и размышляющих о причинах живучести языческих и возникновении новых, «христианских», суеверий.
В современной историографии тема суеверий обсуждается обычно в контексте дискуссий о средневековой народной культуре и народной религиозности. Понятие «народная культура» было введено в гуманитарную мысль под влиянием М. Бахтина57, и с тех пор ее изучение превратилось в одно из магистральных направлений исторической науки. В отечественной медиевистике оно представлено прежде всего работами А. Я Гуревича, показавшего, что наряду с «официальной» культурой и религиозностью духовной элиты существовало нечто иное — образ мира или способ мировосприятия, коллективные психологические установки, неявные модели сознания и поведения людей, стоящие за всеми формами их социальной деятельности, существующие не в виде разрозненных «пережитков», остатков «языческой культуры», а представляющие собой особый пласт средневековой культуры, пласт, за которым стоит иной — мифологический — тип мышления, и который в большей или меньшей степени обнаруживается у представителей со всех слоев средневекового общества .
По количеству данных ему определений (в соответствии с разными критериями) и возникавших вокруг них научных споров, понятие.
56 Эти особенности подробно анализируются: Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985; Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания человека. М., 1984. Об общем понятии мифа и мифологии в разных научных традициях и школах см.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1995.
57 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. со.
Прежде всего имеется в виду монография А. Я. Гуревича «Проблемы средневековой народной культуры» (М.1981). Обозначенная в ней проблематика развивается им в последующих работах — «Культура и общество средневековой Европы глазами современников. Exempla XIII века» (М., 1989), «Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства» (М., 1990) средневековая народная культура" может соперничать разве что с понятием «ментальность», определение которого, по моим наблюдениям, всякий историк начинал со слова «нечто». В рамках данной работы нет смысла останавливаться на их подробном анализе59 или формулировать собственное определение — это могло бы стать предметом отдельного исследования, хотя такое исследование в принципе вряд ли может быть исчерпывающим. Целесообразнее указать лишь на некоторые важные для нашей темы аспекты данной проблематики.
Во-первых, сами понятия «народ», «народный» — чистая абстракция. В разные периоды Средневековья они наполнялись различным содержанием, а сам «народ» состоял из различных этнических и социальных групп и группок, так что не существует его универсального определения, годного для всех эпох.
Если для Италии и Южной Галлии уже в раннее Средневековье говорить о «народе» можно как о слое, четко отделенном от знати и имеющем свою «народную» культуру, которая в свою очередь несет явные следы влияния «культуры античной, то в изучаемых в данной работе исконно германских областях, где следы античного влияния были не так заметны, а христианизация населения растянулась на несколько столетий, во многих сферах жизненной практики представления — будь то магические или синкретически христианские — оставались общими для всех. Хотя и там «единой» культуры уже не существовало, но, несмотря на начавшуюся социальную дифференциацию, не существовало и четкой границы между культурами различных социальных слоев.
В целом, во всей Европе VI—XIII вв. определенная граница существовала только в отношении официальной церковной культуры, поскольку Церковь обладала монополией на образование. Но и сам клир не был гомогенным: епископы и приходские священники могли находиться по разные стороны этой.
59 В отечественной историографии подобный анализ содержат работы А. Я. Гуревича «Проблемы средневековой народной культуры» (М.1981), «Исторический синтез и Школа > «Анналов» (М., 1993). Сошлюсь также на программную статью П. Динцельбахера с подробной библиографией, отражающей состояние изучения народной культуры в разных, странах: Dinzelbacher P. Zur Erforschung der Geschichte der Volksreligion. Einfiihrung und границы. Рядовые священники редко были выходцами из знатных фамилий и гораздо больше отличались от монахов или епископов, чем от своих соседей — простых прихожан, среди которых они жили и чьи нравы и обычаи были им далеко не чужды60. Поэтому противопоставление «народной» и «ученой» культур для изучаемого периода представляется уместным только в контексте противопоставления устной и письменной традиции трансляции знания.
Та сумма знаний и религиозных представлений, которую несли с собою христианство и латинская образованность, циркулировала в достаточно узком кругу носителей «письменной культуры», обладавших и соответствующе развитым мышлением. Грамотность особым образом структурирует интеллект: для сознания, знакомого с письменностью, характерно внимание к причинно-следственным связям, к результативности действий. Культура «неграмотных» (illiterati), в свою очередь, не была однородной, равно как и сам «народ» не был гетерогенной массой. Но если все же говорить о «народе», «народной культуре», следует предполагать существование между отдельными индивидуумами отношений, объединяющих их по каким-то относительно стабильным признакам. Таким объединяющим началом, даже при наличии этнических и социальных различий, можно взять опять-таки относительно единый образ мышления и формирующуюся в соответствии с его особенностями картину мира, а именно: стоящий за образом жизни самых обычных людей, за их — устной! — традицией трансляции знания и социального опыта (частью которой является и народная медицина) мифологический (архаический) тип мышления и мифологическую картину мира.
Разумеется, нельзя говорить о единой и стабильной мифологической картине мира в Средние века, равно как и об «архаическом Средневековье» в целом. Мифологической картины мира не существовало уже в древних цивилизациях Ближнего Востока или Средиземноморья. В «настоящей».
Bibliographie // Volksreligion im hohen und spaten Mittelalter / Dinzelbacher P., D.R.Bauer (Hg). Paderborn, 1990. S. 9−27.
60 Beck H.G. J. The Pastoral Care of Souls in South-East France During the Sixth Century. Romae, 1950. P.57. архаике все выводится из мифа, тогда как в Средние века элементы мифо-магического мышления активизируются силами уже иного рода. Поэтому понятие «архаический» применительно к Средневековью может употребляться только в специфическом (и очень ограниченном) смысле для обозначения феноменов, возникновение и функционирование которых являет собой продукт свойственного устной культуре мифологического типа мышления. Речь в данном случае идет прежде всего об архаической традиции, определяющей весь уклад обыденной жизни в средневековом крестьянском обществе, как производной мифологического типа мышления.
Поэтому второй аспект, к которому необходимо привлечь внимание — это традиционный характер средневековой народной культуры. Традиционный не в том смысле, как это обычно понимают западные историки, воспитанные на европоцентристской модели исторического развития. «Традиция» противопоставляется ими «модернизации» или понимается как-то, что восходит к прошлому, но продолжает жить в современном мире. Такая интерпретация традиции, конечно, тоже верна, но для нашей проблематики предельно узка и от того лишена эвристического потенциала61. В данном случае мой подход к изучению традиции можно обозначить, скорее, как этнографический. Как известно, только общество с разделением труда и городами дает предпосылки для полнокровного существования школ и образованности, для письменной трансляции знания. Средневековое общество на основе своих потребностей и организации труда было аграрным и, следовательно, продолжало оставаться традиционным. Поскольку даже в позднее Средневековье около 85% населения Европы составляли крестьяне62, средневековую народную культуру можно рассматривать как традиционную культуру аграрного общества и применять для ее изучения методы, которыми обычно пользуются этнографы, в особенности, фольклористы. Здесь важно упомянуть некоторые (давно.
61 Более подробно о понимании традиции см.: Арнаутова Ю. Между «обществом» и «культурой»: о некоторых особенностях становления исторической антропологии в Германии // Одиссей. Человек в истории. 2004 / М., 2004. С. 365−377 (С. 371).
62 Fossier R. Paysans d’occident. Paris, 1984. P. 20. замеченные ими, но обычно недооцениваемые медиевистами) особенности традиционной культуры.
0.4.3. «Традиция» как моделирующая социальное поведение система. Вторая рабочая гипотеза.
Традиция — своего рода «культурный субстрат» коллективной памяти и опыта определенных социальных групп. Как известно, теорию коллективной памяти начал разрабатывать еще М. Хальбвакс, впоследствии эти идеи развил Я. Ассманн, в своих работах о связи культуры и воспоминания создавший современную теорию культурной памяти. Культура отражает формы мышления, ментальности, духовную деятельность индивидов и групп в искусстве, символах, ритуалах, языке, в различных формах организации жизни и так формирует универсальное поле взаимодействия образа мышления, практики и социальных институтов. Культурную память можно, следовательно, понимать как форму трансляции и актуализации смысла (смыслов) культуры. Одновременно это и обобщающее название для всего «знания», которое управляет переживаниями, действиями людей и всей их жизненной практикой в рамках коммуникации и взаимодействия в общественных группах и в обществе в целом и которое подлежит повторяющемуся из поколения в поколение повторению и заучиванию64.
В обществе с доминирующим устным способом трансляции культуры основной формой культурной памяти, хранилищем коллективного знания, главным каналом передачи социального опыта и, в конечном счете, самой культуры из поколения в поколение является традиция. Традиция.
63 Арнаутова Ю. Е. Концепция «культурной памяти» у М. Хальбвакса и Я. Ассманна/ История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени // Л. П. Репина (Ред). М., 2005 (в печати).
Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis. S. 21- Idem. Kollektives Gedachtnis und kulturelle Identitat /Kultur und Gedachnis / J. Assmann, T. Holscher (Hg). Frankfurt a. M., 1988. S. 9−19 (S. 9). артикулируется отчасти вербально (в фольклоре), отчасти в стереотипах поведения, обрядах (ритуалах), в их редуцированной форме — обычае. Иными словами, традиция — это обобщающее название для всего «знания», которое, не будучи до конца вербализованным или осмысленным, управляет переживаниями и действиями людей, дает им образцы поведения, и эти образцы рациональному осмыслению не подвергаются. В этом смысле традиция имеет императивный характер: на вопрос, почему вы делаете так, а не иначе, носители традиционной культуры ответили бы — потому что так делали всегда. В этом состоит главная — регулирующая и программирующая — функция традиции, которая у историков пока не получила должной оценки, хотя обращение к ней позволяет не только углубить изучение средневековой народной культуры, но и превратить само это понятие в гораздо более эффективный инструмент исследования, а также отчасти пересмотреть некоторые ставшие уже стереотипными мнения о содержании религиозного сознания рядовых верующих.
Важно отметить далее, что именно механизм традиции обеспечивает жизнеспособность культуры и ее устойчивость к влиянию извне. Признание определяющей роли устного способа трансляции представлений о болезни и их мифопоэтического характера, а также «этнологический» подход к изучению средневековой народной культуры как культуры традиционной, позволяет, в частности, иначе, чем это обычно делают современные историки, взглянуть на процесс взаимодействия дохристианских представлений о болезни с навязываемым католической Церковью теологическим учением о ее происхождении и исцелении.
Как уже отмечалось, Ж.-К.Шмитт полагает, что поверхностная, формальная христианизация имела следствием тот факт, что уже крещеное (и даже не в одном поколении) население продолжало «упорствовать в суевериях»: языческое и христианское продолжали сосуществовать65. Это обстоятельство давно и многократно подчеркивалось и другими историками.
Однако объяснять существование в народной медицине Средних веков и Нового времени дохристианских этиологий и ритуалов исцеления недостаточно глубоким проникновением христианства в массовое сознание было бы, как представляется, слишком однозначно. Столь подробно документированные источниками современные «языческим суевериям» чудесные исцеления святыми, многие из которых, как мне уже приходилось писать66, вполне могли иметь место в действительности, т.к. носили психосоматический характер, заставляют предположить, что в определенных аспектах христианская религия, аффективная вера в Бога и его могущество глубоко укоренились в сознании масс. Как представляется, проблема здесь во многом заключена в самих историках, в том, с каким научным инструментарием подходят они к изучению средневековой народной культуры или религиозности и в категориях какой науки пытаются их описывать.
Традиция как «альтернативный» письменной культуре вариант коллективной памяти и ее тесная связь с ритуалом, ориентированным на непрерывное и повторяющееся, свидетельствуют о характерной для устной культуры сакрализации коллективной памяти. Именно это вводит в заблуждение современного исследователя, воспитанного на европейской культурной традиции Нового времени, поскольку он автоматически переводит осмысление роли традиционных представлений и ритуалов в плоскость отправления религиозного культа, в привычных для современного человека наполнениях этого понятия67. Таким образом, средневековая народно-медицинская традиция рассматривается в аспекте противостояния двух.
65 SchmittJ.C. HeidenspaB und Hollenangst. S. 45.
66 Арнаутова Ю. Е. Чудесные исцеления святыми и «народная религиозность» в Средние века // Одиссей. Человек в истории. 1995 / М., 1995. С.151−169.
61Лотман. Ю. М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры? // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. М., 1996. С. 344−356. (С. 347) религий, язычества и христианства, или противостояния двух образов поведения — магического и религиозного. При этом регулирующие и программирующие социальное поведение функции традиции остаются без внимания. Тогда как именно эти функции дают нам основание для второй рабочей гипотезы.
Полагаю, постепенное распространение христианства, несущего с собою и новые, принципиально отличные от архаических (мифологических), представления о болезни («теология болезни») и разработанные христианской этикой образцы ее переживания (так называемая «антропология страдания»), и те трудности («упорствование в суевериях»), с которыми столкнулась проповедующая новые взгляды Церковь, следует рассматривать не в контексте противостояния двух религий, а в более широком и универсальном контексте как процесс межкультурного общения, диалог «старой» культуры, ядром которой была сохраняющая культурную память традиция, с элементами культуры «новой». М. Бахтин обозначил этот процесс как «диалог-конфликт», о.
Ю.М.Лотман дал обстоятельное описание его механизма .
0.4.4. Как происходит диалог культур"? Третья рабочая гипотеза.
В широкой исторической перспективе взаимодействие культур всегда диалогично", — писал Ю.М.Лотман69.
Если на некоторое время отвлечься от конкретно-исторических реалий в процессе превращения Западной Европы в «христианскую» и рассматривать этот процесс как форму диалога христианства — новой религии, новой системы взглядов на мир и этических норм, претендующей на роль культурной доминанты и регулятора социального поведения, с некоей «архаической.
ЛЯ.
Имеются в виду работы Ю. М. Лотмана «Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении» и «Динамическая модель семиотической системы» (Лотмап Ю. М. Избранные статьи. Т.1. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 121−128, 90−101). 9 Лотман Ю. М. Проблема византийского влияния на русскую культуру. С. 122 дохристианской) культурой местного населения", в нем условно можно выделить три состояния культурного взаимодействия — конфликт (первоначальное непонимание и неприятие), адаптацию и ассимиляцию текстов (в широком семиотическом значении этого слова как осмысленную цепочку знаков) культуры «передающей» (в нашем случае христианской) культурой «воспринимающей» (архаической).
На конфликте христианства с языческой культурой и длительном их противоборстве (именно в этом смысле историки говорят об «упорствовании в суевериях») обычно более всего делают акцент исследователи.
Однако, плохо ли, хорошо ли усвоенное христианство становится религией масс: тексты «переводятся» с «чужого» языка на «свой», одновременно подвергаясь разнообразной трансформации по законам «воспринимающей» культуры70. Под «законами» здесь следует понимать прежде всего вышеупомянутые особенности мифологического мышления.
Межкультурное общение (диалог культур) предполагает выработку общего языка общения. «Местная» («принимающая») культура усваивает элементы христианства, отчасти переосмысляя и упрощая их, или, говоря языком семиотиков, переводя их при этом на свой «язык» (адаптируя). Так, например, рождается популярная «теология болезни» — упрощенная версия происхождения болезни по воле Бога в наказание за грех. Одновременно «принимающая» культура осваивает (в определенной степени) язык культуры «передающей», правила создания текстов на этом языке (такими «текстами» могут быть не только вербальные тексты, но и ритуалы, и стереотипы поведения) и пытается воссоздавать по этим правилам аналогичные им новые — собственные — тексты.
Здесь-то и начинается самое интересное. «Чужая традиция коренным образом трансформируется на основе исконного семиотического субстрата «принимающего». Чужое становится своим, трансформируясь и часто коренным образом меняя свой облик. В этот момент роли могут меняться: принимающий становится передающим, а первый участник диалога переходит на прием, впитывая поток текстов, текущий уже в обратном направлении"71, — пишет Ю. М. Лотман. Действительно, ассимилируя христианство, устная культура «местного населения» творит уже собственные «христианские» формы поведения или представления. Так рождаются, например, христианизованные формы целительной магии, многие формы культа святых, «христианские суеверия», о которых пойдет речь в данной работе.
Таким образом, мы подошли к третьей и главной рабочей гипотезе: популярная модель представлений о болезни не была простой суммой случайных «языческих» и «христианских» составляющих, равно как все «языческое» (точнее было бы сказать — архаическое) в повседневной жизни было не просто конгломератом верований и представлений — пережитками, остатками прежних верований. Они являли собой живую структуру новой, собственно средневековой народной культуры — активно функционирующей, адоптирующей и переструктурирующей привнесенные христианством представления и нормы, а потому постоянно самовоспроизводящейся в новых формах, видоизменяясь и приспосабливаясь к новым условиям.
Именно в этом контексте уместно говорить о «модели» представлений о болезни и связанных с нею практик. О модели как стабильной инвариантной (т.е. неизменяемой) структуре, элементы которой, в зависимости от времени и места, могут наполняться различным содержанием из конкретных верований, ритуалов, стереотипов поведения и мотиваций.
Введение
понятия инвариантной модели оправдано, с одной стороны, тем, что делает возможными широкие обобщения и использование в высшей степени условного концепта «христианское Средневековье». Но, с другой стороны, оно позволяет всякий раз обращаться к конкретному историческому материалу, что особенно удобно в сфере народной медицины, потому что, не будучи единожды кодифицированными, народно-медицинские представления и практики в.
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА разных местностях существенно различаются и даже внутри одного региона быстро изменяются во времени.
Однако противопоставление «внутренних механизмов» развития культуры и «внешних влияний» возможно только как умозрительное отвлечение: «В реальном историческом процессе оба эти явления взаимосвязаны и представляют собой разные проявления единого динамического процесса"72. Кроме того, упомянутая «архаическая культура местного населения» — также конструкт абсолютно условный. Какое население следует считать «местным» после Великого переселения народов? И о какой «единой» архаической культуре «местного» населения может идти речь, если христианизация европейских народов длилась едва ли не тысячелетие, и в то время как уповающие на чудо паломники в религиозном экстазе осаждали гробницу святого Мартина в Туре, язычники фризы убивали своего «апостола» Бонифация, проповедовавшего у них христианство? Разумеется, можно говорить только о гипотетической дохристианской (архаической) культуре, фрагментарно реконструируемой из разных источников. О той культуре, с которой сталкивались в разное время и в разных регионах миссионеры, проповедники, приходские священники. О культуре, порожденной общим для определенной стадии культурного развития мифологическим, мифопоэтическим сознанием. И пока народная культура христианской Европы оставалась устной, и, следовательно, то знание, которое транслировалось в письменной форме, было ей недоступным, основным каналом передачи информации оставалась устная традиция. А следовательно, любое упоминание о суеверии в наших источниках свидетельствует лишь о том, что христиане, практикующие эти или им подобные суеверия, неосознанно разделяли свойственные данной традиции представления и диктуемый ею образ поведения.
0.4.5. Христианская этика как регулятор социального поведения: историографический и источниковедческий аспекты. Окончательная формулировка проблемы исследования.
Как уже говорилось выше (§ 0.4.3.), обоснование традиционного характера средневековой народной культуры как ее главной характеристики позволяет представить свойственные ей особенности, прежде всего регулирующую и программирующую социальное поведение функцию традиции, как основу исследования. Если учесть, что в европейских регионах севернее Альп, где влияние достижений античной цивилизации в области социального контроля ощущалось крайне слабо, вся жизнь определялась традицией, противоречащее актуальным в данной культуре нормам и ценностям поведение, иными словами, грех, воспринималось там как нарушение установленного традицией запрета и не оценивалось этически, что воспитанному на христианских ценностях и противопоставлении категорий добра и зла современному мышлению понять не легко. Исполнение транслируемых традицией норм контролировалось коллективом. Поэтому в идеале задачей христианства было изменить структуру личности, освободив ее от гнета традиции, сформировать свободу воли и внутреннюю мораль, сообразуясь с которой человек мог бы сам оценивать свои поступки и выстраивать свое поведение в соответствии с религиозной этикой и ее учением о грехе как абсолютном зле и преступлении перед Богом. Сказанное означает, что с распространением христианства наряду с традицией на ту же роль — регулятора социального поведения — стала претендовать и христианская этика, а функции контроля за нравственностью взяла на себя Церковь в лице приходских священников.
В основе христианской этики — основанного на нравственных идеалах Священного писания (вере, любви, смирении, отречении от мира и возвышения духа над плотью, готовности к страданию и прощению) — учения о природе человека, причинах и целях его действий, лежит идея греха и искупления. Грех, т. е. то моральное зло, преступление против воли Бога и его предписаний, которое выражается действием, словом или мыслью, свершается человеком под воздействием злой воли или демонических сил и закрывает ему путь к спасению в загробном мире. Поэтому этика призвана научить человека правильной жизни, исходя из его собственной — божественной — природы, и показать ему путь достижения благочестия и спасения души.
Понятно, что христианская этика — феномен многосторонний. Церковные авторы разрабатывали ее на протяжение всего Средневековья и разрабатывают по сей день. Как самостоятельный объект изучения она привлекала внимание многих поколений исследователей, особенно с тех пор, как в конце XIX в. под влиянием идей историзма в историческом исследовании формируется такая область знания как «историческая теология».
В медиевистике история христианской этики как последовательно развиваемого на протяжении всего Средневековья учения и изучение вклада в него отдельных христианских мыслителей часто становится предметом исследования. Наряду с этим в последние десятилетия проблематика, связанная с христианской этикой, из сферы истории идей все чаще переводится в сферу социальной истории, где этика рассматривается как один из основополагающих факторов культурной динамики в развитии средневекового общества и его институтов. Здесь можно выделить две тенденции в изучении влияния этики на социальное поведение. Во-первых, это влияние изучается в контексте формирования различных «идеалов» (монашеского, рыцарского, идеала правителя или аристократа73). Во-вторых, вопрос о роли христианских этических норм в повседневности ставится чаще всего применительно к эпохе позднего Средневековья и раннего Нового времени (особенно к XIV—XVII вв.), когда углубление религиозного сознания и формирование внутренней этики хорошо поддается наблюдению, т.к. вызывает к жизни новые социальные.
О том, насколько детализированными становятся такие исследования в последние годы, можно судить, например, по одной из последних публикаций сборника работ французских историков о формировании идеи этического обоснования «профессии» воина: M. Lauwers феномены {devotio moderna, трудовая этика74). Поэтому с точки зрения изученности темы необходимо восполнить существующий в специальной литературе пробел и рассмотреть ранний этап процесса проникновения христианской этики в обыденную жизнь, изучать который следует не по ученым трактатам, а по источникам, эту обыденную жизнь отражающим.
Строго говоря, исследования такого рода предпринимались и прежде: в той или иной степени интерес к проблеме влияния христианской этики на повседневность присутствует практически во всех работах, посвященных более общей проблеме изучения средневековой народной культуры и народной религиозности. Однако их результаты были скорее негативными: сама возможность обнаружения видимых плодов усвоения рядовыми прихожанами христианской этики и, соответственно, ее влияния на повседневную жизнь средневековых «простецов» в VI—XIII вв. оценивается историками весьма скептически. Главный аргумент здесь — присутствие в обыденной жизни многочисленных «языческих суеверий», что рассматривается, повторю еще раз, как признак сосуществования в их религиозном сознании «языческого» и «христианского» и даже как «двоеверие"76. При том, что наличие ответной реакции подвергающейся контролю и давлению со стороны Церкви народной культуры, ее традиции, которая постоянно изменяется, приспосабливаясь к требованиям христианской этики, никто из историков не оспаривает,.
Ed.). Guerriers et moines. Conversion et saintete aristocratiques dans Г Occident medieval (IX-e — XII-е siecle). Antibes, 2002.
74 Последнее состояние исследований в этом направлении отражают публикации в томе: М. Derwich, M. Staub (Hg.). Die «Neue Frommigkeit» in Europa im Spatmittelalter. Gottingen, 2004.
75 См. прим. № 25,28,38, 53, 57, 58.
If*.
Эта проблема рассматривается более подробно в § 1.1. «Этиология болезни в аспекте религии и этики». В целом можно сослаться на следующие работы: Delumeau J. Le Catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris, 1971; Vauchez A. La spiritualite du Moyen Age occidental. VIII-e — XII-е siccles. Paris, 1975; Dinzelbacher P. Zur Erforschung der Geschichte der Volksreligion. Einfuhrung und Bibliographie // Dinzelbacher P., D.R.Bauer (Hg). Volksreligion im hohen und spaten Mittelalter. Paderborn, 1990. S. 9−27- Parish H. Religion and superstition in Reformation Europe. Manchester, 2002. приходится признать, что показать эти изменения — первые плоды воздействия этики на поведение в повседневной жизни — привычными историкам методами (речь идет прежде всего о дескриптивном методе) невозможно. Они выражаются во внешних изменениях старых обрядов, заклинаний, магических действий или в возникновении новых, которые все равно остаются «суевериями». Поэтому одна из сквозных задач данной работы состоит в том, чтобы при помощи методов этнологии и фольклористики установить, как изменяются сами эти «суеверия», как меняется мотивация действенности обрядового поведения, как постепенно она включается его исполнителями в христианскую религиозную систему и рассматривается как обращение к божественным силам, т. е. религиозное поведение, форма благочестия. Это, в свою очередь, означает не только изменения в религиозном сознании средневековых «простецов», но их стремление приспособиться, как умели, к требованиям христианской этики. Но здесь встает вопрос о том, по каким критериям оценивать эти требования? И как они проникали в толщу обыденной жизни?
Понятно, что применительно к повседневной практике речь может идти не о традиционно изучаемых историками стереотипах идеального поведения, а, скорее, о том, как действительность расходится с идеалом, искажает (упрощает) его или стремится приспособиться к нему, являя себя в формах, при критическом рассмотрении с этим идеалом опять-таки не всегда совместимых. И именно такое положение вещей представляется нормой: поскольку христианское учение распространялось не в культурном вакууме, задача христианской этики оказалась предельно сложной — изменить традиционный уклад жизни людей, уровень мышления и развития личности которых не позволял в полном объеме воспринимать ни теологическую догму, ни идеи абсолютного добра или абсолютного зла, ни базирующиеся на них нравственные категории.
Поэтому христианская этика предстает в данной работе в несколько упрощенном, «прикладном» и обыденном виде: что нужно делать простому человеку, чтобы спасти душу, и что вообще можно делать, а что нельзя, потому что это грех. Учение о грехе как абсолютном зле, лежит, приходится повторить, в основе всей христианской этики. Однако само это учение как часть теологии, разрабатываемое от патристики до Петра Абеляра и Фомы Аквинского, мало что может дать для наших изысканий. «Простецам», до того, как с появлением нищенствующих орденов проповедники «пошли в народ», оно формулировалось главным образом в виде вопросов исповедников или наставлений приходского священника, поэтому в предлагаемой работе «покаянные книги» один из важнейших источников не только в области суеверий, но и в области этических норм.
Из распространившихся в Европе с VII в. пенитенциалиев («покаянных книг») наглядно видно стремление Церкви искоренить те формы традиционного поведения, которые представлялись ей особенно неуместными — «языческими». Пенитенциалии построены в форме вопросников: «Веришь ли ты (credisti), что.?», «Делал ли ты (fecisti).b>. Такие вопросы охватывают почти все сферы обыденной жизни вплоть до приготовления еды, похорон покойников, прогнозирования исхода заболевания и сексуальных отношений. Приходской священник задавал их исповедующимся, и уличенных в прегрешениях ждало церковное покаяние, поэтому следует ожидать, что верующие должны были стремиться приспосабливать свое поведение к этическим нормам, по меньшей мере, в том объеме, в котором они отражены в содержании вопросов пенитенциалиев.
Однако там, где речь идет о высоких этических «материях» — идеях смирения и терпения (humilitas et patientia), любви и милосердия (caritas et misericordia), заботы о бедных (сига pauperum) как нравственном долге христианина, пенитенциалии помочь ничем не могут. Здесь следует обратиться к сочинениям, рассчитанным на образованного читателя, а потому к сфере устной культуры имеющим лишь опосредованное отношение.
Теология болезни" часто становилась темой сочинений церковных авторов, разъяснявших высокий божественный смысл infirmitas и учивших правильному отношению к ней и ко всем больным как к «беднякам Христовым». Образцовыми здесь считаются сочинения папы Григория I Великого (понтификат 590−604 гг.) — главного средневекового теоретика «антропологии страдания». В данной работе использованы посвященные природе, функциям и переживанию страдания фрагменты его комментария к.
77 библейской Книге Иова — Moralia in Job — одного из самых читаемых и цитируемых в раннее и высокое Средневековье текстов, и созданное им практическое руководство для священников Regula pastoralis, изъятое из богослужебной практики только Триентским собором 1546 г. Именно Regula pastoralis позволяет судить о том объеме и содержании теологического учения о болезни, который приходские священники, увещевая больных со смирением и терпением переносить свою болезнь, доводили до сведения своей паствы. Ответ на вопрос, насколько успешно эти увещевания и доводы священников укоренялись в обыденной жизни, опять-таки свидетельствует о том, насколько успешно христианская этика превращалась в регулятор социального поведения.
Поэтому, обратившись к теме представлений о болезни, ее причинах и лечении в средневековой народной культуре, мы невольно сталкиваемся с гораздо более общими проблемами:
— насколько устойчивой к влиянию извне оказалась традиция?
— насколько усилия Церкви в борьбе с традиционным жизненным укладом увенчались успехом?
— и что стало итогом этой борьбы?
Если с языка этнологии и семиотики культуры перейти на привычный язык историков, то центральную исследовательскую задачу данной работы можно сформулировать так:
— какое место и в какой форме христианству с его религиозной этикой отводилось в повседневной жизни, в частности, в сфере взаимоотношений.
77 Sancti Gregorii Magni, romani pontificis, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job /Migne, PL. T. 75. Coll. 509−1162- T. 76. Coll. 9−782.
78 Sancti Gregorii Magni, romani pontificis, Regulae pastoralis liber /Migne, PL T. 77. Coll. 13−127 (Pars III. Admonitiones. Coll. 50−124). человека с болезнью, и какова его роль в формировании средневековой популярной «модели» представлений о болезни и обусловленного ими поведения? Словом, насколько удалась ему функция регулятора социального поведения в этой области жизненной практики?
Таким образом, даже в сфере обыденных представлений о болезни речь идет об одной из кардинальных для медиевистики проблем — о проблеме «практической христианизации» Европы и роли христианства как религии, как системы взглядов на мир (идеологии) и культурной доминанты в повседневной жизни раннего и высокого Средневековья.
0.5. Источники и методы работы с ними. 0.5.1. Обоснование принципа отбора источников.
Понятно, что при широком и многоступенчатом сравнении и весьма крупномасштабном обобщении встает проблема не только поиска подходящего исторического материала, но и проблема тщательного обоснования его репрезентативности и правомерности применения.
Введение
понятия «модель» связанных с болезнью представлений и практик, под которой понимается инвариантная, т. е. неизменяемая, структура, у которой в зависимости от места и времени может меняться только внешний облик, позволяет нам, во-первых, говорить о характерных для всего «христианского Средневековья», т. е. для периода, охватывающего почти 1000 лет (VI — XV вв.), представлениях и практиках. Во-вторых, привлекать для их изучения источники из разных регионов Европы, хотя предпочтение делается, как уже упоминалось, «землям севернее Альп», т. е. территории, гораздо меньше подвергшейся влиянию средиземноморской цивилизации. Это уточнение особенно важно в сфере так называемых суеверных практик, которые в германском регионе, несомненно, отличаются в целом гораздо большей гомогенностью, тогда как античные суеверия средиземноморских культур, как известно, носят синкретический характер.
Разумеется, структурный подход наиболее уязвим для критики именно в историческом исследовании, особенно с тех пор, как историки обратились к человеку как главному актеру истории. Однако если речь идет о периодах большой длительности, которые мы условно называем эпохами, если речь идет о тех «субъективных» элементах исторического процесса из сферы человеческого опыта, которые обусловлены культурой, этот подход вполне оправдан, так как позволяет сочетать изучение культуры в синхронном срезе и описывать ее в исторической диахронии. Он многократно оправдал себя прежде всего в этнографических исследованиях, о чем еще пойдет речь ниже.
Изучение проблемы взаимодействия христианской религиозной этики с архаической традицией в сфере регулирования социального поведения (в ситуации, связанной с болезнью) требует сравнительного изучения:
1) дохристианских архаических представлений о болезни и обусловленного ими поведения;
2) христианского теологического учения о болезни;
3) возникших в зоне их контакта «собственно средневековых» представлений и практик, имевших место в повседневной жизни и отличавшихся как от древних, дохристианских, так и от «официально-церковных».
Поэтому, с одной стороны, речь идет о поиске источников, содержащих сведения о распространенных в повседневной жизни представлениях и стоящих за ними практиках в эпоху «собственно Средневековья» («христианского Средневековья»), как принимаемых Церковью, так и — в той или иной степеникритикуемых и даже полностью отвергаемых ею как «суеверные». С другой стороны, сравнительный анализ требует выявления исторических корней всех этих «собственно средневековых» феноменов. Корни эти могут уходить и в языческую архаику, и в христианское богословие и церковный ритуал, отчасти даже в античную медицину. Соответственно, встает необходимость привлечения источников, содержащих, во-первых, тексты и описания ритуалов, в которых отражена христианская «теология болезни» (при том, что учение о болезни средневековых богословов и его «популярная версия», распространяемая приходскими священниками, к тому же не существующая в однозначной, зафиксированной письменно, форме — отнюдь не одно и тоже) — и, во-вторых, содержащих более или менее эксплицируемую информацию об «архаических пластах» сознания средневекового человека, к которому могут быть возведены те «суеверные» представления и практики, которые имеют место в более позднюю эпоху и, разумеется, вряд ли подвергаются осмыслению.
Понятно, что «специальных» источников для обозначенных выше тем не существует. Поэтому проблема в целом сводится к сбору исторического материала, содержащего информацию по интересующим нас вопросам, в текстах самых разных жанров, порою относящихся к разным регионам и даже к разным исторических периодам. Разумеется, особую актуальность приобретает здесь вопрос о корректных методах их анализа и степени репрезентативности его результатов.
Развернутое обоснование такого подхода к проблеме «исторического источника», когда он понимается весьма широко как «исторический материал» — то есть все то, что «может быть привлечено к ответу на поставленный историком вопрос», недавно было дано в работе О. Г. Эксле «Что такое.
70 исторический источник?" (2004). Проанализировав весь спектр дискуссий о содержании понятия «исторический источник» за последние 150 лет, т. е. от ранкеанского, основывающегося на метафизике, или обоснованного позитивистским сциентизмом понимания исторического источника как.
79 Эксле О. Г. Что такое исторический источник? [Oexle O.G. Was ist eine historische Quelle? Пер. с нем. Ю.Е.Арнаутовой] // Munuscula. К 80-летию со дня рождения А.Я. Гуревича/ Ю. Е. Арнаутова (Ред.). М., ИВИ РАН, 2004. С. 154−181. Следует подчеркнуть, что аналогичноеширокое — понимание проблемы «источника» содержит и последняя редакция университетского учебника (МГУ) по истории Средних веков: «Под историческим источником понимается все созданное в процессе человеческой деятельности или испытавшее ее воздействие». См.: История Средних веков/ С. П. Карпов (Ред.). М., 2000. (Цит. С. 30). источника «объективного» и «истинного» знания о прошлом, «существующем независимо от историка», до расширенного понимания источника как «абсолютно любого» исторического материала историками французской «школы Анналов» и немецкой школы «истории памяти», О. Г. Эксле приходит к следующему выводу: «что такое так называемые «источники», сейчас больше уже не поддается определению. [.] Именно от самого вопроса зависит, что в каждом отдельном случае может и должно быть в широком смысле слова источниковой базой для ответа на него"80.
Его аргументы (с которыми трудно не согласиться) в целом сводятся к констатации того факта, что во второй половине XX столетия под знаком исторической науки о культуре происходит универсализация воззрений на исторический материал. Импульс ей дала, несомненно, «новая историческая наука» во Франции, повлиявшая на мировую историографию в целом. Суть этой универсализации и нового понимания «исторического источника» состоит, во-первых, в упразднении всякой иерархии в историческом материале, каковой, например, была установленная Леопольдом фон Ранке, всем источникам предпочитавшим нарративную традицию. Во-вторых, в упразднении всякого его сегментирования, как это было, например, в предложенном И. Г. Дройзеном.
81 различении между «источниками», «остатками» и «памятниками». И, наконец, в-третьих, в упразднении всех связанных со спецификой предмета отграничений и разграничений в определении того, что следует считать историческим материалом и, соответственно, что в его качестве можно привлечь: «Всё, поистине всё, может стать историческим материалом: церковные книги, завещания, строительные расчеты, географические, лингвистические, медицинские, археологические данные, предметы из сферы.
82 истории искусства и науки о музыке" .
OA.
Эксле О. Г. Что такое исторический источник? С. 174.
81 Имеется в виду теория исторического познания Дройзена, изложенная в его курсе лекций «Historik» в сер. XIX в. Рус. перевод см.: Дройзен И. Г Историка. М., 2004. Об этом подробнее см.: Эксле О. Г. Указ. соч. С. 162−167.
82 Эксле О. Г. Указ. соч. С. 173.
Таким образом, вопрос об «исторических источниках» для поставленной в предлагаемой работе проблемы может быть решен в пользу очень широкого спектра привлекаемого исторического материала: моими источниками будут не только тексты, вышедшие из-под руки средневековых авторов — теологические трактаты, проповеди, «покаянные книги», агиографические сочинения, но и сборники средневековых церковных формул, составленные современными учеными, эпическая традиция и саги, и обычное право {leges barbarorutri), описания предметов культа и изображений (особенно вотивных), и то, что, казалось бы, следует вообще отнести к «историографии» — старые и относительно новые исследования культов разных святых, сборников их миракул, истории средневековых паломнических центров и мест поклонения чудотворцам и даже (с большими оговорками) относящийся к Новому времени материал этнографов из области изучения суеверий.
0.5.2. Обзор источников и некоторых специфических методов работы с ними.
Чрезвычайное многообразие изученного материала, далеко не ограничивающегося только средневековыми письменными источниками, обусловливает известную трудность его классификации в том виде, как это принято в работах, обсуждающих привычные медиевистам темы из области социально-экономической, интеллектуальной или событийной истории. В нем невозможно выделить гомогенные группы в отношении одного какого-нибудь признака, совпадающего с одной из задач исследования: источники одного и того же жанра могут содержать сведения о практиках и представлениях как «архаического», так и «собственно средневекового» происхождения, как соответствующие христианской этике, так и несовместимые с нею, сообщения как о мифологии болезни, так и о ее «практическом приложении» — ритуале или об отношении к больным. И поскольку главное требование, предъявляемое ко всему историческому материалу, это наличие информации об определенном аспекте повседневной жизни, представляется оправданным просто дать характеристику наиболее часто используемых источников с точки зрения характера предоставляемой ими информации.
Поскольку об источниках для выявления «теологии болезни» (т.е. Moralia in Job и Regula pastoralis Григория Великого) уже было сказано выше (§ 0.4.5.), начнем с большой группы церковной литературы о «языческих суевериях».
Пенитенциалии или «покаянные книги» {libri paenitentiales) — составленные наподобие каталога перечни прегрешений и соответствующих наказаний за них (так называемое тарифицированное покаяние) — являли собой род служебной литературы для священников. Практика тарифицированного покаяния, более похожая на принятую в обычном праве систему штрафов (вергельдов), зародилась в VI в. на Британских островах и тогда же была перенесена в континентальную Европу усилиями англо-ирландских миссионеров. Она была совершенно новой по отношению к покаянной практике древней Церкви: носила приватный характер (покаяться можно было прямо на исповеди), была доступна как мирянам, так и клирикам, отличалась известной гибкостью в определении наказания за грех. Возникнув в поле практической деятельности священников, тарифицированное покаяние отражало новое понимание самой сущности покаяния: всякая вина может быть взвешена (на весах Божественной справедливости) и тяжесть ее установлена83.
Данное обстоятельство сыграло весьма существенную роль в закладке основ христианской этики в религиозном сознании средневекового человека, ибо давало постоянную возможность обсуждения со священником и осмысления своего поведения на исповеди — в любой момент и сколь угодно часто. Кроме того, фиксированные тарифы за прегрешения служили известной гарантией от произвола или некомпетентности приходских священников.
О новом понимании покаяния и истоках практики «покаянных книг» см.: Korntgen L. Studien zu den Quellen der friihmittelalterlichen Bulibiicher. Sigmaringen, 1993; Горюнов E. Покаяние / А. Я. Гуревич. (Ред.). Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 373−376.
Одновременно они были относительно гибкими в том, что касалось региональных традиций, например, из области пищевых запретов и т. п.
Статьи пенитенциалиев были построены по принципу «веришь ли ты, что .? (credisti.?)», «делал ли ты. (fecisti.?)», далее шло описание суеверия или иной греховной формы поведения. Наказание — епитимья — представляло собой одну или сразу несколько разновидностей благочестивых практик: чтение молитв и пение псалмов, пост различной строгости (чаще всего — «на хлебе и воде») и длительности, самобичевания, ночные бдения, пожертвования. Поскольку вопросы пенитенциалиев затрагивали разные сферы повседневной жизни, прихожанина уличали, как правило, не в одном, а сразу во многих грехах. Наказания, предписываемые за каждый грех, суммировались (практика redemptiones или commutationes), но поскольку в итоге длительность покаяния могла превысить все разумные пределы, оно заменялось на более короткое, но суровое. Или же предлагалось компенсировать его материально: заказать и оплатить определенное количество месс, сделать пожертвования Церкви и 84 Т.П. .
Старейшие из сохранившихся пенитенциалиев были созданы в VI—VII вв. в ирландских и британских монастырях (древнейший, Paenitentiale Vinniani, был написан до 549 г.), и уже с конца VI столетия они появились в континентальной Европе. В современных архивах хранятся более 400 рукописей различных пенитенциалиев из разных регионов Европы.
Среди всех жанров церковной литературы пенитенциалии выделяются особенной стилистической непритязательностью. Поскольку «покаянные книги» стали в какой-то мере ответом на практические нужды служителей Церкви, их составление не было освящено авторитетом какого-нибудь одного выдающегося деятеля Церкви. Лишь немногие циркулировали под именем их досточтимых авторов, остальные же — или анонимно, или ошибочно приписывались знаменитым церковным писателям (Беде Достопочтенному,.
84 Структура, типология, история распространения пенитенциалиев подробно анализируется: Vogel С. Les «Libri Paenitentiales». Turnhout, 1978.
Григорию Великому). Впоследствии издатели пенитенциалиев часто называли их по имени того монастыря, в библиотеке которого хранилась рукопись. Обилие многообразных компиляций, вопиющее несоответствие региональных тарифов за грехи и множество противоречивых предписаний сделали пенитенциалии объектами интенсивной критики церковных реформаторов уже в эпоху Каролингов. Однако необходимой унификации тарифов и норм, разноголосица в которых наносила существенный ущерб церковной дисциплине, так и не последовало вплоть до XII столетия, когда «покаянные книги» в исповедальной практике сменились summae confessorum85.
Среди всех грехов, пособием для искоренения которых и призваны были служить «покаянные книги», разного рода отклонения от «истинной веры» и обрядовые формы (falsa religio), т. е. все, что Церковь считала суеверием (superstitio), а также стоящая за суеверными представлениями практика, составляли важную и, надо сказать, весьма пространную, группу. Часть этих суеверий относилась и к сфере взаимоотношений человека с болезнью. В этом смысле пенитенциалии — один из важнейших источников для изучения средневековых народно-медицинских представлений и обрядов. Более подробно о них пойдет речь в соответствующих разделах данной работы. Пока же следует сказать, что из всего многообразия средневековых «покаянных книг» пенитенциалий, составленный вормсским епископом Бурхардом (ум. 1025 г.) содержит их наиболее пространную казуистику и потому столь часто привлекает внимание историков86.
Строго говоря, пенитенциалий Бурхарда Вормсского Corrector ас medicus являет собой XIX книгу его знаменитых «декреталий» (Decretum Burchardi) — состоящего из 20 книг собрания церковно-правовых, дисциплинарных, имущественных предписаний и норм, получивших, судя по количеству рукописей (более 80), широкое распространение в XI—XII вв. далеко за.
85 Арнаутова Ю. «Пеиитенциалии» / Католическая энциклопедия. Т. 3. (В печати). пределами вормсского диоцеза. Как установил еще первый издатель «Корректора» Х.Й.Шмитц87, в его основу легли переработанные Бурхардом наиболее авторитетные старые пенитенциалии, распространенные еще в эпоху Каролингов: Paenitentiale Romanum, несмотря на свое название возникший все же где-то в Западно-Франкском королевстве, английские пенитенциалии, приписываемые кентерберийскому епископу Теодору и Беде Достопочтенному, из IX/X вв. — собрание покаянных предписаний De synodalibus causis аббата Регинона Прюмского (ум. 915 г.). Регинон зафиксировал в своем пенитенциалии ряд интересных сведений о погребальном обряде и связанных с ним апотропеических ритуалах и магических действиях, которые послужили on важным источником для данной работы .
Но даже являясь качественной компиляцией, «Корректор» Бурхарда Вормсского, по общему мнению историков, демонстрирует необычный для этого жанра канонической литературы интерес к народным обычаям и поверьям, которые описаны в нем гораздо более подробно, чем в предшествующей традиции, а употребление некоторых германских лексем для обозначения существ низшей мифологии, по всей вероятности, указывает на то, что Бурхард не только «творчески перерабатывал» фрагменты текстов своих предшественников, но и действительно отразил какие-то аспекты современных ему суеверий.
Пенитенциалии, разумеется, не единственный вид средневековых памятников, раскрывающий перед нами мир народных представлений, обычаев и магических практик. Подобную информацию содержит «Перечень суеверий и.
86 Первым внимание историков, изучающих народные представления, к этому источнику привлек немецкий этнограф М. Хайн еще в 1950;е гг.: Hain М. Burchard v. Worms (f 1025) und der Volksglaube seiner Zeit // Hessische Blatter fur Volkskunde. 1956. Bd. 47. S. 39−50.
87 Первое издание было предпринято в 1883 г. Мною использовано современное издание: Schmitz Н. J. Die Bussbucher und Bussdisziplin der katholischen Kirche. Graz, 1958. 2 Bde.
88 Ibid. Bd. II. S. 446−454- F. W. Wasserschleben (Hg.). Reginon von Priim. Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis. Leipzig, 1840. языческих обычаев" (.Indiculus superstitionum et paganiarum), составленный анонимным автором в конце VIII в. в одном из франкских монастырей (предположительно в Майнце) и содержащий древнегерманские аналоги латинских обозначений для суеверных практик, а также некоторые постановления {canones) епископских синодов и церковных соборов90. Следует подчеркнуть, что епископскими канонами особенно активно реципировалось сочинение брагарского епископа Мартина (ум. 580 г.) против суеверий De correctione rusticorum91. В том, что касается веры в ведьм и колдовство, помощь могут оказать также правовые источники — предписания против суеверий франкских королей от Хильдеберта до Людовика Благочестивого, особенно капитулярии Карла Великого — прежде всего знаменитые «Capitulatio de partibus Saxoniae» (785) и Admonitio generalis (789), а также памятники обычного права {leges) .
Все касающиеся обличения «языческих суеверий» {superstitio gentium) и «служения ложным богам и демонам» {idolorum cultus) фрагменты этих многочисленных текстов были скрупулезно собраны и опубликованы Д. Харменингом в его фундаментальной работе «Суеверие: исследование истории традиции и теории в средневековой церковно-теологической литературе о суевериях» (1979)93. Помимо книги Д. Харменинга, мною были использованы и другие издания, содержащие подобного рода эксцерпты из средневековых памятников (В.Будрио, Х. Хомана, Э. Блюма,.
89Indiculus superstitionum et paganiarum /MGH. Capitularia regum francorum. Bd.l. Hannover, 1883. S. 221−229. Новое научное издание этого памятника: Нотап Н. Der Indiculus superstitionum et paganiarum und verwandte Denkmaler. Gottingen, 1965.
90 Отчасти они цитируются также по составленному немецким историком Д. Харменингом компендиуму суеверий, упоминаемых церковной литературой: Harmening D. Superstitio: Uberlieferungsund theoriengeschichtliche Untersuchungen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin, 1979.
91 Martin von Bracara’s Schrift «de correctione rusticorum» / C.P. Caspari (Hg.). Christiania, 1883.
92 «Историко-медицинские» эксцерпты из них тщательно собраны и опубликованы: Blum Е. Das staatliche und kirchliche Recht des Frankenreiches in seiner Stellung zum Damonen-, Zauber-und Hexenwesen // Veroffentlichungen der Gorres-Gesellschafit. Sektion fur Rechtsund Staatswissenschaften. 1936. Bd. 72- Niederhellman A. Arzt und Heilkunde in den Friihmittelalterlichen Leges. Berlin-New-York, 1983.
93 Harmening D. Superstitio: Uberlieferungsund theoriengeschichtliche Untersuchungen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin, 1979.
А.Нидерхелльманн)94, также предоставившие богатый материал для сравнения в данной работе. Однако по своей полноте они не могут соперничать с изданием Д. Харменинга, сделавшим его главным трудом своей жизни.
Критике суеверий посвящены также целые фрагменты раннесредневековых проповедей (homiliae). Следует напомнить, что раннесредневековые проповеди, по крайней мере, те, что сохранились, будучи включенными в специальные сборники, отличала высокая степень символичности, словом, «ученость», мало доступная простой пастве. К тому же произносили их, главным образом, епископы. Поэтому вероятность их близости к реалиям обыденной жизни весьма невелика. Церковные авторитеты рекомендовали использовать для составления проповедей классические образцы этого жанра, явленные миру отцами Церкви, для чего составлялись специальные компендиумы, где материал для проповеди распределялся по определенным темам. В области суеверий основными «источниками» для таких компендиумов были так называемые «народные проповеди» архиепископа Цезария Арелатского (ум. 542 г.), {homiliae № 13, 54, 192, 193)95 и, отчасти, проповедь De magicis artibus Рабана Мавра96, впрочем, гораздо менее востребованная из-за ее сложности и ориентированности на античные оккультные суеверия.
В данной работе были использованы проповеди Цезария как «текст-прототип» для проповедей последующих времен. Хотя Цезарий Арелатский тоже далеко не оригинален. Влияние на него (в том числе и в примерах конкретных осуждаемых практик) трудов Оригена и, в особенности, Августина давно доказано97. Однако неоспорим тот факт, что арльский епископ, впоследствии канонизированный, был, «возможно, самым великим народным.
94 Boudriot W. Die altgermanische Religion in der amtlichen kirchlichen Literatur des Abendlandes vom 5. bis 11. Jahrhundert. Bonn, 1928; Homan H. Op.cit.- Blum E. Op. cit.- Niederhellman A. Arzt und Heilkunde in den Frtihmittelalterlichen Leges. Berlin-New-York, 1983.
95 Cesaire d 'Aries. Sermons sur l’ecriture /G. Morin (Ed.). Paris, 2000.
96 Hrabanus Maurus. De magicis artibus/ J.P.Migne, PL. Т. 110. Coll. 1095−1110.
98 /п проповедником, которого явила миру христианская древность". Согласно его житию, он не только сам регулярно проповедовал, но и требовал этого от других епископов своей провинции. Более того, именно он стал вменять проповедь в обязанности приходских священников (правило, которое на практике прижилось лишь спустя полтысячелетия). Конечно, критикуемые им суеверия — это суеверия жителей Южной Галлии, так как Цезарий в течение 40 лет оставался епископом Арля (502−542) и проповедовал в Провансе, а также те античные суеверия, традиция критики которых восходит к Августину. Однако, повторю еще раз, именно эта критика была положена в основу всей осуждающей «пережитки язычества» раннесредневековой литературы.
Здесь мы подошли к, пожалуй, наиболее щекотливому вопросу о достоверности средневековой церковной литературы, осуждающей суеверия, как источника для решения одной из центральных задач данного исследования — выявления путей формирования «собственно средневековой» антропологии болезни. Ибо как обосновать генетическую преемственность средневековых, считающихся «христианскими», и архаических дмбш'-языческих народно-медицинских практик, если сами эти архаические практики, эксплицируемые из средневековых же источников, представляются не более чем фантомом, топосом церковной литературы? Именно на это обстоятельство первым указал знаток средневековых суеверий Д. Харменинг, предположив, что транслируемая церковными авторами письменная традиция имеет мало общего с настоящими суевериями местного населения и далека от действительности" .
Действительно, достаточно бегло сопоставить 2−3 изданных Х. И. Шмитцем «покаянных книги» разных авторов из разных регионов и разных столетий, чтобы убедиться, что их статьи повторяют одни и те же разновидности суеверий, различаясь, скорее, лишь формой или строгостью.
Проблемы рецепции позднеантичных авторов в средневековой проповеди обсуждаются, в частности, в издании: Predigt und soziale Wirklichkeit: Beitrage zur Erforschung der Predigtliteratur / W.Welzig. (Hg.). Amsterdam, 1981.
98 Angenendt A. Geschichte der Religiositat im Mittelalter. Darmstadt, 1997. S.404. налагаемой за эти прегрешения епитимьи. Предписания светских властей, например, королевские эдикты времен Меровингов и Каролингов, а также соответствующие параграфы «варварских правд» также сформулированы в категориях церковной лексики, и пассажи о колдовстве, магических зельях или амулетах в них подозрительно похожи на аналогичные пассажи в епископских канонах. Более того, из церковной литературы вычленяется даже постоянная, явно имеющая позднеантичное происхождение схема классификации церковными авторами языческих суеверий {superstitio)'. supers titio observationum (наблюдение примет), superstitio divinationum (гадания), superstitio magicarum artium («магические искусства»). Последние, в свою очередь, делятся на «виды магии» (artes magiae) — «травы» (herbas), «амулеты» (ligamenta, ligaturae, pfylacteria), «святотатство на мертвыми» (sacrilegium super defunctorum), «заклинания» (carmina) и т. п.
И все же беру на себя смелость утверждать, что весь корпус церковной литературы о суевериях при достаточно критическом к нему отношении может послужить нам хорошим источником.
Во-первых, имея достаточный опыт, не трудно выявить и исключить из рассмотрения сообщения о тех суевериях, которые явно имеют отношение к культу античных богов, средиземноморским магическим практикам, будь то древнеримская, древнеегипетская, каббалистическая и т. п. или к средиземноморскому культу мертвых, или к разным оккультным магическим наукам вроде астрологии, хиромантии, магии чисел и т. д.100. Все они перекочевали в средневековую литературу из античных рукописей, отчасти через сочинения критиковавшего эти суеверия Августина De civitate Dei (L. XV), De doctrina Christiana, De vera religione, Pro cura pro mortuis gerenda.
Во-вторых, следует проверить, могут ли теоретически относиться оставшиеся сообщения (их немного) о магических обрядах и поверьях к.
99 Harmening D. Op. Cit. S.72.
100 Об оккультных науках в Античности подробнее: Harmening D. Zauberei im Abendland. Vom Anteil der Gelehrten am Wahn der Leute.Wiirzburg., 1996. повседневной жизни населения областей «севернее Альп» в VII—XIII вв. Здесь мы сталкиваемся лишь с одним неудобством: сообщения эти довольно стереотипны (потому оригинальный «Корректор» Бурхарда Вормсского пользуется особой популярностью у исследователей). Однако и этому есть объяснение.
С одной стороны, постоянное, из года в год, из века в век напоминание авторов пенитенциалиев и иного рода церковных наставлений о греховности магических практик как разновидности idolorum cultus свидетельствует о живучести этих практик. С другой же стороны, поскольку компилирование было органической частью труда любого средневекового писателя, нет ничего удивительного в том, что параграфы о суевериях он также едва ли не дословно заимствовал из сочинений, авторитет авторов которых уже прошел проверку временем. Или, в лучшем случае, формулировал такие пассажи в тех же выражениях. Стереотипность этих высказываний побуждает ученых видеть в них «общие места» или топосы церковной литературы. Однако данное обстоятельство не столь уж обесценивает эти сообщения, как это представляется их критикам. Более пространное обоснование методов работы с топосами еще последует ниже101, пока же следует подчеркнуть, что письменная фиксация информации в форме стереотипизированного высказывания (топоса) не исключает ее достоверности: топосы вполне могут иметь под собой исторические основания. Но таково уж свойство человеческого сознания: как только человек начинает писать, в процесс формулирования мыслей включаются его образование, круг чтения, литературная традиция, мир представлений его социальной и культурной среды. Поэтому изложение помимо воли автора, будь то средневековый теолог или, например, современный журналист, описывающий напряженные спортивные соревнования, облекается в привычные формулировки из актуального фонда.
101 Общее состояние проблемы отношения современных историков к средневековым топосам и истоки этого отношения подробно исследованы мною в работе: Арнаутова Ю. Е. Перспективы изучения агиографических топосов // Munuscula. К 80-летию со дня рождения культурной традиции102. Следовательно, то, что изложенное имеет форму ряда топосов, еще не доказывает, что оно ложно. Конечно, его историчность нуждается в критической проверке, насколько это возможно по состоянию фонда исторического материала.
Как осуществить такую проверку? Самое важное — найти документальные подтверждения существования пусть не точно таких же, но подобных культов, практик и поверий в более позднее время. Подтверждения, которые уже можно счесть достоверными. Таковыми в нашем случае могут быть многочисленные сообщения этнографов XIXначала XX столетий о народных поверьях, обрядах и приметах немецких крестьян. Поэтому в предлагаемом исследовании в ранг «источников о Средневековье» могут быть возведены документы Нового времени. Это и собранные X. Фройденталем сведения о магических практиках, связанных с огнем, Э. Баргхеером — с человеческими внутренностями, 3. Зелигманном — народные представления о сглазе, О. Говорки — о травах, И. Хонко — о существующих сами по себе и нападающих на человека «стрелах», «ударах», «уколах» и др.103. Полагаю, нет надобности давать каждому из этих объемистых трудов отдельную характеристику. Главное, что их отличает — это полная непригодность для современных исследований объясняющих.
А .Я. Гуревича / Ю. Е. Арнаутова (Ред.). М., ИВИ РАН, 2004. С. 182−213 (особенно с. 186 194).
102 Впервые это наблюдение было высказано Ф. Граусом: Graus F. Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merovinger. Studien zur Hagiographie der Merovingerzeit. Praha, 1965. S.75- 6- Idem. Hagiographische Schriften als Quellen der «profanen» Geschichte / Fonti medievali e problematica storiografica. Roma, 1976. T.I. P. 375−396.
03 Bargheer E. Eingeweide. Lebensund Seelenkrafte des Lebensinneren im deutschen Glauben und Brauch. Berlin-Leipzig, 1931; Freudenthal H. Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch. Berlin-Leipzig, 1931; Grabner E. Der Wurm als Krankheitsvorstellung. Siiddeutsche und Siideuropaische Beitrage zur allgemeinen Volksmedizin // Zeitschrift fur deutsche Philologie. 1962. Bd. 81- Handworterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 1−10. Berlin, 1927;42- Hofler M. Volksmedizin und Aberglaube in Oberbayerns Gegenwart und Vergangenheit. Munchen, 1893- Hovorka O. v. — Kronfeld A. Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebrauche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin. Bd. I-II. Stuttgart, 1908;1909; Honko L. Krankheitsprojektile. Untersuchung iiber eine urttimliche Krankheitserklarung. Helsinki, 1959; Marzell H. Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen. Darmstadt, 1967. (N.D.) — Peuckert W.-E. Deutscher Volksglaube im Spatmittelalter. Hildesheim-New-York, 1978; Sartori P. Zahlen, Messen, Wagen // Am Ur-Quelle. Hamburg, 1885, Bd. IVSeligmann S. Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Hamburg, 1922; Wuttke A. Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin, 1869. (ND 1900). концепций их авторов и приводящее в восхищение обилие разнообразных этнографических фактов.
Разумеется, это отнюдь не значит, что такие факты, т. е. данные этнографов XIXXX вв., мы можем спокойно экстраполировать на Средневековье. Такую ошибку, как упоминалось выше, уже сделали представители школы сравнительной мифологии Я. Гримма, романтически посчитавшие все «народное» «древним». Однако современная этнология учит, что «новые верования и обряды создаются редко', с изменением общества меняется только их форма и ритуальные предметы"104. Иными словами, обряды могут видоизменяться, ассимилировать друг друга, синтезировать архаические («языческие») и христианские элементы. Но все эти, казалось бы, столь важные инновации затрагивают лишь их внешнюю сторону, сохраняя при этом структурную целостность и глубинную семантику, «архаическую субстанцию» обряда, о методах вычленения которой еще пойдет речь в конце раздела. Объяснение действенности обряда также может переосмысляться и включаться, например, в христианскую систему представлений, однако, повторю еще раз, всякое магическое действие, когда оно мотивировано и живо, имеет свойство «создавать по своей модели другие действия, может претерпевать различные внутренние изменения, усложняться, сокращаться или расширяться"105.
Сказанное означает, что даже подвергнутая длительному переосмыслению и трансформации обрядовая практика Нового времени может служить подтверждением существования в Средние века аналогичных обрядовых форм, очень кратко упомянутых средневековыми авторами. К примеру, упоминаемые Региноном Прюмским погребальные обряды, предосудительные как «святотатство над мертвыми» (sacrilegium super defunctorum), или кратко упоминаемая «Перечнем языческих суеверий» вера в силу целительного огня (ahd. nodfyr) не только подтверждаются, но и подробно описаны этнографами. Понятно, что все эти подробности применительно к.
104 Богатырев П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья/ Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 169−296 (цитаты с. 184). раннему Средневековью — не более чем красочная иллюстрация, поскольку они свидетельствуют не о том, «как это было на самом деле», а лишь о том, как это теоретически могло бы быть. Подобное можно сказать и о верованиях в существование различных существ низшей мифологии, о собранных М. Хёфлером106 народных названиях болезней, отражающие народные же этиологии.
Помимо этнографической литературы, подтверждения существования конкретных магических практик, прежде всего связанных с ношением амулетов, особенностями погребального обряда и некоторыми ритуальными предметами, которые упоминают средневековые тексты, а также ряда связанных с почитанием чудотворных реликвий обрядов следует ожидать от данных археологии107 и от изучения изображений, в частности, вотивных108.
Подобную же функцию — предоставить «независимые» сообщения о связанных с болезнью архаических (мифологических) представлениях (как эксплицитных, так и выраженных имплицитно) и магических практиках, чтобы таким образом подтвердить (и даже проиллюстрировать) сведения критикующих «язычество» своей паствы церковных авторов — выполняет здесь и другая большая группа источников: скандинавские саги и эпос. Более того,.
105 Там же. С. 194.
106 Hofler М. Deutsches Krankheitsnamen-Buch. Miinchen, 1899.
107 Lehmann H.-D. Spuren von Heidentum der Unterschichten in der friihmittelalterlichen Alamannia// Archaologisches Korrespondenzblatt. 1999. Bd. 2. S. 261 — 270- Ewans J. Magical Jewels of the Middle Age and the Renessance particularly in England. Oxford, 1922; Isager K. Skeletfundene ved Om Kloster. Kopenhagen, 1936; Arends U. Ausgewahlte Gegenstande des Friihmittelalters mit Amulettcharakter. Diss. Heidelberg, 1978. 2 Bde.- Dubner-Manthey B. Die Gurtelanhange als Trager von Kleingeraten, Amuletten und Anhangern symbolischer Bedeutung im Rahmen der friihmittelalterlichen Frauentracht. Berlin, 1987; McDougall I. The Third Instrument of Medicine. Some Account of Surgery in Medieval Iceland // Health, Disease and Healing in Medieval Cultur / S. Campbell, B. Hall, D. Klausner (Ed.). Toronto, 1992. P. 57−83- Jankun H. Spuren von Anthropophagie in der Capitulatio de partibus Saxoniae? II Nachschriften der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. 1968. I. phil.-hist. Klasse. S. 59−71. Палеомедицинские данные и богатый археологический материал содержит также исследование скандинависта Г. Райера: Reier Н. Heilkunde im mittelalterlichen Skandinavien. Seelenvorstellungen im Altnordischen. Kiel, 1976. 2.Bde. mJaeger W. Augenvotive: Votivgaben, Votivbilder, Amulette. Sigmaringen. 1979 (N.D.) — Andree R. Votive und Weihegaben des katholischen Volkes in Stiddeutschland. Braunschweig, 1904. именно она позволяет решить одну из важнейших задач нашего исследования — установить исторические (архаические) корни тех народно-медицинских практик, особенно из области так называемой «церковной магии», которые документированы источниками X—XV вв. (например, церковными вербальными формулами) и мотивация действенности которых включалась их исполнителями в христианскую систему представлений.
Реконструкция архаических (мифологических) представлений, необходимых для сопоставления с «собственно средневековыми», сопряжена с наибольшими сложностями в виду ранней христианизации континентальной Европы. Предшествующая христианскому Средневековью культура, как было сказано, слабо отражена в ее письменных источниках. Древнейшие эпические сказания континентальных германских племен в большинстве своем известны нам именно по скандинавским памятникам, сохранившимся преимущественно в Исландии. Речь идет прежде всего о сборнике эпической поэзии, уже в Новое время названном «Старшей Эддой» и о свойственном только Скандинавии прозаическом виде эпоса — сагах.
Специалисты выделяют несколько разновидностей саг: «королевские саги», повествующие о конунгах Норвегии и Швеции, и саги об исландцах («родовые саги»). В предлагаемом исследовании использован ряд переведенных на русский или немецкий языки саг, а также эддическая поэзия, которые были подвергнуты анализу на предмет выявления дохристианских представлений и практик из сферы взаимоотношений человека с болезнью109. Причем самые древние саги (среди «королевских саг» — «Круг земной», записанная Снорри Стурлуссоном (ок. 1225−30 гг.), среди «родовых» — «Сага о Вёлсунгах», герои которой известны и по сказаниям других германских народов), историчность содержания которых весьма проблематична, содержат.
109 В работе были использованы следующие издания: Старшая Эдда. M.-JL, 1963; Поэзия скальдов. J1., 1979; Исландские саги. М., 1956; Исландские саги. М., 1973; Сага о Сверрире. М., 1988; Сага о Греттире. Новосибирск, 1976; Сага о Вёлсунгах. M.-J1., 1934; Снорри Стурлуссон. Круг земной. М., 1970; Прядь о Торлейве Ярловом Скальде. (Пер. и комм. наибольшее количество сведений из области формирующей архаические этиологии болезни объясняющей мифологии, как эксплицитной, так и выраженной имплицитно в фантастических сюжетах и описаниях ряда обрядов.
Дополнительные сведения подобного рода были привлечены также из исследований эддической поэзии и саг (главным образом немецкими филологами-германистами). В начале XX в., на фоне общеевропейской научной «моды» на все «германское», таких исследований, где особенное внимание уделялось сюжетам саг, связанным с темами религии, магии, народной медицины, с представлениями о душе, о смерти у северных германских народов, возникло немало. «Мода» эта после второй мировой войны по понятным причинам исчезла, а сами понятия «древнегерманский» (altgermanisch), народный (volkisch) на много десятилетий оказались скомпрометированными. Постепенное возвращение западноевропейских историков (если они, конечно, не узкие специалисты по Скандинавии) к «древнегерманским» темам наблюдается только в последнее десятилетие.
Разумеется, как и в случае с трудами по этнографии, объясняющие концепции (анимизм, аниматизм, Volkerpsychologie Вильгельма Вундта) в этих изданиях XIXпервой половины XX вв. безнадежно устарели. Однако текстологический анализ саг, выявление и объяснение специфических древнегерманским понятий и принятых для их обозначения лексем, предпринятые, например, германистами Вальтером Бэтке или Яном де Фрисом, равно как и весь компендиум собранных ими упоминаний в разных контекстах интересующих нас представлений и практик вряд ли когда-нибудь утратят свое значение110.
Е.А.Гуревич. Вступит, ст. А.Я. Гуревича)// Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1993. С. 284−299- Islands-Sagas/ U. Diederichs (Hg.). Munchen, 1995.
110 Baetke W. Worterbuch der altnordischen Prosaliteratur. Bd. I-II. Berlin, 1965;68- Fries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. 2 Bde. Berlin, 1970. (3 Aufl.) — Gronbech W. Kultur und Religion der Germanen. Bd. I-II. Darmstadt, 1961.(ND) — Weinhold K. Altnordisches Leben. Berlin, 1856- Gering H. Uber Weissagung und Zauber in Nordischen Altertum. Kiel, 1902; Wesche H. Der altnordische Wortschatz im Gebiet des Zaubers und des Weissagung. Halle, 1940; Unwert W.v. Untersuchungen uber Totenkult und Odinnverehrung bei Nordgermanen und Lappen mit Excursen zur altnordischen Literatur. Breslau. 1911; Reichborn-Kjennerud J. V3r gamle trolldoms medisin.
Однако при работе со скандинавскими памятниками встает закономерный вопрос о том, насколько оправдано обращение к эпическому материалу, записанному к тому же довольно поздно, только в XIII—XIV вв., в историческом исследовании гораздо более ранних эпох? В пользу этого подхода можно привести ряд аргументов.
Прежде всего, речь идет не о событийной истории или истории институтов, а о стереотипах поведения и представлениях, далеко не всегда осознаваемых: именно повседневное поведение в быту в наибольшей степени регулируется традицией — самым стабильным и долговечным (вследствие ее приспособляемости к меняющимся культурным условиям) «механизмом» культуры. Понятно, что в синхронном срезе культуры (а «точкой отсчета» для такого «среза» мы можем принять время записи саг, т. е. XIII-XIV столетия), с одной стороны, не все элементы этой традиции присутствуют в эксплицитном виде, а с другой стороны, отнюдь не все ее элементы, получившие благодаря записи жесткую форму фиксации и упоминаемые эпическими текстами, «на самом деле» еще свойственны обыденной жизни. Для упорядочения подобной информации отечественной антропологической школой истории культуры (М.М.Бахтин, В. Я. Пропп, О.М.Фрейденберг) еще в 1920;1940;е гг. был обоснован так называемый «динамический принцип» изучения культуры, когда в синхронном срезе ее описания исследователь выделяет наиболее архаические пласты и так постепенно восходит к ее истокам. А затем, двигаясь как бы обратно, от истоков, прослеживает трансформации древней структуры. Анализ данных источников в этом случае уже не будет чисто синхроническим.
Bd. IV. Oslo, 1928;47- Klare H.J. Die Toten in der altnordischen Literatur // Acta philologika Scandinavica. 1933/34. № 8. S. 1−56- Jarausch K. Der Zauber in der Islandersagas // Zetschrifit fur Volkskunde. 1930. Bd. l, Hft.3. Reier H. Heilkunde im mittelelterlichen Skandinavien. Seelenvorstellungen im Altnordischen. Kiel, 1976. 2.Bde.- Gottschling B. Die Todesdarstellungen in den Islendigasaga. Frankfurt a.M., 1986; Hasenfratz H.-P. Die religiose Welt der Germanen. Ritual, Magie, Kult, Mythus. Freiburg i. Br. 1992; Skaldsagas: text, vocation, and desire in the Icelandic sagas of poets / P. Russell (Ed.). Berlin, 2001. (=Erganzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde / hrsg. von H. Beck. Bd. 27).
Для такого «синхронически-диахронического» анализа скандинавская эпическая литература представляется весьма благодатной почвой: мы имеем дело с записью устной (хотя, разумеется, и «отредактированной») традиции, которая уже к моменту ее письменной фиксации была многослойной. Мифологические и героические песни «Эдды» датируются IX—XI вв., но наиболее архаичные по стилю и выраженному в них мировоззрению ее фрагменты восходят к древнейшим германским сказаниям, преимущественно франкским и готским. Эпическое время «Старшей Эдды» — это эпоха Великого переселения народов (IV-VIbb.) и «эпоха викингов» (1Х-Хвв.), в основных частях воспроизводящая особенности исторической жизни континентальных германцев IV-VIbb. «Мифологическая подпочва» (выражение Е.М. Мелетинского) сюжетов эддической поэзии, содержащих информацию о космологических и религиозных представлениях, делает ее ценнейшим источником для изучения мировидения германских народов эпохи язычества. Эпическое время используемых здесь родовых саг — X—XI вв., точнее, 930−1030 годы, охватывающие период от начала интенсивной колонизации Исландии до ее окончательной христианизации, хотя, как известно, еще в течение двух столетий после официального принятия христианства в 1000 г. в Исландии продолжало существовать и язычество. Таким образом, как показали, в частности, исследования А.Я.Гуревича111, в Скандинавии вследствие ее «отставания» в темпах экономического и социального развития и гораздо более позднего приобщения к христианской культуре «были надолго «законсервированы» архаические традиции духовной жизни, несомненно существовавшие (отчасти в других формах) и на континенте, но ушедшие под напором церковной и феодальной идеологии в глубокое «подполье» «, будучи «подавлены латинским языком и типом мышления» и2.
Разумеется, выявление этих «законсервированных» «архаических традиций» должно сопровождаться массой оговорок. Те фольклорные.
111 Гуревич А, Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; он же. Эдца и сага. М., 1979.
112 Гуревич А. Я. Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. С. 67. источники, к которым восходят саги, при записи были переработаны и переосмыслены с точки зрения быта и тех культурных и политических реалий, которые были характерны для времени их записи, кроме того подверглись редактированию в христианском духе, а главное, столь интересующие нас бытовые и исторические реалии соседствуют в них с бродячими литературными мотивами и топосами. Условно говоря, мы имеем в сагах две группы сообщений о повседневной жизни. Одна группа представляет собой довольно реалистические сообщения о некоторых приемах народной целительной (а в некоторых случаях и вредоносной) практики: нарезание рун, ношение амулетов, шаманские камлания, использование трав и предметов, наделяемых магическими свойствами. Эти сообщения — мелкие бытовые детали — проскальзывают в тексте как бы между прочим, отдельных ответвлений сюжетных линий собой не представляют и поэтому особых причин не верить им нет. Тем более что данные археологии, палеоботаники, этнографии дают 1 -7 подобному материалу многочисленные «независимые» подтверждения .
Иное дело — сюжеты, связанные с вмешательством в жизнь людей персонажей низшей мифологии или вовсе фантастические «рассказы в рассказе» об оживших покойниках, вступающих в поединок с героями саг или вызывающих эпидемии одним своим появлением на хуторе. Видеть в таких сюжетах относящиеся к высокому и тем более к позднему Средневековью прямые свидетельства живой веры в существование всех этих существ или актуального объяснения происхождения болезней вмешательством в мир живых мира мертвых было бы наивно. Как правило, в сагах эти сюжеты — не более чем топический мотив, кочующий из саги в сагу114. Но значит ли это, что их можно оставить без внимания?
113 Примером успешного функционирования метода сопоставления литературы с данными археологии и этнографии может служить исследование: Kabell A. Skalden und Schamanen. Helsinki, 1980.
114 Доказательства, основанные на анализе этого мотива в разных сагах, приводит В. фон Унверт: Unwert IV. v. Untersuchungen liber Totenkult und Odinnverehrung bei Nordgermanen und Lappen mit Excursen zur altnordischen Literatur. Breslau. 1911. S.83−96.
Обоснование возможности привлечения топических мотивов в качестве вполне полноправных исторических свидетельств возможно в рамках истории памяти, рассматривающей такие мотивы, равно как любое другое сообщение источника, как «факт культурной памяти». Культурная (или историческая) традиция памяти социальных групп является предметом изучения истории памяти — одного из новейших направлений современной исторической науки115.
Культурная память, как известно, возникает из памяти коммуникативной (термин Я. Ассманна116), т. е. живой памяти поколений, имеющей место в интерактивном контексте человеческих отношений в повседневной жизни. Как только коммуникативная память обретает жесткую форму фиксации при помощи одного из видов мнемотехники (например, записи), она превращается в достояние культурной (коллективной, социальной) памяти. Одной из таких специфических форм объективации культурной памяти и являются саги.
Формирующие саги устные предания — некогда живая память поколений, будучи записанными, «консервируют» коллективное знание и социальный опыт прошлого, обеспечивая таким образом трансляцию многочисленных смыслов культуры. Однако история памяти, в отличие от истории в привычном нам смысле слова, занимается не изучением прошлого как такового, а того прошлого, которое осталось в воспоминаниях, в том числе и в литературе о прошлом. Она концентрируется на том аспекте значения транслируемых традицией исторических артефактов, который является продуктом воспоминания о прошлом, т. е. обусловливает значимость фактов культуры прошлого в настоящем. Иными словами, цель истории памяти не в том, чтобы вычленить «историческую правду» из существующей традиции, а в том, чтобы проанализировать саму эту традицию как феномен коллективной или.
115 Арнаутова Ю. От memoria к «истории памяти» // Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 170−198 (особенно с. 188−191).
116 Теория культурной памяти и изучающей эту память науки, которую Ассманн назвал «историей памяти», обоснована им в ряде работ, особенно в монографиях: Assmann. J. Das kulturelle Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitat in den friihen Hochkulturen. Munchen, 1992; Idem. Moses der Agypter: Entzifferung einer Gedachtnisspur. Munchen [u.a.], 1999. культурной памяти117. Применительно к нашей проблеме это означает не отделение «исторического» от «мифического» в традиции, а анализ самих этих мифологических элементов традиции и условий их существования в настоящем. Почему они сохранились в культурной памяти? На момент записи саг упомянутые топические мотивы больше не были «отражением действительности», но по каким-то причинам память о них все еще была актуальна для общества, следовательно, они являли собой своего рода пункты фиксации прошлого в настоящем. А это, в свою очередь, позволяет рассматривать ставшие фантастическими сюжеты саг о пришельцах с «того» света как доказательство существования подобной этиологии в доисторические, т. е. не отраженные в письменных источниках, времена, тогда как в эпоху христианского Средневековья как в Скандинавии, так и в Западной и Центральной Европе восходящие к архаическому культу мертвых представления больше уже не были выражены эксплицитно.
Подобными формами манифестации культурной памяти можно счесть и разнообразные ритуалы и их редуцированную форму — обычаи, относящиеся уже к христианскому Средневековью, которые сами их исполнители также считают христианскими. Здесь мы подошли к разбору той группы источников, которую условно можно обозначить как содержащую информацию о религиозном поведении рядовых христиан в Средние века. Прежде всего это агиографические сочинения, к которым относятся не только жития святых, но и списки их чудес — миракулы.
Если церковная литература о суевериях документирует повседневные представления и стереотипы поведения, считающиеся греховными, то агиография дает нам, как правило, обратные примеры — образцы благочестивого поведения в болезни, в отношении к больным и одобряемых.
117 Подробнее о этом см.: Арнаутова Ю. Концепция «культурной памяти» у М. Хальбвакса и Я. Ассманна // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Л. П. Репина (Ред). М., 2005 (в печати). официальной Церковью целительных практик. Именно по ним можно судить о тех плодах, которые уже в высокое Средневековье начинает приносить диалог христианской этики с управляющей поведением в быту традицией. Эти плоды выражались, несомненно, не только в изменении плана выражения (в сторону его «христианизации») стереотипов поведения, но и в изменении содержания массового сознания, в углублении религиозности средневекового человека.
Об углублении религиозного чувства позволяет судить, в частности, сравнительный анализ миракул святых (обряда призыва святого) в раннее и в позднее Средневековье, когда увеличивается количество так называемых «чудес на расстоянии».
Жития и миракулы святых в последние три десятилетия, как только в науке обнаружился интерес к проблемам из области исторической антропологии, стали очень популярным источником среди историков, поэтому в особенной характеристике не нуждаются. Поскольку наиболее характерный признак агиографических текстов — в их моральной и литературной стереотипности, остановлюсь лишь на двух важных для нашей проблематики аспектах, обусловивших их специфику как источников.
Сколь бы критически не относились историки к агиографии как к жанру предельно консервативному, в отношении достоверного «исторического зерна» весьма сомнительному, по содержанию крайне стереотипизированному, именно эти «негативные» качества житийной литературы значительно облегчили задачу отбора текстов для исследования: проблема верифицируемости их данных не имеет никакого значения, ибо искомая информация принадлежит к стереотипной — анализу подвергаются сообщения о чудесах. Главное в этих сообщениях — описания обрядов призыва святого, принесения ему обета (votum), форма вотивного подношения, ритуалы и процедуры, свершаемые с реликвиями и у гробниц святых. Достоверность самого факта свершившегося чуда исцеления остается на совести автора миракул или жития, тогда как «практические подробности» исцеления сомнений обычно не вызывают: хотя здесь мы опять имеем дело, можно сказать, с «классическим» агиографическим топосом («чудеса святого»), этот топос может содержать достоверную и полезную информацию. Данное предположение теоретически обоснуемо следующими аргументами.
Агиографический топос чудес святого, подобно всем другим «общим местам» агиографических текстов, облеченным в форму библейских образов, сентенций, стереотипных формулировок и употребляемым как привычный аргумент «доказательства святости», обозначает постоянную связь некоторых понятий (в данном случае virtutes и miracula) и таким образом обеспечивает доступность изображаемого для восприятия, «узнаваемость» образа святого. Современные историки, как и столетие назад, видят в топосах «большой недостаток агиографии»: стереотипные высказывания топосов обесценивают источники, потому что автору «приходится отказываться от индивидуальных описаний и характеристик святого, все подводя под понятие топос и редуцируя до господствующих в то время идей"118.
Нынешнее скептическое отношение к топосу историков119 обусловлено прежде всего тем, что их подход основывается на рецепции, причем изрядно редуцированной и тривиализированной, чрезвычайно распространенной 1 концепции античного топоса Э. Р. Курциуса, сформулированной им еще в конце 1930;х гг. Собственно, из нее было позаимствовано два концептуальных момента — взгляд на топос как на ничего не значащий стилистический атрибут, своего рода «литературно-техническое средство», и как на «вневременный», неизменяемый феномен, что, конечно же, лишает его какой-либо ценности в глазах историков.
11S.
Nahmer D. v. d. Die lateinische Heiligenvita. Eine Einfuhrung in die lateinische Hagiographie.
Darmstadt, 1994. S. 169.
119 Подробнее об этом см.: Арнаутова Ю. Перспективы изучения агиографических топосов.
С.182−188.
120 Kurtius E.R. Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter. Tubingen-Basel, 1993 (11. Aufl.). Библиография к критическим комментариям концепции античного топоса Курциуса см: P. Jehn (Hg.). Toposforschung. Eine Dokumentation. Frankfurt a.M., 1972. (=Respublica literaria 10). S. VII-LXIV .
He так давно филолог Л. Борншойер, вновь обратившись к трактовкам топоса у основоположников античной теории топоса Аристотеля и Цицерона, привлек внимание исследователей к совсем другим его культурным характеристикам, а именно, к значению и роли топоса в античной риторике в его аргументативной функции и в амплификативно-изобразительной, т. е. усиливающей выразительность высказывания риторическими средствами. JL Борншойер предложил терминологически гораздо более точное, теоретически и исторически обоснованное понятие топоса как подвижной формы мышления или речи, всякий раз нуждающейся в новой, сопряженной с контекстом мотивации, что позволяет рассматривать топос как «универсальную описательную модель для выработки или репродукции, рецепции, комбинации, трансформации и актуализации коллективного знания в различных социальных контекстах и в различные исторические эпохи"122. Сказанное означает, что топос — это не неизменяемый стилистический или эстетический «реквизит», а «феномен социального или (в широком смысле) публичного дискурса», «подвижная форма мышления или речи, действенность которой всякий раз.
1 УХ обосновывается заново, в зависимости от контекста". Поэтому топос историчен: он является пунктом фиксации в настоящем актуального фрагмента специфического коллективного знания, приспосабливая его к новой ситуации и одновременно переформулируя возникающее новое знание так, чтобы оно вошло в письменную традицию в общепринятой и привычной форме. Применительно к нашей проблематике это означает, что заданная топосом тема, например, тема «чудесного» как аргумент святости, в агиографическом произведении в результате амплифицирования, т. е. ее расширения и приспосабливания не только к обстоятельствам жизни героя жития, но и к актуальным идеям и настроениям эпохи, в которую живет сам автор, может осмысляться и излагаться автором весьма индивидуально. Иными словами,.
Bornscheuer L. Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. Frankfurt a.M., 1976; Idem. Neue Dimensionen und Desiderata der Topikforschung // Mittellateinisches Jahresbuch. 1987. Bd.22. S. 2−27.
199 •.
Bornscheuer L. Neue Dimensionen und Desiderata der Topikforschung S. 17. стереотипное «общее место» отнюдь не ограничивает творческой фантазии и возможностей автора. Поэтому тот материал, который автор подводит под топос «чудо», вполне может иметь «историческое зерно», лишь завуалированное средствами риторики: амплифицирование такого топоса, т. е. описание конкретных обстоятельств чуда и поведения больных, оказывается, как правило, весьма информативным124.
Использованные в данной работе жития святых можно разделить на две группы.
К первой группе относятся тексты, содержащие информацию о восходящих к Священному Писанию приемах классического харизматического лечения" (возложением рук или креста, водой от умывания), об изгнании демонов или «чудесах в наказание». Это относящиеся к раннему Средневековью жития ирландского миссионера св. Галла (VI в.) и 1 реймсского епископа Ремигия (IX в.) .
Житие арльского епископа Цезария126 — одного из основоположников института средневековых госпиталей — несмотря на типизированный портрет своего героя, считается одним из главных источников информации о первом в Европе епископском госпитале. Об устройстве первых монашеских госпиталей в свою очередь позволяет судить устав бенедиктинского ордена — Regula Benedicti (817 г.)127.
Для истории госпиталей на ее более позднем этапе, в эпоху движения добровольной бедности (ок. 1200 г.), а также темы отношения к больным в обществе и в частной жизни особенно содержательным источником является.
123 Bornscheuer L. Topik. Zur Struktur der gesellschafitlichen Einbildungskraft. S. 20.
124 Подробное доказательство этой идеи на конкретных примерах из агиографии см.: Арнаутова Ю. Перспективы изучения агиографических топосов. С. 205−212.
125 Vita sancti Galli auctore Wettino// MGH Scipt. Rer.Merov. Т. IV./ B. Krusch (Ed.) Hannover, 1902 S. 257−280 — Vita Remigii ep. auctore Hincmaro // MGH Scipt. Rer. Merov. T. 2. / B. Krusch (Ed.). Hannover, 1896. S. 250−349.
126 Vita s. Caesariill Sancti Caesarii episcopi Arelatensis opera omnia / G. Morin (Ed.). Maretsous, 1946. T.2. P. 293−345.
127 Regula Benedicti/ P.B.Steile (Hg.). Beuron, 1980. S. 71. t житие св. Елизаветы Тюрингской (ум. 1231 г.) марбургского архиепископа Конрада, бывшего духовником ландграфини. Оно же — один из важнейших источников по содержанию религиозности в высокое Средневековье.
Елизавета Тюрингская была дочерью венгерского короля, в 14 лет вышла замуж за одного из могущественнейших немецких князей, произвела на свет троих детей, в возрасте 20 лет овдовела и посвятила себя призрению бедных. Елизавета, разделявшая идеи св. Франциска о добровольной бедности и необходимости каритативной деятельности, на свои средства создала госпиталь в Марбурге, освятив его именем св. Франциска. Изганная из дома родственниками, она всю себя посвятила священному долгу сига раирегит и в 1231 г. умерла от физического измождения в возрасте 24 лет. Эта молодая женщина пережила конфликт «бедности» и «сословия» самым прямым образом и вплоть до сего дня считается символом «христианской помощи бедным и больным в немецком Средневековье"129.
Впрочем, жизнеописания епископа Цезария и ландграфини Елизаветы Тюрингской следует причислить уже к условно выделяемой мною второй группе. К ней относятся жития святых, написанные вскоре после их смерти людьми, знавшими их лично или располагавшими рассказами очевидцев. В таких житиях наряду с типичными сюжетами о чудесах, как правило, встречаются любопытные сообщения, существенно уточняющие общую картину.
1 ^П.
Так, житие архиепископа св. Ульриха Аугсбургского (ум. 938 г.) было написано его доверенным лицом священником Герхардом, который оставил нам заинтересующее любого психотерапевта сообщение о необычном заболевании некой монахини. Автор жития св. Эрминольда (ХШв.) не был его современником, но зато был монахом обители, которую основал этот святой столетием раньше. Подробное описание целительных процедур у могилы.
128 Издание жития и миракул см.: A. Huyskens (Hg.). Quellenstudien zur Geschichte der hi. Elisabeth Landgrafin von Thuringen. Marburg, 1908.
129 Wollasch J. Gemeinschaftsbewufitsein und soziale Leistung im Mittelalter I I Fruhmittelalterliche Studien. Bd. 9. 1975. S. 268−286 (S.284). святого аббата базируется, видимо, на его собственных наблюдениях. Житие аббатисы саксонского монастыря Бруннсхаузен св. Хатумоды131 написано ее близким родственником (дядей?) корвейским монахом Агием в 876 г. Он часто посещал смертельно больную аббатису, и та поверяла ему свои странные сны, которые Агий затем пересказал в ее житии — случай необычный, поскольку церковные авторы вслед за теологами скептически относились к сновидениям.
Житие св. графа Геральда из Ауриллака132 вскоре после его смерти в 909 г. составил второй клюнийский аббат Одо (927−942) — «самый значительный биограф темного столетия"133.
С самого начала Одо, по-видимому, не собирался писать житие: местный епископ предложил расследовать ему возникший спонтанно культ святого мирянина. Однако после расспросов свидетелей жизни благочестивого графа и сопоставления их рассказов Одо изложил результаты своего расследования в форме жития святого. Поэтому данное житие-протокол отличается высокой степенью историчности и дает вполне индивидуализированный портрет святого Геральда. Сведения о свершенных им уже при жизни чудесах Одо изложил во второй книге жития (Lib. II) — в четвертой книге (Lib. IV) собраны постмортальные чудеса, т. е. она являет собой род миракул. И хотя эти (весьма многочисленные) чудеса довольно стереотипны, воссозданная Одо картина поиска верующими — больными и калеками — возможности приблизиться к святому, умолить его о чуде исцеления или хитростью получить целительную воду от умывания очень живо и реалистично отражает эмоциональную атмосферу, складывающуюся вокруг культа святых и, в конечном итоге, способствующую возникновению того, что З. Фрейд в свое время назвал ведущим к исцелению психосоматических заболеваний «аффективным резонансом».
130 Vita s. Oudalrici / D. Weitz (Ed.) MGH Scriptores. T.IV. S. 381−424.
131 Vita Hathumodae / G. Pertz (Ed.) MGH SS. Т. IV. S. 165−175.
Sancti Odonis abbatis cluniacensis II de vita sancti Geraldi auriliacensis comitis libri quatuor / J.P.Migne (Ed.). PL. T. 133. Coll. 640−709.
133 Berschin W. Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. Stuttgart, 1999. Bd. 4(1). S. 30.
Гораздо более детализированную информацию о бытовых реалиях в сфере взаимоотношения человека с болезнью — своей или близких, о мелких обстоятельствах, снах и эмоциональных реакциях, симптомах болезней и целительных ритуалах у могил святых или с применением их реликвий содержат миракулы святых.
Miracula — это реестры чудес, свершенных святым после смерти {miracula post mortem), тогда как прижизненные чудеса {miracula in vita) упомянуты обычно в тексте жития. Раннесредневековые миракулы часто писались по поводу перенесения (translatio) мощей святого в новое место. Так, возникшие в конце X в. miracula св. Гангульфа134 повествуют о чудесах, случившихся, пока шло строительство новой церкви в Туле для мощей святого.
С конца XII столетия этот, агиографический жанр становится особенно популярным в связи с введением практики папских канонизационных процессов. Свидетельствующие о чудотворной силе святого (yirtutes) миракулы {miracula), сформулированные в виде articuli, служили главным аргументом для канонизации.
Идея составлять реестры чудес святого, лежащая в основе жанра миракул, коренится в самой сущности интерпретации святости. Святость подразумевает нравственное совершенство человека — идеального христианина, обладающего всем комплексом значимых для христианской этики добродетелей {yirtutes). В свою очередь, такое экстремальное обладание добродетелью является залогом того, что человек наделяется Божественной благодатью (gratia Dei), позволяющей ему творить чудеса. В этом смысле чудеса являются внешним проявлением святости как знака внутреннего совершенства: Бог являет окружающим выдающиеся достоинства (yirtutes) своего слуги (famulus Dei) через чудеса {miracula). Таким образом, взаимодополняющие аспекты образа святого, в котором сочетаются как virtutes, так и miracula, отвечающие.
134 Vita et miracula Gangulfi martyris varennensis / W. Lewison (Hg.). MGH SSRM. Bd. 7. S. 142ожиданиям разных слоев общества, агиографам удавалось передавать благодаря многозначности понятия virtus в житиях и миракулах: им обозначались как нравственные достоинства святого, так и его чудотворная сила и даже само чудо135.
На практике эта идея подтверждения выражающейся разными способами святости — через добродетели для людей образованных и через чудеса для простого народа (ignobile vulgus) — привела к тому, что миракулы высокого и позднего Средневековья составлялись в виде своего рода протоколов, в соответствии с разработанным курией вопросником {forma interrogatorii). Примером практического применения forma interrogatorii может служить документация по процессу канонизации Елизаветы Тюрингской в октябре 1232 г., к которой приложен список следующих пунктов, нуждающихся в ответе:
— откуда свидетель получил информацию о чуде;
— когда, при каких обстоятельствах он получил эту информацию;
— точная дата получения информации (день и месяц);
— где и в присутствии кого он узнал о чуде;
— кто участвовал в призыве святого, свершившего чудо;
— как формулировался призыв;
— имя человека, ставшего объектом чуда [исцеления];
— был ли свидетель прежде знаком с этим человеком;
— как долго свидетель видел этого человека больным;
— как долго исцеленный был больным;
— как долго свидетель видел здоровым этого исцеленного;
— в какой местности/в каком городе живет свидетель136.
Как видим, случай чуда (в основном это были чудеса исцеления или иной экстренной помощи в нужде) должен был подтверждаться рассказом самого исцеленного и (или) других свидетелей. Поэтому такие миракулы содержат не.
135 Арнаутова Ю. Житие как духовная биография: к вопросу о «типическом» и «индивидуальном» в латинской агиографии // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории / Л. П. Репина (Ред.). М., 2001. № 5. С. 254−278 (С.276). только описание (иногда очень подробное) случившегося, но и массу других сведений — имена, возраст, род болезни или иной немощи, место жительства исцеленных, их действия, мысли и желания. В этом смысле миракулы — наш важнейший источник не только в разделах, посвященных целительной практике, но, в особенности, там, где речь идет об отношении к больным в частной жизни и со стороны общества, о переживании собственной болезни и болезни близких, о госпиталях и иных формах призрения страждущих. Именно их сведения позволяют скорректировать многие устоявшиеся в исторической науке мнения об этой сфере жизни в эпоху «христианского Средневековья».
Для подробного анализа (более 600 случаев исцелений) в данной работе были использованы миракулы нескольких наиболее популярных «местных» святых. Речь идет прежде всего о четырех книгах миракул кёльнского архиепископа Анно II137, написанных по поводу перенесения его реликвий в Зигбург незадолго перед канонизацией его в 1183 г., о миракулах св. Елизаветы Тюрингской, представляющих собой протокол канонизационной комиисии.
1 то.
1232−33 гг., о миракулах post mortem (IV книга жития) св. Геральда из Ауриллака139, бургундского святого графа Гангульфа и популярного в Скандинавии святого Олава140.
Основным аргументом в пользу выбора именно этих источников из многих десятков миракул других святых является не только стремление их авторов к детальному изложению обстоятельств чуда, внимание к мыслям и чувствам самих исцеленных, но и впечатляющая репрезентативность: в отличие от «среднестатистических» миракул миракулы св. Анно Кёльнского, например, описывают 307 (!) случаев исцеления. Разнообразить картину массовых.
136 См. прим. № 138.
1 Т7.
Mittler М. (Hrsg.). Libellus de Translatione Sankti Annonis Archiepiscopi et miracula Sankti.
Annonis. Siegburg, 1966;68. 11Й.
Изданы вместе с житием и свидетельствами ее служанок: A. Huyskens (Hg.). Quellenstudien zur Geschichte der hi. Elisabeth Landgrafin von Thiiringen. Marburg, 1908. S. 160−239.
139 Sancti Odonis abbatis cluniacensis II de vita sancti Geraldi auriliacensis comitis libri quatuor. Lib. IV/ Migne, PL. T. 133. Coll. 697−709.
140 Vita et miracula Gangulfi martyris varennensis/ W. Lewison (Hg.). MGH SSRM. Bd. 7. S. 142 174- Passio et miracula beati Olavi / E. Metcalfe (Ed.). Oxford, 1881. исцелений позволили некоторые особенно интересные и необычные сюжеты из других миракул, в частности, св. Девы Вальбургии, св. Гильберта Семпрингеймсского, св. Катарины Шведской и др.141.
Количество агиографических источников в данной работе можно было бы преумножить, однако практического смысла это не имеет. Во-первых, потому что передаваемая ими информация (чудесные исцеления, целительные ритуалы, психологические установки и реакции), еще раз повторю, для данного жанра стереотипна. Во-вторых, крупномасштабные исследования миракул, в которых проведена статистическая обработка такой информации на материале обширной источниковой базы, уже существуют, и там, где для убедительности или иллюстративности данной работы требовались цифры или типичные примеры, я к ним многократно прибегала. В этом отношении особенно полезной оказалась работа бохумского историка П. Трюба «Святые и болезнь"142. На 1216 страницах своего труда он изложил самые разнообразные сведения медицинского характера из области культа западно-европейских католических святых, в том числе и средневековыхвсе количественные данные собраны им в 171 таблицу. Данные о всевозможных патронатах католических святых приводятся также в справочнике Д. Керлера143.
В целом следует признать, что в русле исторической антропологии миракулы святых с их многочисленными экскурсами в повседневную жизнь средневековых людей стали одним из излюбленных историками источников. Однако, если в конце 1970;х и в начале 1980;х гг. исследования миракул, тогда еще единичные (во Франции это были работы П. А. Сигаля, как уже говорилось выше, еще в 1969 г. предложившего общую парадигму исследования источников этого жанра, в Германии — Н. Олера и К. Рендтель), действительно.
141 Miracula s. Walbirgis Monheimensia // Quellen zur Geschichte der Diozese Eichstatt /А. Bauch. (Ed.). Regensburg, 1979. Bd. II. S.142−348- Libellus de inquisitione miraculorum Gileberti de Sempringham et alia miracula S. Gileberti // Un proces de canonisation a l’aube du XIII siecle (1201−1202): Livre de Sain Gilebert de Sempringham / E. Foreville (Ed). Paris, 1943. P. 45−73- Miracula Defixionis Domini/ T. Lunden (Ed.). Goteborgs Hogskolas Arsskrift, 1949 -1950.
142 Trtib C. L. P. Heilige und Krankheit. (= Geschichte und Gesellschaft. Bochumer historische Schriften. Bd.19). Stuttgart, 1978.
143 Kerler D.H. Die Patronate der Heiligen. Ulm, 1905. впечатляли своей новизной, то в начале 1990;х гг. такие исследования стали массовыми и довольно однообразными. Как источники серийные, миракулы особенно подходят для статистической обработки, поэтому исследователи, как правило, не шли дальше того, чтобы подсчитывать процентное соотношение больных с определенными симптомами, определенного социального статуса, пола или возраста с общим количеством исцеленных тем или иным святым или выискивать особенно необычные случаи, особенно детализированные описания. При таком подходе — сами историки называют свой метод дескриптивным144 — эвристический потенциал миракул как источника для исторического исследования быстро исчерпался.
Однако здесь можно указать на существенный резерв, наличествующий в этой группе источников: возможность анализа упоминаемых ими ритуалов и магических действий методами, обычно используемыми этнологами. Следует заметить, что это отнюдь не те методы, к которым прибегает историческая антропология, в частности, в Германии. Как мне уже доводилось писать, на формирование этого направления в целом оказали влияние три главных фактора — социальная история, этнология и история ментальностей, хотя в разных странах констелляция этих факторов была неодинаковой. Во второй половине XX в. этнология в Германии, после ее подъема на рубеже XIX/XX вв. больше не соответствовала мировому уровню. И в то время как французская историческая антропология, например, обогатилась идеями К. Леви-Строса (многие наблюдения которого используются также и в данной работе), немецкая историческая антропология испытала очень сильное влияние работ американского этнолога К.Гирца. Речь в них идет не о применении «теории» для объяснения данных эмпирических исследований, а о рассмотрении социальных феноменов в смысле их «плотного описания» из «перспективы аборигенов"145. Описание при этом должно строиться так, чтобы современный читатель мог понять чуждую ему культуру, т. е. исследователями декларируется.
144 Wittmer-Butsch М.Е., Rendtel С. Miracula. Die Wunderheilungen im Mittelalter. S. 325. наблюдение с участием". Свои критические замечания по поводу всей ограниченности исторического исследования как «описания», пусть даже и «сопереживающего», я уже имела случай опубликовать отдельно146. Но что можно предложить взамен?
В сюжетах миракул об исцелениях святыми мы имеем сведения о разных формах ритуальной практики, которую ее исполнители — рядовые верующие, ищущие помощи святого, мотивируют с позиций христианской религии (историки называют это поведение народным благочестием). Их исполнению официальная Церковь, даже если не всегда одобряла, тем не менее не препятствовала, т. е. с известными оговорками христианской этике — как ее понимали рядовые христиане — они не противоречили. А как именно понималась христианская этика в обыденной жизни, на практике, можно выяснить, если протестировать эти обряды на предмет их генетического родства с обрядовой практикой из арсенала осуждаемых канонической литературой «языческих суеверий» или из скандинавских источников.
Иными словами, системный анализ и сопоставление структурных единиц «архаических» дохристианских и «собственно средневековых», мотивируемых религиозно ритуалов, целительных практик, представлений позволяет подробно проследить, как — в каком объеме и в каких формах — происходило взаимодействие регулирующей поведение в повседневной жизни традиции с христианской этикой.
Приемы такого анализа давно разработаны в отечественной этнологии. В соответствующих разделах о них будет сказано более подробно, здесь я ограничусь лишь рядом общих замечаний.
Еще в 1920;е гг. русский этнолог П. Г. Богатырев, впервые применивший методы семиотики к изучению обрядового поведения, показал, что несмотря на вариативность обрядов в синхронном и диахронном сравнении, существуют некие «общие правила» их построения, обеспечивающие эффективность этих.
145 Эти идеи высказаны К. Гирцем в ряде его работ: Geertz С. The interpretation of cultures: selected essays. New York, 1973. обрядов в глазах их исполнителей147. Выявление этих «общих правил», поиск культурных инвариантов позволяет сопоставить обряды одинакового назначения из разных эпох — в нашем случае, древнегерманские, собственно средневековые и зафиксированные немецкими этнографами уже в Новое время.
Их можно также соотнести с разными стереотипами поведения, разделив их на соответствующие «религиозному» поведению, т. е. не противоречащие христианской этике, с одной стороны, и понимаемые как греховное поведение (условно назовем его «магическим»), с другой. Однако именно в этом пункте — что считать греховным, что — нет, взгляды официальной Церкви и рядовых христиан часто расходились. Поэтому применительно к целительным обрядам становится особенно актуальным вопрос о мотивации их действенности с разных точек зрения. Объяснение (мотивация) обряда его исполнителяминеобходимое условие синхронного анализа, но именно этих сведений источники в эксплицированном виде нам не предоставляют. Здесь может оказаться полезной разработанная английским этнологом В. Тэрнером148 методика анализа ритуала, нацеленная на выявление его смыслов (так называемых уровней символической референции), которые отчетливо раскрываются исследователю при условии знания им основных семантических параметров ритуальных символов — мельчайших единиц ритуала. При этом, если явный или латентный смысл ритуала, т. е. осознаваемый исполнителями или могущий быть таковым, выявляется в зависимости от космологических представлений и религии среды, где он практикуется, то скрытый, относящийся к «коллективному бессознательному» смысл следует выявлять путем сопоставления значения символов с практикой их применения и через соседство с другими символами (так называемые операционный и позиционный параметры символов). Помимо этого, глубинная семантика как архаических, так и народно-христианских обрядов выявляется.
146 Более подробно см.: Арнаутова Ю. Е. Между «обществом» и «культурой». С. 370,374.
147 Богатырев П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья / Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. С. 169−296. М., 1971. этнографическими методами, основанными на коммуникативной теории магии, разработанными, в частности, Е. С. Новик в ее исследовании о соотношении повествовательного фольклора с обрядами у народов Сибири149.
Последней большой группой источников, о которой необходимо упомянуть отдельно, являются тексты из области ритуальной словесности: церковные формулы благословений, заклятий, экзорцизмов, их «народные» версии, возникшие уже в позднее Средневековье, а также народная вербальная магия — заговоры и заклинания Нового времени (текстов дохристианских заклинаний не сохранилось).
Это группа внешне и по происхождению весьма разнородных текстов, которые, тем не менее, объединяются в силу их общей функциональной направленности: они заменили запрещенную Церковью языческую вербальную магию, в архаическом обществе являвшуюся своего рода технологией, необходимой практически во всех областях жизни. Если вербальные формулы Нового времени были записаны и опубликованы этнографами150, то средневековые церковные благословения в начале XX в. были собраны по архивным рукописям и церковным служебным книгам австрийским католическим священником А. Францем151. По сей день это самое авторитетное (и единственное) их издание.
Церковные вербальные формулы как форма «малых таинств» (sacramentalia) Церкви, практикующихся во внелитургической сфере, возникают очень рано, в VI—VIII вв., и в небольшом количестве. В строго теологическом смысле в отличие от святых таинств они не обладали Божьей.
148 Тэрнер В. Миф и ритуал. М., 1983.
149 Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: опыт сопоставления структур. М., 1984; Она же. Архаические верования в свете межличностной коммуникации/ Историко-этнографические исследования по фольклору. М., 1994. С. 110−163- Она эюе. Вербальный компонент промысловых обрядов/ Малые формы фольклора. М., 1995. С. 198−217. Подробнее об этих методах см. ниже раздел 1.3.1.
150 Ebermann О. Blut und Wundsegen in ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin, 1903; Eis G. Altdeutsche Zauberspruche. Berlin, 1964; HamppJ. Beschworung, Segen, Gebet. Stuttgart, 1961.
151 Franz A. Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Bd. 1−2. Graz, 1960. (N.D.) благодатью {gratia Dei). Их назначение было скорее «вспомогательным» -облегчить верующим путь к ее постижению. Однако в обыденной жизни их высший смысл довольно быстро отступил перед практическими нуждами прихожан (благословение полей, хлева, дома, оружия, начала всяких работ, больных и предметов, предназначенных для лечения), и в угоду этим нуждам количество таких формул стало быстро расти. Уже в конце раннего Средневековья возникает целый комплекс церковных вербальных формул на все случаи жизни. В позднее Средневековье, после XIV в., по их образцу спонтанно стали возникать благословляющие формулы на народных языках, которыми пользовались уже не священники, а миряне. Проследить динамику развития всего комплекса церковных вербальных формул по пути сближения с народной вербальной магией несложно: А. Франц приводит тексты из разных периодов Средневековья, как «официальные», включенные в литургические тексты, так и те, к которым Церковь относилась весьма скептически.
В том, что касается судьбы архаических фольклорных жанров — заговоров и заклинаний, на помощь вновь приходят методы этнологии и фольклористики. Мы не знаем исходных текстов языческих заклинаний, но публикации этнографов зафиксировали итоги процесса их приспособления к изменившимся культурным условиям. Параллельно с возникновением и функционированием церковных формул в толще народной культуры шел процесс замены древних форм вербальной магии на более уместные, дмш7-христианские, т. е. апеллирующие к силе Бога, святых, знака креста и т. п. Иными словами, на протяжении всего Средневековья шел активный процесс приспособления дохристианской ритуальной словесности к требованиям христианской этики, отдельные стороны которого мы можем проанализировать, наблюдая пути и формы трансформации древнего фонда вербальной магии. Методы, применяемые для такого анализа, разработаны фольклористами и в целом сходны с описанными выше методами изучения ритуалов, направленными на выделение их архаического ядра и выявление глубинной семантики их символов.
В заключение раздела следует еще раз подчеркнуть, что для решения исследовательской задачи данной работы — выявления путей и форм взаимодействия архаической традиции и христианской этики как конкурирующих в сфере моделирования социального поведения систем — перечисленные выше группы исторического материала «работают» только будучи взятыми в комплексе. Сам их выбор был обусловлен необходимостью построить такую модель исследования, которая позволила бы сопоставить синхронно существующие стереотипы поведения и представления, отношение между которыми можно объяснить только при помощи диахронической схемы. Поэтому столь большое внимание уделяется выявлению «исторических корней» собственно средневековых феноменов и анализу их последующей динамики вплоть до Нового времени (при том, что акцент в исследовании делается все же на VI-XIII столетиях). Только так, по моему глубокому убеждению, само «христианское Средневековье» можно представить не как абстрактную эпоху тотального господства христианской религии и мировидения во всех сферах жизни, а как процесс, динамическую систему, все части которой изменяются с различной скоростью.
Заключение
.
Христианизация европейских народов, не принадлежавших античной культуре, была процессом особого рода, поскольку здесь в соприкосновение пришли не просто две религии — язычество и христианство, а две совершенно разных культуры и типа мышления, два уровня цивилизации, различия которых, во-первых, проявлялись практически во всем и, во-вторых, сохранялись в течение многих столетий. Давайте сравним, для примера, позднеантичный город Кельн и лежащие напротив, по правому берегу Рейна, германские деревушки. Разделенные рекою стояли друг напротив друга не просто каменные архитектурные постройки, с одной стороны, и деревянные или плетеные хижины — с другой, но нечто гораздо большее. Кельн был городом со специальным стеклодувным производством, в то время как праворейнская крестьянская культура обрабатывала разве что дерево, знала еще ткачество и только начинала осваивать плуг с железным лемехом. Друг напротив друга стояли два мира, один — с разработанным правом, юристами и судами, другой — с обычаем приносить клятвы или устраивать поединки для решения правовых споров. Школам, чтению и письму одного мира противостояли родовые легенды и магические ритуалы другого.
И вот в этом культурном пространстве на сцену выступает христианство. По сути своей это была религия «высокая» и требовала соответственно более высоких культурных предпосылок. В основе ее лежала книга — Библия, значит, требовалось умение читать, писать, и главное, понимать прочитанное. Собственно, каждый верующий должен был уметь читать Библию, знать и понимать важнейшие христианские молитвы и основные догматы. Но как все это в действительности сложилось в бесписьменном обществе? Даже если на минуту представить себе, что стремление к грамотности у верующих было, как практически можно было претворить его в жизнь? Плотность населения праворейнских германцев в то время оценивается как 2,5 человека на кв. км.
Как тут собрать детей в школу? Арльский епископ Цезарий — последний великий проповедник позднеантичной Галлии, еще мог требовать от своих слушателей читать Библию. В средневековой Германии это было уже невозможно. Только в XV в. умение читать снова стало широко распространенным явлением, а изобретение книгопечатания позволило издавать относительно дешевые и доступные книги.
Что означало для христианства тысячелетие без общедоступной книги? И какие трудности в понимании христианского учения представали даже перед теми, чьи предки уже много поколений назад приняли христианскую веру? Германские языки мало подходили для выражения многих христианских понятий. И, как известно, процесс создания подходящего для христианства языка, включающего слова для выражения не только догматических понятий, но и важных для христианина чувств и душевных состояний, растянулся на весь период Средневековья.
Все это проблемы, над которыми нельзя не задуматься, если задаваться вопросами о содержании религиозного сознания в эпоху «христианского Средневековья» и оценивать степень, формы и плоды воздействия христианской этики на поведение и внутренний мир рядовых христиан. Поэтому вряд ли первые века распространения христианства в «землях севернее Альп» стоит изображать как конфронтацию высоких теорий или религиозных догм — таковыми традиционная культура населявших их народов просто не располагала. Следы этого воздействия следует искать, скорее, в повседневной практике, поэтому представить одну из сфер обыденной жизни, а именно народную медицину, как своего рода арену для наблюдения взаимодействия христианства с традиционным жизненным укладом и в этом смысле диалога культур, вполне оправдано.
Своеобразие этого диалога обусловлено прежде всего тем, что на почве обыденной жизни столкнулись не столько даже два разных по способу трансляции и организации знания типа культуры — «устная» и «письменная» (значение последней в повседневной жизни «неграмотных простецов» было невелико), сколько две разных моделирующих социальное поведение системы представлений и образцов поведения, в различной степени осознаваемых и вербализуемых, при посредстве которых истолковывается всякое восприятие действительности и мотивируется всякое действие — архаическая традиция и христианская религиозная этика.
В основе христианской этики, предназначенной научить человека «правильной жизни» и тем самым спасти свою душу, лежат идеи греха как преступления против воли Бога и его нравственных предписаний, а также смирения, любви и милосердия. В отношении именно этих этических категорий были проанализированы те сферы обыденной практики, которые имеют отношение к объяснению, восприятию, переживанию болезни, к ее исцелению и отношению к больным. Иными словами, при всей комплексности поставленных в данной работе исследовательских проблем и многообразии затронутых тем, ее центральная задача состояла в том, чтобы на конкретных примерах показать пути проникновения основных идей христианского этического учения в традиционно-бытовой уклад жизни рядовых христиан, выяснить их объем и содержание, а также формы усвоения и плоды воздействия на далекую от религиозного культа сферу повседневности, где их обнаружение сопряжено с особенными трудностями, показав при этом степень участия традиции в формировании новых, считающихся «христианскими» практик и представлений, и таким образом проанализировать во взаимодействии основные факторы культурной динамики «христианского Средневековья».
Первостепенное значение именно такой постановки проблемы обусловлено тем, что христианизация была не просто сменой религии, заменой одного представления о боге на другое. В идеале она должна была означать глубочайшие изменения в структуре личности. Христианское религиозное мироотношение, этика, особенно такие ее категории как смирение, сомнение или раскаяние, должны были разрушить весь прежний жизненный уклад, освободить личность от гнета традиционной установки «делать так, потому что так делали всегда» и обучить ее индивидуальному нравственному самоконтролю, исходя из которого она сможет сама оценивать свои действия и осознанно выбирать между грехом и добродетелью. Поэтому Церковь в пылу цивилизаторской деятельности столь решительно вмешивалась во все сферы повседневной жизни прихожан, стремясь выявить и искоренить то, что считала греховным и суеверным, и утвердить христианские нормы поведения.
При оценке итогов этого вмешательства — процесса этического воспитания средневекового общества — следует учитывать, по меньшей мере, два обстоятельства. С одной стороны, нельзя не принять во внимание, что средневековая народная культура «начинается» отнюдь не в Средние века. Типологически — это все та же подчиненная авторитету традиции устная культура эпохи «варварства», за которой стоит мифологическое мышление, со всеми присущими ему особенностями. Но, с другой стороны, феноменологически — это уже совсем иная культура. Миф как формообразующая и смыслообразующая структура массового сознания продолжал жить и воспроизводиться уже на новой, «христианской», почве. Если вслед за Л. П. Карсавиным считать веру «совокупностью положений религии», а верующим — человека, который считает «хотя бы смутную для него совокупность их истиной"1, то не оставляет сомнений тот факт, что изучаемая нами культура была все же культурой не «подвергшихся формальной христианизации язычников», а людей, которые осознавали себя христианами и, как умели, подстраивали свое поведение под предписываемые этикой «правильные», «христианские» (как им казалось) образцы. Следовательно, особый исследовательский интерес приобретает вопрос о том, каков был спектр возможностей, предоставляемых средневековой народной культурой, по своему характеру традиционной, устной, приспособить все то, что можно условно назвать мифологией болезни (ее объяснение, переживание, представление о способах побороть ее) к изменившемуся культурному контексту. Словом, как.
1 Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв., преимущественно в Италии. Пг., 1915. С. 4. христианизуются" вся мифология болезни и стоящие за нею целительные практики?
Плоды этой «христианизации» оказались несколько неожиданными для самой Церкви и были несовершенны, а порою вообще далеки от тех идеалов, которые она стремилась привить своей пастве. Но причины этого следует искать не в злой воле «упорствующих в суевериях» темных прихожан, а, с одной стороны, в типологических особенностях их культуры и в особенностях самой христианской этики раннего и высокого Средневековья, с другой. Именно на последнее обстоятельство (хорошо изученное узкими специалистами в области исторической теологии) редко делают скидку историки, когда говорят о раннесредневековом «нехристианском христианстве».
То специфическое доминирование «сознательно-интенционального», идея которого была достигнута в общественной мысли с переходом к «осевому времени» и присутствует в античной философии, в израильском профетизме, в христианской патристике, отчасти действительно было утеряно ранним Средневековьем. Принятая вплоть до XII столетия практика «тарифицированного покаяния» вызывает ассоциирование этики с простыми формами запретов. До того, как грех (у Абеляра) стал «виной души» и «намерением» действовать против Божественной воли, перед христианами, тем более перед теми, кого авторы пенитенциалиев называют ignobile vulgus, проблема выбора стояла только в отношении формы поведения, а не его интенций или каких-либо «представлений».
Поэтому, несмотря на активную критику Церковью (точнее, церковными авторами) «языческих суеверий», под категорию которых попали и все традиционные, унаследованные от дохристианской архаики представления о происхождении болезней, в обыденной жизни средневекового общества они сохранились практически в полном объеме. Первой и главной причиной этого следует считать устный характер средневековой народной культуры, что позволяет говорить о ней как о культуре с преобладанием мифологического типа мышления с его логической диффузностью, метафоричностью, неотделенностыо от сферы эмоционального. Именно аффективная сторона мифологического мышления является питательным источником для символизации представлений о действительности, поэтому традиционные объяснения болезни — это не результат абстрактной работы мысли, а цельные мифические образы. В них болезнь или иная травматическая ситуация символизируется и остается в мифе не в своем реальном виде, а преображается, входя в совсем иную структуру, чем это было в действительности. Так рождаются представления о болезнях, насланных колдунами, мертвыми и иными персонажами низшей мифологии, о «сглазе» и «оговоре». Неотчетливое разделение мифологическим мышлением субъекта и объекта, предмета и знака, начала и принципа обусловило персонификацию болезни в народных представлениях в образе червя, который гложет человека, «стрелы» («удара», «укола»), внезапно поражающих его, или некоего «существа» — называемой по имени болезни-«персоне» sui generis. Являя собой лишь конфигурации метафор, далекие от естественнонаучных реалий или стройной системы, все народные этиологии различаются лишь материалом образов, которыми оперируют. Их внутренняя, мифическая, структура, благодаря которой они и выполняют свою символическую функцию, остается неизменной: это объединяющая всё разнообразие этиологических конструкций мифологема о болезни как некоей чужеродной силе или влиянии, исходящем «извне». Она базируется на основополагающей для мифологической картины мира оппозиции своего и чужого миров и на характерной для устной культуры установке на предполагаемую реальность независимого воздействия таких нематериальных субстанций как слово, мысль, взгляд, желание.
Но разве средневековые христиане отвергали при этом теологическое объяснение происхождения болезни по воле Бога? Отнюдь нет. Обе этиологические модели — архаическая и христианская — безотчетно сосуществовали в массовом сознании как взаимодополнительные и не подвергаемые объективному анализу, а актуализировались — соответственно случаю и моменту.
Разумеется, популярная христианская версия объяснения болезни не во всем соответствовала теологической догме. Запретив традиционные этиологии как «суеверия», католическая Церковь взамен предложила собственное, включенное в христианскую космологию, теологию и этику понимание болезни, в котором главный акцент в осмыслении болезни плоти (infirmitas corporis) приобретает рефлексия о бесплотной человеческой душе. Оно сформировалось в русле этической идеи об осуждении человечества вследствие первородного греха {propter peccatum primi hominis) и было двуплановым: болезнь оценивалась как в масштабах общего замысла Творца, так и в масштабах земной жизни отдельного человека. Но если учесть, что в диалоге христианства с «местной» архаической культурой единственным общим каналом передачи информации было устное слово («воспитательная работа» приходских священников и проповедь, значение которой до XII в. не следует переоценивать), то все, что могла передать Церковь своей пастве, неизбежно усваивалось ею в изрядно упрощенном виде. Поэтому теологическая идея болезни-испытания по воле Провидения как этиологическая конструкция не приживалась в обыденной жизни вплоть до позднего Средневековья, и болезнь объяснялась главным образом наказанием за грех, настигающим грешника не «в конце времен», а уже при жизни: грех как «скверна души» {malum animae) становится видимым на больной плоти. Но укоренение даже такого упрощенного понимания болезни-кары за грех вряд ли можно приписать исключительно победе религиозной этики, корректирующей греховное поведение. Трансцендентный характер христианской этики существенно затруднял ее усвоение в обществе, где по-прежнему строй мышления был ориентирован на наглядное и конкретное. Поэтому объяснение болезни Божьим гневом и наказанием за грех способно было породить религиозный страх той же природы, что и страх перед нарушением запрета (табу) в архаической культуре.
Точно так же в сфере переживания болезни и сопровождающих ее страданий внушаемые приходскими священниками христианское смирение (humilitas), покорность воле Творца и терпение (patientia — обоснованная Григорием Великим особая добродетель больных), хотя и являлись аксиомой для верующих, скорее декларировались, чем были жизненной реальностью, и тем более никак не означали пассивного отношения к болезни.
Со смирением принимали лишь неизбежное. В целом же заболевшие не теряли надежды на исцеление многие годы и стремились исцелиться любым доступным способом, даже если Церковь считала его греховным. Они охотно прибегали к запретным магическим ритуалам или в надежде на чудо отправлялись в дальние и небезопасные паломничества к могилам святых-чудотворцев. При их непосредственном участии возникали новые целительные процедуры у могил святых, обнаруживающие генетическое родство с архаической обрядовой практикой. Без труда можно заметить, что этическая идея об осуждении греховного человечества или, наоборот, его спасении путем приобщения к Божественной благодати (в частности, к gratia medicinalis) в повседневности подменялась убежденностью в возможности воздействия на божественные силы уговорами или заключением договора, дарением в надежде на ответный дар или даже магическим принуждением. Но следует еще раз подчеркнуть, что это характеризует отнюдь не «безверие» или «двоеверие» рядовых христиан, но лишь их специфическое «утилитарное» отношение к сакральному: оно постоянно как бы проверяется ими на предмет своей «полезности» или «опасности» для их обыденной жизни.
Быть больным в Средние века означало нечто гораздо большее, нежели просто страдать каким-нибудь недугом, и страх перед болезнью не исчерпывался страхом перед возможными страданиями и смертью. Кроме желания жить и выжить, в целом свойственного роду людскому, средневековому человеку важно было сохранить свое собственное место в сотворенном Богом мире. Перспектива утраты вследствие нетрудоспособности привычной социальной (сословной, профессиональной) роли, своего места в структуре общества (в источниках это ощущение передается латинским словом inutilitas), казалась гораздо более страшной. Именно состоянию inutilitas христианские теологи противопоставили новую идею о специфическом, напоминающем о бренности всего земного образе жизни больных — modus deficiens — «ущербном», но вполне оправданном свыше. В рамках этого образа жизни обосновывалась и их новая социальная роль (с присущими ей как всякой социальной роли правами, функциями и общественными обязанностями) — быть «бедняками Христовыми» (pauperes Christf) и, следовательно, объектами благотворительности. Однако в обыденной жизни высокий теологический смысл болезни продолжал подменяться весьма приземленным (и вполне традиционным) восприятием ее как inutilitas — нетрудоспособности, препятствующей чувству социальной идентичности.
И все же именно в сфере отношения к больным воздействие христианской этики на общественное сознание и образ жизни в Средневековье привело к кардинальным изменениям. Разумеется, и прежде сострадание к больным и постоянный уход за ними в частной жизни были обычным явлением. Но ни одна дохристианская культура не знала возведенного в ранг общественной идеологии требования заботиться о наиболее слабых и уязвимых членах общества. Эта забота, в церковной догматике именуемая сига раирегит — забота о бедных, должна была выражаться в разнообразных делах милосердия (opera misericordiae) и мотивировалась лежащей в основе христианской этики идеей любви к ближнему (caritas). Именно в русле сига раирегит возникли первые общественные институты призрения бедных — hospitale раирегит.
Вплоть до XIII столетия инициатива заботы о бедных и ее организация находились почти полностью в компетенции Церкви: госпитали организовывались при монастырях и кафедральных соборах и были рассчитаны на прием всех категорий нуждающихся, в том числе и больных. Новая социальная роль больных быть «бедняками Христовыми» (pauperes Christi) и объектами социального призрения этически обосновывалась отождествлением болезни (infirmitas) с бедностью (paupertas): принятые в источниках обозначения для больных pauperi infirmi, pauperi aegroti свидетельствуют не только о том, что между «больными» и «бедными» однозначного различия не делалось, но и о специфическом — спиритуальном — понимании болезни (infirmitas) в официальной христианской культуре.
Церковь требовала заботы о нуждающихся от всех благочестивых христиан, но мирская благотворительность в раннее и высокое Средневековье носила формальный характер публичных актов и являла собой своего рода ministerium для власть предержащих. Положение изменяется лишь после 1200 г., под влиянием проповеди идеалов апостольской жизни (vita apostolica) и аскетического движения добровольной бедности. Евангельское уподобление бедных «меньшим братьям Христа» (Мф. 25: 40), означавшее возведение понятия «бедность», «бедные» (paupertas, pauperi) практически в сакральное достоинство, превратило сига pauperum, включавшую и заботу о «бедных больных», в форму религиозной жизни и манифестации благочестия. На практике это выразилось в «коммунализации» каритативной деятельности: благочестивые люди из разных социальных слоев, объединяясь в религиозные братства и духовно-светские ордена, стали посвящать себя уходу за больными и бедными в госпиталях, основанных на средства частных лиц или городских коммун. Это были первые внецерковные институты социальной помощисвидетельства углубления религиозного сознания и формирования у прихожан внутренней этики.
В целом, следует признать, в эпоху христианского Средневековья впервые в истории культуры роль страданий и немощи переосмысляется, в теологическом учении оформляется своеобразная «антропология страдания», где страдание и терпение возводятся до уровня содержания и смысла жизни человека, который трактуется как homo patiens. Однако присущие христианской этике догмы о грехе как скверне души (malum animae), об обретении здоровья души («спасения») через немощь плоти (salus cordis sit molestia corporalis), о смирении и терпении под бичом (flagella) любящего Господа в течение ряда столетий оставались достоянием церковной литературы и, образно говоря, не выходили за пределы пространства церквей, где верующие по воскресеньям слушали проповедь. Понятно, что усвоение столь отвлеченных учений и превращение их в регулятор поведения требовало высокого уровня развития индивидуального сознания, поэтому христианские этические идеи столь долго сосуществовали с традиционными представлениями и образцами поведения, практически никак не пересекаясь. Сам грех, повторю еще раз, понимался в то время больше как содеянное, а не как душевные интенции, желания, ощущения и переживания. Поэтому следует ожидать, что гораздо более эффективным церковный контроль мог оказаться именно в сфере конкретных целительных практик, прежде всего попавших в поле зрения приходских священников и авторов пенитенциалиев.
На протяжении всего тысячелетия Средневековья многие поколения верующих, сталкиваясь с одной и той же проблемой — необходимостью лечить свои болезни и при этом избежать греха и грядущей расплаты, как умели, старались приспособить свое поведение к требованиям христианской этики. В самом общем виде это должно было означать, что мотивация той или иной целительной практики ими самими стала включаться в систему христианских представлений и восприниматься как обращение к божественным силам. Поэтому в сфере целительной практики взаимопроник-новение элементов христианского культа и народной традиции принесло особенно богатые плоды.
Судя по осуждающей суеверия церковной канонической литературе (и сообщениям этнографов, изучавших народную медицину Нового времени), в повседневной жизни сохранилось большое количество дохристианских целительных обрядов, не имеющих явного отношения к культу языческих богов, но восходящих к природным культам, к культу мертвых и целому «пантеону» персонажей народной мифологии. Кроме того, целительного или профилактического воздействия ожидали от использования амулетов и магических предметов, заговоров и заклинаний, практиковавшихся самостоятельно или входивших в сложные обрядовые комплексы. Словом, народная медицина Средних веков полностью сохраняла свой ритуальный характер. Это и неудивительно. Как всякая «технология» в традиционном обществе, она входила в область сакральных значений, поэтому любое лечение представляло собой специальные ритуально оформленные процедуры, а все применяющиеся для лечения предметы, лекарства, даже самый простой отвар из трав, в их контексте были ничем иным, как сложными ритуальными символами.
Ритуализованный характер целительной практики уже сам по себе стал достаточным основанием для того, чтобы претендующее на роль регулятора социального поведения христианство — победившая религия — в лице своей официальной структуры — Церкви, объявило ее falsa religio и «суеверием» и поставило под запрет. Ответом паствы на запрет ритуального поведения (магии) стало постепенное переосмысление его действенности с позиций христианской религии. В тексты многих магических обрядов и заклинаний включались христианские символы и предметы из сферы культовой практики. Нельзя сказать, что таким образом рождались совершенно новые обряды. П. Г. Богатырев видел в подобных инновациях средство приспособить старую традицию к новым культурным условиям, что, в свою очередь, свидетельствует о ее живости и актуальности: «Исполнители магических действий и обрядов, появившихся недавно или, точнее, старинных, но видоизмененных в соответствии со временем, знают основные правша, обеспечивающие их эффективность. Вводя какой-либо новый предмет или деталь в магические действия [.], производя замены, исполнители стремятся не нарушать основных правил. Все это подтверждает нашу мысль о том, что большая часть народных верований, обрядов и магических действий не является для народа простой традицией и автоматическими пережитками"2. Действительно, это была органическая структура, живая ткань народной культуры, перерождающейся под воздействием запрещающей греховные («языческие») формы поведения христианской этики.
2 Богатырев П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья/ Он же. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 169−296. (С. 184).
Одновременно на основе христианских представлений и практики, переданных «сверху» Церковью своей пастве (литургия, сакраменты и сакраменталии, почитание святых) и переосмысленных ею в соответствии с «логикой» мифологического мышления, рождаются новые обрядовые формы, в той или иной мере признанные Церковью. Святая или благословленная вода, елей, многочисленные формулы благословений, заклятий, экзорцизмов превращаются в наиболее употребимые целительные средства. По образцу церковных вербальных формул создаются народные, в церковных приходах рождаются особые целительные процедуры, в которых священник становится главным действующим лицом. Неудержимо растет пантеон святых, а исцеление у святых мощей все больше напоминает сложный обряд, в котором без труда можно распознать все законы магии, описанные еще Д. Д. Фрэзером.
Так в лоне народной целительной практики по образцу магических («языческих») ритуалов постепенно сформировались новые, которые их исполнители стали считать вполне уместными, «христианскими», хотя официальная Церковь далеко не всегда была такого же мнения. В итоге то, что мы сегодня условно называем собственно средневековой народной медициной, на деле представляло собой обширный спектр разнообразных практик и стоящих за ними представлений: от архаических дохристианских, квалифицируемых Церковью как «колдовство» (maleficium), до лечения церковными сакраменталиями и целительных обрядов у могил святых, приносящих «чудесные» исцеления (miracula).
Подобное сосуществование «языческого» (точнее, архаического) и «христианского», maleficium и miracula в обществе, давно считающем себя христианским, являет собой наглядный «этнографический» пример функционирования механизма традиции (культурной памяти) в устной культуре, а именно, проявление его стабилизирующих и интегрирующих функций. Сохраняя и воспроизводя привычные формы поведения с удивительным постоянством, традиция таким образом обеспечивает стабильность культуры. Но, с другой стороны, именно механизм традиции является залогом ее динамизма, позволяя непрерывно интегрировать новые элементы, поскольку облекает их в привычные («традиционные») формы. Это, в свою очередь, и породило парадоксальную ситуацию: первый импульс и лечению сакраменталиями, и культу святых дала сама Церковь в надежде подменить ими прежнюю «языческую» магию, но они стали развиваться столь активно и принимали столь многообразные формы, что быстро вышли из-под контроля церковных теоретиков и властей. Христианский культ сам стал источником многочисленных «суеверных» практик, и те суеверия из области «народного благочестия», с которыми Церковь имела дело в XI—XV вв., и которые деятели Реформации подвергли впоследствии резкой критике, были, хотела она этого или нет, плодом ее же воспитательных усилий.
Те культурные процессы, которые мы наблюдаем на арене народной медицины, — бесконечная вариативность обрядовых форм, смешение «старого» и «нового» — свойственны народной культуре раннего и высокого Средневековья в целом. Пока шел процесс интеграции христианства в традиционную культуру местного населения, многие традиционные формы и стереотипы поведения уходили в прошлое или изменялись до неузнаваемости, а то и полностью сменялись новыми, иные, наоборот, продолжали свое существование в обыденной жизни общества, считающего себя христианским. И то обстоятельство, что предназначенные для лечения болезней или их профилактики традиционные магические обряды и заклинания, их «христианизированные» вариации, «языческие» и «христианские» амулеты, многочисленные церковные сакраменталии и целительные обряды со святыми мощами сосуществовали на протяжение всего Средневековья, вполне вписывается в предложенную Ю. М. Лотманом модель диалога «старой» и «новой» культур с их попеременно принимаемыми ролями «передающей» и «принимающей», о которой шла речь во «Введении» к данной работе. Главным итогом этого диалога, характеризующим суть религиозности в Средние века, стало негласное признание официальной Церковью роли ритуала как самодостаточного средства воздействия на мир. Следует признать, что в этом Средневековье опять-таки не удержалось на высоте христианского идеала патристики. Но здесь, пожалуй, вновь нужно задаться вопросом о том, насколько эвристически ценным оказывается это оценочное сопоставление «идеала» и «действительности», «чистой религии» и «нехристианского христианства» Средневековья?
Типологическое обобщение и структурный анализ, казалось бы, столь разных — «магических» или «религиозных» — целительных обрядов, будь то измерение тела больного красной нитью или взвешивание паломника на весах у могилы святого, нашептываемый знахаркой заговор или «отчитывание» эпилептика священником показало, что они скрывают в себе единые структурные закономерности и их «магическая подпочва» очевидна. Но разве это имело какое-нибудь значение для самого больного, озабоченного только обретением утраченного здоровья? Он верил в Бога, в его могущество и милосердие, в неограниченные (чудесные) возможности святых излечивать любую болезнь. Он верил в целительную силу святой воды и других церковных сакраменталий, но не меньше — и в силу травы с кладбища или полежавшего 9 месс на алтаре медного колечка. Все это были равновозможные народные средства, о «магическом» или «религиозном» характере которых никто не задумывался. И если мы хотим изучать средневековую народную культуру или средневековую религиозность «с позиций ее носителей», «глазами современников», мы вообще должны отказаться от попыток разделять в поведении ее носителей «магию» и «религию» в том смысле, который вкладывается в эти понятия современным мышлением, искать в нем «христианизованную магию», «пережитки язычества» или «двоеверие». Повторю еще раз, мы имеем дело с людьми, в полной мере осознающими себя христианами, просто вера их была иной. Она отличалась от веры средневековых «высоколобых» теологов или от веры наших современников. Поэтому всякое упоминание о суеверных практиках в источниках свидетельствует отнюдь не о том, что плохо усвоившие христианскую догму и этику средневековые прихожане продолжали «упорствовать» в языческих суевериях, а всего лишь о том, что люди, эти суеверия практикующие, не задумываясь, разделяли свойственные традиционному укладу их жизни привычные установки и диктуемые ими в определенных ситуациях формы поведения.
Часто дискутируемая гипотеза о возможном «двоеверии» раннего Средневековья не выдерживает критики: с тех пор, как семиотики культуры обосновали органическую связь между культурой и коммуникацией, что дало возможность рассматривать транслируемые традицией ритуалы и представления («суеверия») как один из языков культуры, знаковую систему, не только хранящую и передающую информацию об устройстве мира, но и регулирующую социальное поведение в нем, дюркгеймовская теория «коллективных представлений» как источника религиозных верований утратила свою убедительность. Отход от интерпретационных схем социологии религии и признание коммуникативной (диалогической) природы магии и архаических верований, позволяют отказаться от препарирования средневековой народной религиозности на «магические» и «религиозные» составляющие и проанализировать в динамике отдельно веру как часть содержания сознания, а магию как форму поведения, на эмоциональную глубину и силу религиозной веры рядовых христиан не влияющую.
При таком взгляде на проблему формирование собственно средневековых форм народно-медицинской практики, уместно рассматривать как следствие приспособления архаической традиции, моделирующей социальное поведение, к меняющимся культурных условиям и требованиям этических норм, т. е. в аспекте функционирования и модификации обрядов и объяснений их действенности, в свою очередь, отражающих определенные изменения в содержании религиозного сознания носителей культуры.
В том, что касается содержания средневекового религиозного сознания («народной религиозности») и соотношения его с «чистой религией» (термин А. Воше), однозначного ответа на данный вопрос не существует.
Историографическая дискуссия об этом содержании длится с начала 1970;х годов, и ответы всегда зависят от вопросов, которые исследователи задают своим источникам, отражающим, в свою очередь, мировоззрение определенных социальных групп в определенное время. Вероятно, проникнуть в тайники этого сознания, избегнув грубых обобщений и допущений, невозможно, Но у средневекового религиозного сознания помимо «содержания» есть и другая важная сторона — эмоциональная. Пусть христианская догма была плохо усвоена рядовыми верующими. Пусть до исхода Средневековья нормы христианской этики еще не определяли обыденную жизнь. Но вера — была. Почти сто лет назад Л. П. Карсавин ввел в научный обиход историков понятие «религиозность» именно как субъективную, аффективную сторону веры: «Религиозность — та же взятая с субъективной стороны (т.е. не в смысле содержания веры, а в смысле признания его истинным) вера, но по особому эмоционально окрашенная. Религиозен тот, кто не просто верит или считает истиной все либо некоторые положения веры, а кто как-то особенно связан с ними, для кого они важны субъективно и в ком признание их сопровождается особенным душевным состоянием"3.
Полагаю, это «особенное душевное состояние» и следует считать основной чертой «народной религиозности», препарировать которую, выявляя «магические» и «религиозные» составляющие ее содержания в контексте оценочного сопоставления «примитивной» и «высокой» религий, вряд ли имеет смысл. Это сопоставление, по моему глубокому убеждению, характеризует не столько «христианское Средневековье», сколько нашу культуру «эпохи Современности (Moderne)»: с появлением «новоевропейской личности», с углублением значения субъективного и интенционального в ее самосознании, осознавшее себя по-новому человеческое Я как бы барьером отгородилось от прошлого. «Иное» Средневековье, несмотря на все заверения историков, в контексте таких сопоставлений видится как если не «темное», то уж точно «сумеречное». Конечно, важно установить, какой редукции подверглось.
3 Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности. С. 4. античное и христианское духовное наследие в Средние века, какое переосмысление, даже деформацию оно при этом претерпело. Однако не менее важно уловить и оценить все то новое и прогрессивное, что принесло с собою Средневековье. Поэтому моей целью было представить здесь Средневековье, особенно его ранний и наименее изученный период, как непрерывный процесс этического воспитания общества, в ходе которого «внешние» нормы поведения постепенно становятся внутренней данностью. Дать полное и последовательное описание этого процесса (в диахонии) или описание его конкретного содержания, т. е. содержания народной религиозности (тогда это должно быть синхронное описание) невозможно: в зависимости от времени и места в нем действуют разные составляющие, функционирующие с различной интенсивностью и взаимодействующие с разной скоростью. Поэтому мне пришлось ограничиться созданием описательной модели путей и форм взаимодействия двух разных моделирующих поведение систем в одной конкретной сфере обыденной жизни. Но именно благодаря такому подходусозданию модели описания — стало возможным привлечь внимание к множественности и вариативности «промежуточных форм» этого взаимодействия и таким образом показать, несмотря на их причудливость и несовершенство, что мы имеем дело с процессом не только длительным, но и предельно интенсивным.
В аспекте формирования внутренней этики и «социального воспитания» общества период позднего Средневековья, который, за немногими частными вопросами, остался за рамками данного исследования, отличался еще большей интенсивностью, благодаря все более укореняющемуся в обыденной жизни аппарату цивилизации и культуры — распространению письма и чтения, появлению школ и университетов, росту городов и разделения труда, секуляризации медицинского знания и возникновению ранних форм системы светского здравоохранения. Но в силу причин, которые подробно описаны во «Введении», он должен быть предметом отдельного исследования и базироваться на иных источниках.
Список литературы
- Издания латинских источников:
- Acta et processus canonisacionis beate Birgitte / I. Collun (Ed.). Uppsala, 1924−31.
- Anecdotes historiques, legendes et apologues tires du recuil inedit d’Etienne de
- Bourbon, publies par A. Lecoy de la Marche. Paris, 1877.
- Cesaire d’Arles. Sermons sur l’ecriture / G. Morin (Ed.). Paris, 2000.
- Corrector ac medicus // Die Buflbiicher und Bufldisziplin der Kirche / H.J. Schmitz.
- Graz, 1958. Bd. II. S. 446−454.
- Hrabanus Maurus. De magicis artibus/ Patrologiae cursus completes. Series latina / Ed. J.P. Migne. Т. 110. Coll. 1095−1110.
- S.Gileberti // Un proces de canonisation a l’aube du XIII siecle (1201−1202): Livre de
- Sain Gilebert de Sempringham / E. Foreville (Ed). Paris, 1943. P. 45−73.1.bellus de Translatione Sankti Annonis Archiepiscopi et miracula Sankti Annonis /
- Mittler M. (Hg.). Siegburg, 1966−68. (=Siegburger Studien III-V).
- Martin von Bracara’s Schrift «de correctione rusticorum» / C.P. Caspari (Hg.).1. Christiania. 1883.
- Miracula s. Walburgis Monheimensia // Quellen zur Geschichte der Diozese Eichstatt
- А. Bauch. (Hg.). Regensburg, 1979. Bd. II. S. 142−348.
- Miracula Defixionis Domini / T. Lunden (Ed.). Goteborg, 1950.
- Notkerus Balbulus Gesta Karoli // Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte /
- F.Kurze, H. Haefele (Hgg). Berlin, 1958. T. 3. S. 321−428.
- Passio et miracula beati Olavi / E. Metcalfe (Ed.). Oxford, 1881.
- Regula Benedicti/ P.B.Steile (Hg.). Beuron, 1980.
- Sancti Odonis abbatis cluniacensis II de vita sancti Geraldi auriliacensis comitis libri quatuor / Patrologiae cursus completes. Series latina/ Ed. J.P. Migne. T. 133. Coll. 640−709.
- H.J. Schmitz (Hg.) Die BuBbiicher und BuBdisziplin der Kirche. Bd. I-II. Graz, 1958. Vita Gangulfi martyris varennensis // MGH SSRM. T. 7. P. 1 / W. Lewison (Hg.). Hannover, 1919−20. S. 142−174.
- Vita Hathumodae // MGH Scriptores. T. 4 / G. Pertz (Hg.). Leipzig, 1925 (ND). S. 166−189.
- Vita s. Oudalrici // MGH Scriptores. T. 4 / D. Weitz (Hg.). S. 381−424.
- Vita Remigii ep. auctore Hincmaro / MGH SSRM. T. 2 / B. Krusch (Hg.) Hannover, 1896. S. 250−349.
- Vita sancti Galli auctore Wettino // MGH SSRM. T. 4 / B. Krusch (Hg.) Hannover, 1902. S. 257−280.
- F. W. Wasserschleben (Hg). Reginon von Priim. Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis. Leipzig, 1840.
- Издания источников в переводах:
- Григорий Турский. История франков. (Пер. В.Д. Савуковой) М., 1987 Прокопий из Кесарии. Война с готами. (Пер. С.П.Кондратьева). М., 1950. Прядь о Торлейве Ярловом Скальде. (Пер. Е.А.Гуревич) // Одиссей. Человек в истории. 1993/М., 1993. С. 284−299.
- Сага о Сверрире (Пер. М.И.Стеблин-Каменского, Е. А. Гуревич, О.А. Смирницкой). М., 1988.
- Сага об Эгиле (Пер. С.С.Масловой-Лашанской, В.В.Кошкина)/ Исландские саги. М., 1956. С. 61−252.
- Сага о Людях из Лаксдаля. (Пер. В. Г. Адмони, Т.И.Сильман) /Там же. С.253−440.
- Сага о Ньяле (Пер. С. Д. Кацнельсона, В. П. Беркова, М.И.Стеблин-Каменского) /Там же. С. 441−758.
- Сага о Гисли. (Пер. О.А. Смирницкой) / Исландские саги. М., 1973. С. 23−80.
- Сага о Греттире. (Пер. О.А. Смирницкой) / М.И.Стеблин-Каменский (Ред). Новосибирск, 1976.
- Снорри Стурлуссон. Круг земной. (Пер. А. Я. Гуревича, Ю. К. Кузьменко,
- О.А.Смирницкой). М., 1970.
- Старшая Эдда. (Пер. С.В.Петрова). M.-JL, 1963.
- Тацит П.К. Германия // Древние германцы / С. П. Моравский и др. (Ред.). M.-JL, 1937.
- Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. (Пер. с лат. Н. Цветкова. Предисл. С. Лозинского.) Саранск. 1991. (Репринт 1930 г.)
- Эгиль сын Грима Лысого. Утрата сыновей (Пер. С.В.Петрова) / Поэзия скальдов. Л., 1979. С. 16−21.1.lands-Sagas / U. Diederichs (Hg.). 5 Bde. Munchen, 1995
- Тексты Священного писания цитируются по изданиям: Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. 1991.
- Biblia Sacra juxta vulgatam versionem. Stuttgart, 1984.
- Арнаутова Ю. E. Колдуны и святые: Антропология болезни в Средние века. СПб. «Алетейа», 2004. 400 С.
- Тревоги повседневной жизни: болезни, представления об их причинах и лечении // Средневековая Европа глазами современников и историков /А. Л. Ястребицкая (Ред.). Ч. 3. М., 1994. С. 101−122.
- Колдовство и «колдовские» болезни в Средние века // Вопросы истории.1994. N 11. С. 158−162.
- Чудесные исцеления святыми и «народная религиозность» в Средние века // Одиссей. Человек в истории. 1995 /М., 1995. С. 151−169.
- Западноевропейские средневековые «оборотни"// Вопросы истории. 1997. № 6. С. 161−165.
- Амулеты и магические предметы в средневековой народной медицине // Вопросы истории. 1998. № 7. С. 145−160.
- О некоторых новых подходах к изучению массовых представлений о болезни в Средние века // Материалы I съезда конфедерации историков медицины. 12−14 марта 1998. М, „Медицина“, 1998. С. 205−207.
- Об истории западно-европейского госпиталя в Средние века и некоторых методологических аспектах ее изучения // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000. № 6. С. 46−72.
- О святой! Помоги мне, иначе я потеряю свое дитя.» (Дети в зеркале средневековых миракул XII—XIII вв.) // Социальная история /Л.П. Репина (Ред.). М&bdquo- 2000. С. 285−306.
- Вербальная магия в средневековой народной медицине: от diabolica carmina к благословению и молитве // Исследования по зарубежной истории / Ю. Ивонин (Ред.). Ч. 2. Смоленск, СГПУ, 2000. С. 107−124.
- Житие как духовная биография: к вопросу о «типическом» и «индивидуальном» в латинской агиографии // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории / Л. П. Репина (Ред.). М., 2001. № 5. С. 254−278.
- Женщина в «культуре мужчин»: брак, любовь, телесная красота глазами агиографов X в. // Адам и Ева: альманах тендерной истории /Л.П. Репина (Ред.). М., 2001.С. 47−90.
- Мемориальные аспекты иконографии святого Гангульфа // Одиссей. Человек в истории. 2002 /М., 2002. С.53−75.
- От memoria к «истории памяти» // Одиссей. Человек в истории. 2003 / М., 2003. С. 170−198.
- Memoria: «тотальный социальный феномен» и объект исследования // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени /Л. П. Репина (Ред.). М., 2003. С. 19−37.
- Бедные // Словарь средневековой культуры / А. Я. Гуревич и др. (Ред.). М., 2003. С. 43−45.
- Болезнь // Там же. С. 54−58.
- Медицина // Там же. С. 271−276.
- Погребение // Там же. С. 364−369.
- Сон и сновидения // Там же. С. 500−505.
- Перспективы изучения агиографических топосов И Munuscula. К 80-летию со дня рождения А. Я. Гуревича / Ю. Е. Арнаутова (Ред.). М., ИВИ РАН, 2004. С. 182−213.
- Между «обществом» и «культурой»: о некоторых особенностях становления исторической антропологии в Германии // Одиссей. Человек в истории. 2004 / М., 2004. С. 365−377.
- Групповые нормы и индивидуальная стратегия поведения в «Житии св. Геральда» // Индивидуальное и коллективное в истории: материалы международной конференции. 24−27 сентября 2001. Саратов, 2004. С. 77−87.
- Образ истории, историческое сознание и идентичность в латинской историографии X—XIII вв. // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени // Л. П. Репина (Ред). М., 2005 (в печати).
- Концепция «культурной памяти» у М. Хальбвакса и Я. Ассманна // там же.
- Семиотический аспект функционирования вещей / Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989.
- Ритуал в системе знаковых средств культуры / Этнознаковые функции культуры. М. 1991.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
- Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографическойистории Франции. М., 1991.
- Боас Ф. Ум первобытного человека. М.-Л., 1926.
- Вайнберг И И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986. Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978.
- Горюнов Е. Покаяние / А .Я. Гуревич. (Ред.). Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 373−376.
- Соотношение народной и ученой культур Средневековья в зеркале церковных обрядов и священных предметов (Ракурс расхождения и ракурс взаимопроникновения) // Одиссей. Человек в истории. 1994 / М., 1994. С. 141 164.
- Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984 (1изд. 1972).1. Эдда и сага. М., 1979.
- Походы викингов. М., 1966.
- Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
- Семья, секс, женщина, ребенок в проповеди XIII века. (Франция и Германия)/ Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы: проблемы и исследования. М., 1988. С. 154−185.
- Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М. 1989
- Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990
- Поэзия и магия слова// Одиссей. Человек в истории. 1993 / М., 1993. С. 284 299.
- Западно-европейские паломничества в средние века. Пг., 1924. Дройзен КГ. Историка. М., 2004.
- Жаров. Л. В. Человеческая телесность. Ростов, 1988.
- Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв.., преимущественно в Италии. Пг., 1915.
- Монашество в Средние века. М, 1992.
- Левандовский А. П. Карл Великий. Через империю к Европе. М., 1995. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.
- Лекомцева М.И. Семиотический анализ латышских заговоров в каббалистической традиции / Малые формы фольклора. М., 1995. С. 105−120. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
- Лотман М. Ю. Динамическая модель семиотической системы / Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 90−101.
- О метаязыке типологических описаний культуры / Там же. Т. 1. С. 386−406.
- Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении / Там же. Т. 1.С. 121−128.
- Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры? / Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст -семиосфера история. М., 1996. С. 344−356.
- Мелетинский Е.М. Скандинавская мифология как система. М., 1973.
- Поэтика мифа. М., 1995 (2 изд.).
- Малые жанры фольклора и проблемы жанровой эволюции в устной традиции / Малые формы фольклора. М., 1995. С. 325−337.
- Неклюдов С.Ю. Душа убивающая и мстящая / Труды по знаковым системам. Вып. 365. Тарту, 1975. С. 65−76.
- Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: опыт сопоставления структур. М., 1984.
- Архаические верования в свете межличностной коммуникации / Историко-этнографические исследования по фольклору. М., 1994. С. 110−163.
- Вербальный компонент промысловых обрядов / Малые формы фольклора. М., 1995. С. 198−217.
- Позпапский Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. (Петроград, 1917). Репринт: М., 1995. Померанцева Э. В. Рассказы о колдунах и колдовстве / Труды по знаковым системам. Вып. 365. Тарту, 1975.
- Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. Свешникова Т. Н. О некоторых типах заговорных формул / Малые формы фольклора. М., 1995. С. 121−129.
- Стеблин-Каменский М.И. «Саги об исландцах» и «Сага о Греттире» // Сага о Греттире. (Пер. О.А. Смирницкой) / М.И.Стеблин-Каменский (Ред). Новосибирск, 1976. С. 149−161 Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
- Токарев С.А., Мелешинский Е. М. Мифология / Мифы народов мира. Т.1. С. 1120.
- Токарев С.А. Сущность и происхождение магии / Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959.
- Топорков А. А. Символы и ритуальные функции предметов/ Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Д., 1989.
- Топоров В. Н. К редукции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) / Труды по знаковым системам. Вып. 236. Тарту, 1969. С. 9−44.
- О древнеиндийской заговорной традиции / Малые формы фольклора. М., 1995. С. 8−111.
- Топорова ТВ. Язык и стиль германских заговоров. М., 1996.
- Тхостов А. Ш. Семантика телесности и мифология болезни // Телесностьчеловека: междисциплинарные исследования. М., 1991. С. 96−107.
- Тэрпер В. Миф и ритуал. М., 1983.
- Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Унлсон Дж., Якобсен Т. В преддвериифилософии. Духовные искания человека. М., 1984.
- Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1989.
- Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988.
- Adam P. Charite et assistance en Alsace au Moyen Age. Strassburg, 1982.
- Achtenberg H. Interpretatio Christiana. Verkleidete Glaubensgestalten der Germanenauf deutschen Boden // Form und Geist. Bd. 19. Leipzig, 1930.
- Ackerknecht E.H. Geschichte und Geographie der wichtigsten Krankheiten. Stuttgart, 1963.
- AgrimiJ., Crisciani C. Medicina del corpo e medicina dell’anima. Note sul sapere del medico fino all’inizio del secolo XIII. Milano, 1978.
- Wohltatigkeit und Beistand in der mittelalterlichen christlichen Kultur// Die Geschichte des medizinischen Denkens. Antike und Mittelalter/ M.D.Grmek (Hg.) Munchen, 1996. S. 182−215.
- Amira K.v. Die germanischen Todesstrafen. Munchen, 1922. Andree R. Braunschweiger Volkskunde. Braunschweig, 1901.
- Votive und Weihegaben des katholischen Volkes in Stiddeutschland. Braunschweig, 1904.
- Angenendt. A. Missa specialis. Zugleich ein Beitrag zur Entstehung der Privatmessen //Fruhmittelalterliche Studien. 1983. Bd. 17. S. 153−221.
- Das Fruhmittelalter. Die abendlandische Christenheit von 400 bis 900. Stuttgart u.a., 1990.
- Corpus incorruptum. Eine Leitidee der mittelalterlichen Reliqueinverehrung // Saeculum. 1991. Bd. 42. S. 320−346.
- Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom fruhen Christentum bis zur Gegenwart. Munchen, 1994.
- Gezahlte Frommigkeit / Fruhmittelalterliche Studien. 1995. Bd. 29. S. l-71.
- Geschichte der Religiositat im Mittelalter. Darmstadt, 1997.
- Arends U. Ausgewahlte Gegenstande des Friihmittelalters mit Amulettcharakter. Diss. Heidelberg, 1978. 2 Bde.
- Assion P. Die mittelalterliche Mirakelliteratur als Forschungsgegenstand // Archiv fur Kulturgeschichte. 1968. Bd. 50. S. 172−180.
- Assmann J. Jaspers «Achsenzeit» oder: vom Gliick und Elend der Zentralperspektive in der Geschichte // Karl Jaspers. Denken zwischen Wissenschaft, Politik und Phisolophie / D. Harth (Hg.). Stuttgart, 1989. S. 187−205.
- Das kulturelle Gedachtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identitat in fruhen Hochkulturen. Munchen, 1992.
- Moses der Agypter: Entzifferung einer Gedachtnisspur. Munchen u.a., 1999.
- Kollektives Gedachtniss und kulturelle Identitat /Kultur und Gedachniss / J. Assmann, T. Holscher (Hg). Frankfurt a. M., 1988. S. 9−19.
- Attali J. Die kannibalische Ordnung: von der Magie zur Computermedizin. Frankfurt/ Main, 1981.
- Auge M. La construction du monde. Religion. Representations. Ideologic. Paris, 1974.
- Auge M., Hertzlich C. Le sens du mal. Anrtopologie, histoire, sociologie de la maladie. Paris, 1984.
- Baetke W. Christliches Lehngut in der Sagareligion. Berlin, 1951.
- Worterbuch der altnordischen Prosaliteratur. Bd. I-II. Berlin, 1965−68. Bargheer E. Eingeweide. Lebens- und Seelenkrafte des Lebensinneren im deutschen Glauben und Brauch. Berlin-Leipzig, 1931.
- Bartels M. Die Medizin der Naturvolker. Ethnologische Beitrage zur Urgeschichte derMedizin. Leipzig, 1893.
- Uber Krankheitsbeschworungen // Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde. Bd. 579. Berlin, 1895.
- Beck H.G. J. The Pastoral Care of Souls in South-East France During the Sixth Century. Romae, 1950.
- Beck R. Der Pfarrer und das Dorf. Konformismus und Eigensinn in katholischen Bayern des 17./18. Jahrhunderts // Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung / R. v. Dulmen (Hg.). Frankfurt a.M., 1988.
- Berschin W. Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. Stuttgart, 19 992 002. 4 Bde.
- Beyer F. W. Altgermanische Heilkunde // Deutsche medizinische Wochenschrift. 1943.
- Becker L. Altnordische Heilkunde. Diss. Dusseldorf, 1938.
- Beissel St. Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beginne des 13. Jhs. Freiburg, 1890.
- Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland wahrend der zweiten Halfte des Mittelalters. Freiburg, 1892. (ND. 1976)
- Berger P.L. Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischen Theorie. Frankfurt a.M., 1973.
- Berger J.M. Die Geschichte der Gastfreundschaft im hochmittelalterlichen Monchtum. Das Beispiel der Cistercienser. Diss. Munster, 1996. Bergdolt K. Der Schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des Mittelalters. Munchen, 1994.
- BeriacF. Histoire des lepreux au Moyen Age. Une societe d’exclus. Paris, 1988. Bernards P. Die rheinische Mirakelliteratur im 12. Jh. I I Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein. 1981. Hft. 138. S. 1−78.
- Biraben J. N., Le GoffJ. La pest dans le haut Moyen Age // Annales Ё. S. C. 1969. P. 1484−1510.1.s hommes et la peste en France et dans les pays europeens et mediterraneens. T. I-II. Paris, 1975−78.
- Blain J. Seidr: die neun Welten der Seidr-Magie- Extase und Schamanismus im nordischen Heidentum. Arun, 2002.
- Block M. Les rois thamaturges. Etude sur le caractere surnaturel attribue a la puissance royale particulierement en France et en Anglettere. Paris. 1983 (1 ed. 1924).
- Borgolt M. Memoria. Zwischenbilanz eines Mittelalterprojekts // Zeitschrifit fur Geschichtswissenschaft. 1998. Hft. 3. S. 197−210.
- Bornscheuer L. Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. Frankfurt a.M., 1976.
- Neue Dimensionen und Desiderata der Topikforschung// Mittellateinisches Jahresbuch. 1987. Bd. 22. S. 2−27.
- Borst O. Alltagsleben im Mittelalter. Frankfurt a. M., 1983.
- Boshof E. Armenftirsorge im Fruhmittelalter: Xenodochium, matricula, hospitale pauperum // Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1984. Bd. 71. S. 153−174.
- Boudriot W. Die altgermanische Religion in der amtlichen kirchlichen Literatur des Abendlandes vom 5. bis 11. Jahrhundert. Bonn, 1928.
- Boyer R. Le Christ des barbares. Le monde nordique (IX-e XIII-e siecle. Paris, 1987.
- H.Braet, W. Verbeke (Ed.). Death in the Middle Ages. Lowen, 1983 (=Medievalia Lovaniensia 1,9).
- Braun J. Die Reliquare des Christlichen Kultes und ihre Entwicklung. Freiburg i.Br. 1940.
- Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart, 1943. Browe P. Die Eucharistie als Zaubermittel im Mittelalter // Archiv fur Kulturgeschichte. 1930. N2. S. 134−154.
- Die letzte Olung in der abendlandischen Kirche des Mittelalters // Zeitschrift fur katholischeTheologie. 1931. N55. S.521−34.
- Brown P. The cult of the saints- its rise a function in latin Christianity. Chicago, 1981.
- The body and society. New-York, 1988.
- Bruck M. Medizinischer Volksglauben und Volksaberglauben aus Schwabe. Kavensburg, 1865.
- Bulst N. Der Schwarze Tod. Demographische, Wirtschafits- und Kulturgeschichtliche Aspekte der Pestkatastrophe von 1347−1352. Bilanz der neueren Forschung // Saeculum. 1979. Bd. 30. S. 45−67.
- Burkhardt A. Les Clients des saints. Maladie et quete du miracle a travers les proces de canonisation de la premiere moitie du XVII-e siecle en France. Paris, 1998
- Cassirer E. An Essay on Man (1944). ND. Berlin, 1972.
- Chaumartin. H. Le mal des ardents et le feu de Saint-Antoin. Wien, 1946.
- Т. O. Cockayne (Ed.). Leechdoms, Wortcunning and Starcraft of Eary England. 3vols. London, 1864−66. (rpt. 1961).
- Chenu M.-D. L' Eveil de la Conscience dans la Civilisation Medieval. Montreal, 1969.
- Daxelmuller Ch. Zauberpraktiken. Eine Ideengeschichte der Magie. Zurich, 1993.
- Dehmer H. Primitives Erzahlungsgut in den Islendigasogur. Leipzig, 1927.
- Decker R. Die Hexen und ihre Henker. Freiburg-Basel-Wien, 1994.
- Delehaye H. Les origines de la cults des martyrs. Btuxelles, 1933.
- Delumeau J. Le Catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris, 1971.
- M. Derwich, M. Staub (Hg.). Die «Neue Frommigkeit» in Europa im Spatmittelalter.1. Gottingen, 2004.
- Detleff C., Mtiller G. Von Teufel, Mittagsdamonen und Amuletten // Jahrbuch fur Antike und Christentum. 1974. Bd. 17. S. 91−102.
- Diepgen P. Uber den Einflufi der autoritativen Theologie auf die Medizin des Mittelalters. Mainz, 1958.
- Traum und Traumdeutung als medizinischwissenschaftliches Problem im Mittelalter. Berlin, 1912.
- Studien zur Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Medizin im Mittelalter. Berlin, 1922.
- Dinzelbacher P. Zur Erforschung der Geschichte der Volksreligion. Einfuhrung und Bibliographie / Volksreligion im hohen und spaten Mittelalter // Dinzelbacher P., D.R.Bauer (Hg). Paderborn, 1990. S. 9−27.
- Duby G. Histoire sociale et ideologie des societes // J. Le Goff, P. Nora (Ed.) Faire de l’histoire. T. l: Nouveaux problemes. P., 1974.
- Dubner-Manthey B. Die Giirtelanhange als Trager von Kleingeraten, Amuletten und Anhangern symbolischer Bedeutung im Rahmen der fruhmittelalterlichen Frauentracht. Berlin, 1987.
- R. van Diilmen (Hg.). Die Entdeckung der Individuality. Berlin, 2003.
- Diiwel K. Runenkunde. Stuttgart, 1983. (=Sammlung metzler 72).
- Ebermann O. Blut und Wundsegen in ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin, 1903.
- EbertM. Reallexikon der Vorgeschichte. Bd. IV (I). Berlin, 1928.
- Ebertz M.N., Schultheis F. Populare Religiositat // M.N. Ebertz, F. Schultheis (Hg.).
- Volksfrommigkeit in Europa. Beitrage zur Soziologie popularer Religiositat aus 141.ndern. Munchen, 1986. S. 11−52.
- Eggers H.E. Die magischen Gegenstande der altislandischen Prosaliteratur // Form und Geist. Leipzig, 1932. Bd. 27.
- Eggers H. Die Annahme des Christentums im Spiegel der deutschen Sprachgeschichte // K. Schaferdiek (Hg.). Kirchengeschichte als Missionsgeschichte. Munchen, 1978. Bd. I. S. 460−504. Eis G. Altdeutsche Zauberspriiche. Berlin, 1964.
- Esser Th. Die Pest Strafe Gottes oder Naturphanomen? Eine frommigkeitsgeschichtliche Untersuchung zu Pesttraktaten des 15. Jahrhunderts // Zeitschrift fur Kirchengeschichte. 1997. Bd. 108.
- Ewans J. Magical Jewels of the Middle Age and the Renessance particularly in England. Oxford, 1922.
- Heilkundliche Kasuistik im Siegburger Mirakelbuch // Libellus de Translatione Sankti Annonis Archiepiscopi et miracula Sankti Annonis / Mittler M. (Hg.). Siegburg, 1966−68. S. 45−60.
- Feilberg H.F. Der Kobold in nordischer Uberlieferung // Zeitschrift fur Volkskunde. 1898. Hft. 8. S. 1−20- 130−146- 264−277.
- R.L. Fetz, R. Hagenbuchle, P. Schulz (Hg.). Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivitat. Bd.1−2. Berlin- New-York, 1998.
- Finucane R.C. The Use and Abuse of Medieval Miracls // Histori. 1960. Vol. 60. P. 1−10.
- Miracles and Pilgrims. Popular Beliefs in medieval England. Londres- Melbourne-Toronto, 1977.
- Fischer H. Heilkrauter und Arzneipflanzen. Ulm, 1966.
- Fischer S. The Complete Medieval Dreambook. A multilingual, alphabetical «Somnia Danielis» Collation. Frankfurt a.M., 1982.
- Forster D., Becker R. Neues Lexikon der Christlicher Symbole. Innsbruck, Wien, 1991.
- Fossier R. Paysans d’occident. Paris, 1984
- FrankK.S. Frtihes Monchtum im Abendland. Zurich, 1975
- Franz A. Die Messe im deutschen Mittelalter. Beitrage zur Geschichte der Liturgie und des religiosen Volkslebens. Freiburg i. Br., 1902.
- Geary P. L’humilation des saints //Annales E.S.C. 1979. N 1. P. 27−41.
- Geertz C. The interpretation of cultures: selected essays. New-York, 1973.
- Gelis J., Redom O. Les miracles, miroirs des corps. Saint-Denis, 1983.
- Gering H. Uber Weissagung und Zauber in nordischen Altertum. Kiel, 1902.
- Ginzburg K. Der Kase und die Wiirmer. Die Welt eines Miillers um 1600. Frankfurta.M., 1983 (нем. перевод с итальянского издания 1976 г.)
- Glaser Н. Die Bedeutung der christlichen Heiligen und ihrer Legende fur
- Volksbrauch und Volksmeinung im Deutschland. Diss. Heidelberg, 1937.
- Gotlind A. Technology and Religion in Medieval Sweden. Falun, 1993
- Avhandlingar fran Historiska institutionen i Goteborg 4).
- Gottschling B. Die Todesdarstellungen in den Islendigasaga. Frankfurt a.M., 1986.
- Gotz H.-W. Die Moderne Medievistik. Stand und Perspektiven der
- Mittelalterforschung. Darmstadt, 1999.
- Grabmayer J. Volksglauben und Volksfrommigkeit im spatmittelalterlichen Karnten. Wien- Koln- Weimar, 1994 (=Kultusstudien bei Bolau).
- Grabner E. Der Wurm als Krankheitsvorstellung. Siiddeutsche und Sudeuropaische Beitrage zur allgemeinen Volksmedizin // Zeitschrift fur deutsche Philologie. 1962. Bd. 81.
- Graus F. Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger. Praha, 1965.
- Hagiographische Schriften als Quellen der «profanen» Geschichte / Fonti medievali e problematica storiografica. Roma, 1976. Т. I. P. 375−396-
- Grimm J. Deutsche Mythologie. Bd. 1−3. Berlin, 1875−1878. (4. Aufl.).
- Kleinere Schriften. Bd. 2. Berlin, 1968 (ND).
- Der heilige Hammer // Hauptzeitschrift deutschen Altertums. 1845. Bd. 5. Grimm J., Grimm W. Deutsches Worterbuch. 5 Bde. Leipzig, 1966.
- Grmek M.D. Les maladies h l’aube de la civilisation occidentale. Recherches sur la realite pathologique dans le mond grec prehistorique, archaique et classique. Paris, 1983.
- Preliminaires d’une etude historique des maladies // Annales E.S.C. 1969. P. 1473−1483.
- Groebner V. Mobile Werte, informelle Okonomie. Zur «Kultur» der Armut in der spatmittelalterlichen Stadt / Armut im Mittelalter // O.G.Oexle (Hg.). Ostflldern, 2004. S. 165 188.
- Haarlander S. Die Reliquien der Bischofe. Kirchliche Amtstrager und Kultpraxis in hagiographischen Quellen des Hochmittelalters // Hagiographica. 1994. Bd. 1. S. 117−158.
- Habermas R. Wunder, Wunderliches, Wunderbares. Zu Profanisierung eines Deutungsmuster in der fruhen Neuzeit // Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung / R. van Dulmen (Hg.). Frankfurt a.M., 1988. S. 38−66- 278−280.
- Wallfahrt und Aufruf. Zur Geschichte des Wunderglaubens in den fruhen Neuzeit. Frankfurt f.M.- New-York, 1991.
- Haeser H. Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krankheiten. Bd. 1−3. Jena, 1882.
- Halsig F. Der Zauberspruch bei den Germanen bis um die Mitte des XIV. Jhs. Leipzig, 1910.
- Hastesko F. A. Lansisuomalaiset tautieen loitsut. Helsinki, 1910.
- Hain M. Burchard v. Worms (f 1025) und der Volksglaube seiner Zeit // Hessische
- Blatter fur Volkskunde. 1956. Bd. 47. S. 39−50.
- Hampp J. Beschworung, Segen, Gebet. Stuttgart, 1961.
- Zauberei im Abendland. Vom Anteil der Gelehrten am Wahn der Leute. Wurzburg, 1996.
- Hartman Fr. Der Arztliche Auftrag. Gottingen, 1956.
- Hasenfratz H.-P. Die toten Lebenden. Eine religionsphanomenologische Studie zum sozialen Tod in archaischen Gesellschaften. Zugleich ein kritischer Beitrag zur sogenannten Strafopfertheorie. Leiden, 1982.
- Die religiose Welt der Germanen. Ritual, Magie, Kult, Mythus. Freiburg i. Br. 1992.
- HechtK. Der St. Galler Klosterplan. Sigmaringen, 1983. Hecker J.F.K. Geschichte der Heilkunde. Bd. 1−2. Berlin, 1922−29.
- Die grofien Volkskrankheiten des Mittelalters. Berlin, 1865. M. Heinzelmann (Hg.). Mirakel im Mittelalter. Konzeptionen Erscheinungsformen
- Deutungen. Stuttgart, 2002.
- Heusler A. Die altgermanische Dichtung. Potsdam, 1926.
- His R. Der Totenglaube in der Geschichte des germanischen Strafrechts. Munster, 1929.
- Hiestand R. Kranker Konig kranker Bauer // Der kranke Mensch im Mittelalter und Renaissance / P. Wunderli (Hg.). Dusseldorf, 1986. S. 61−78.
- Hoffmann H. Beitrage zur Lehre von der durch Zauber verursachten Krankheiten und ihre Behandlung in der Medizin des Mittelalters // Janus. 1933. Bd. 34. S. 129−144- 179−192- 211−217.
- Hofler M. Krankheits-Damonen // Archiv fur Religionswissenschaft. Freiburg, 1899. Bd.2. S. 86−164.
- Deutsches Krankheitsnamen-Buch. Munchen, 1899.
- Volksmedizin und Aberglaube in Oberbayerns Gegenwart und Vergangenheit. Munchen, 1893.
- Homan H. Der Indiculus superstitionum et paganiarum und verwandte Denkmaler. Diss. Gottingen, 1965.
- Honko L. Krankheitsprojektile. Untersuchung tiber eine urtiimliche
- Krankheitserklarung. Helsinki, 1959. (= FF Communikations. № 178).
- Hoops J. (Hg.). Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 1−4. Strassburg, 1911−14.
- HopfL. Organtherapie // Janus. 1898−99. Bd. 3−4.
- Die Anfange der Anatomie bei den alten Kulturvolker. Breslau, 1904. (=Abhandlungen zur Geschichte der Medizin. Heft IX).
- Horn W. Der altgermanische Zauberspruch gegen den HexenschuB. Heidelberg, 1925.
- Bodensees und seiner Umgebung. 1970. Hfi.88.1.ager K. Skeletfimdene ved Om Kloster. Kopenhagen, 1986.
- Jahn U. Zauber mit Menschenblut und anderen Teilen des menschlichen Korpers // Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft. Berlin, 1888. S. 130 140.
- Jaeger W. Augenvotive: Votivgaben, Votivbilder, Amulette. Sigmaringen, 1979 (ND).
- Jankun H. Spuren von Anthropophagie in der Capitulatio de partibus Saxoniae? // Nachschriften der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. 1968. Bd. I. Phil.-hist. Klasse. S. 59−71.
- Jansen J. Medizinische Kasuistik in den «Miracula sanctae Elysabeth»: Medizinische Analyse und Ubersetzung der Wunderprotokolle am Grab der Elisabeth von Turingen 1207−1231. Frankfurt a.M.- Bern, 1985
- Jarausch K. Der Zauber in der Islandersagas 11 Zeitschrift fur Volkskunde. 1930. Bd.l.Hft.3.
- Jaritz G. Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einfuhrung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters. Wien-Koln, 1989.
- Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Munchen, 1949.
- Jetter D. Klosterhospitaler: St. Gallen, Cluny, Escorial // Sudhoffs Archiv. 1978. Bd.62. S. 313−337.
- Popular religion in late Saxon England: elf charms in context Univ. of North Carolina Press, 1996.
- JorimannJ. Friihmittelalterliche Rezeptarien. Zurich-Leipzig, 1925.
- Kabell A. Skalden und Schamanen. Helsinki, 1980. (=FF Communications 127).
- Kerler D.H. Die Patronate der Heiligen. Ulm, 1905.
- Kieckhefer R. European witch trials: Theier foundations in popular and learned cultures, 1300−1500. Los Angeles, 1976. — Magie im Mittelalter. Munchen, 1992.
- Kippenberg H., Luchesi B. (Hg.). Magie. Die sozialwissenschaftliche Konrtowerse uber das Verstehen fremden Denkens. Frankfurt a.M., 1978.
- Klare H.J. Die Toten in der altnordischen Literatur I I Acta philologika Scandinavica. 1933/34. Bd. 8. S. 1−56.
- KotyJ. Die Behandlung der Alten und Kranken bei den Naturvolker. Stuttgart, 1933. Kotting B. Ecclesia peregrinans. Das Gottesvolk unterwegs. Gesammelte Aufsatze. 2 Bde. Munster, 1988.
- Der friihchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebeude. Koln-Opladen, 1965.
- Kreienkampf M. Das St. Georgener Rezeptar. Ein alemanisches Arzneibuch des 14. Jhs. Aus dem Karlsruher Kodex St. Georgen 73. (T.2). Wurzburg, 1992. Krohn K. Skandinavisk Mytologie. Helsinki, 1922.
- Krotzl Ch. Pilger, Mirakel und Alltag: Formen des Verhaltens im skandinavischen Mittelalter (12.-15. Jahrhundert). Helsinki, 1994. Krug A. Heilkunst und Heilkult. Munchen, 1993.
- M.Lauwers (Ed.). Guerriers et moines. Conversion et saintete aristocratiques dans Г
- Occident medieval (IX-e -XII-е siecle). Antibes, 2002.
- J.Le Goff, J. J.Ch. Sournia (Ed.). Les maladies ont une histoire. Paris, 1986.
- Goff J. Das Wunderbare im mittelalterlichen Abendland / Idem. Phantasie und
- Vorgeschichtliche Heiligtiimer und Opferplatze in Mittel- und Nordeuropa.
- Fruher Neuzeit / Saeculum, 1996.
- Die BuBordines in den iro-frankischen Paenitentialien. Schlussel zur Theologie und Verwendung der der mittelalterlichen BuBbucher // Friihmittelaterliche Studien. 1996. S. 150−172.
- McNeill W.H. Plagues and Peoples. New York, 1976.
- McDougall /. The Third Instrument of Medicine. Some Account of Surgery in Medieval Iceland // Health, Disease and Healing in Medieval Cultur // S. Campbell,
- B. Hall, D. Klausner (Ed.). Toronto, 1992. P. 57−83.
- Manninen I. Die demonistischen Krankheiten im finnschen Volksaberglauben. Helsinki, 1922. (=FF Communications 45).
- Marzell H. Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen. Darmstadt, 1967 (ND).
- Martini P. Wunder, Sunde und Krankheit // Arzt und Christ. 1960. N6. S. 71−76. Meier C.A. Der Traum als Medizin: Antike Incubation und moderne Psychotherapie. Zurich, 1985.
- Meier Ch. Die griechisch- romische Tradition //Die kulturellen Werte Europas / H. Joas, R. Wiegandt (Hg.). Frankfurt a.M., 2005. S. 93−116.
- Mensching G. Das Wunder im Glauben und Aberglauben der Volker. Leiden, 1957. Mentalitat und Alltag im Spatmittelalter / H.-W.Gotz (Hg.). Gottingen, 1985. Meyer E. Deutsche Volkskunde. Strassburg, 1898.
- C.) // W. Lourdaux, D. Verhelst (Ed.). Louvan- La Haye, 1976. P. 1−11. Muchembled R. Kultur des Volks Kultur der Eliten. Die Geschichte einer erfolgreichen Verdrangung. Stuttgart, 1982 (нем. перевод с франц. издания 1978 г.)
- Miiller G. Arzt, Kranker und Krankheit bei Ambrosius von Milano // Siidhoffs Archiv. 1967. Bd. 51. S. 193−216.
- Nahmer D. v. d. Die lateinische Heiligenvita. Eine Einflihrung in die lateinische Hagiographie. Darmstadt, 1994.
- Naumann H. Primitiver Totenglaube / Idem. Primitive Gemeinschaftskultur. Jena, 1921. S. 18−60.
- Niederhellman A. Arzt und Heilkunde in den friihmittelalterlichen Leges. Berlin-New-York, 1983.
- Nipperdey Th. Die Aktualitat des Mittelalters. Uber die historischen Grundlagen der Modernitat / Idem. Nachdenken uber die deutsche Geschichte. Essays. Munchen, 1991. S. 24−35.
- Oexle O.G. Armut und Armenfursorge um 1200 / Sankt Elisabeth. Furstin, Dienerin, Heilige: Aufsatze, Dokumentation, Katalog. Sigmaringen, 1981. —Die Gegenwart der Toten // Death in the Middle Ages // H. Braet, W, Verbeke (Hg.). Lowen, 1983. S. 21−77.
- Die Gegenwart der Lebenden und der Toten. Gedanken tiber Memoria // Gedachtnis, das Gemeinschaft stiftet / Hg. v. K. Schmid. Munchen- Zurich, 1985. S. 74−107.
- Hg.) Armut im Mittelalter. Ostfildern, 2004.
- Ohler N. Zuflucht der Armen. Zu den Mirakeln des heiligen Anno // Rheinische Vierteljahrblatter. 1984. S. 1−33.
- Alltag in Marburger Raum zur Zeit der hi. Elisabeth // Archiv fur Kulturgeschichte. Bd. 66.
- Sterben und Tod im Mittelalter. Munchen, 1990.
- Olsen M. Hedenske Kultminder. Norske Stendsnavne. Bd. I. Oslo, 1915. (=Skrifter utgitt av det norske videnspaps Akademi. Hist.-filos. Kl. N4). Otto R. Das Heilige. Breslau, 1921.
- Peuckert W.-E. Deutscher Volksglaube im Spatmittelalter. Hildesheim- New-York, 1978.
- Rangel L. Die Konversion / Seelischer Konflikt und korperliches Leiden: Reader zurpsychoanalytischen Psychosomatik // G. Overbeck (Hg.). Hamburg, 1978.
- Ranke K. Indogermanische Totenverehrung. Helsinki, 1951. (=FF Communications140.
- Reber O. Die Gestaltung des Kultes weiblicher Heiliger im Spatmittelalter. Die Verehrung der Heiligen Elisabeth, Klara, Hedwig und Birgitta. Hersbruck, 1963. Reichborn-Kjennerud J. V3r gamle trolldoms medisin. Bd. I- V. Oslo, 1928−47.
- Altnorvegische Heilkunde // Janus. 1936. S. 113−136.
- Reier H. Heilkunde im mittelalterlichen Skandinavien. Seelenvorstellungen im Altnordischen. Heft 1,2. Kiel, 1976.
- Rendtel C. Hochmittelalterliche Mirakelberichte als Quelle zur Sozial- und Mentalitatsgeschichte und zur Geschichte der Heiligenverehrung untersucht an Texten insbesondere aus Frankreich. Diisseldorf, 1985.
- Revel J. Peter J.P. Le corps: Thome malade et son histoire // J. Le Goff, P. Nora (ed.) Faire de l’histoire. Т. III. Paris, 1974. P. 169−191.
- Medicina historica. Zum Selbstverstandnis der historischen Medizin // Janus. Bd. 67. S. 7−19.
- E.K.Rohschuh (Hg.) Was ist Krankheit? Erscheinung, Erklarung, Sinngebung. Darmstadt, 1975.
- Rousche M. Miracle, maladies et psychologie de la foi a l’epoque carolingienne en Francie // Hagiographie, Cultures et Societes, VI-XII siecles. Paris, 1981. P. 319 337.
- Rousselle A. Du sanctuaire au thaumaturge: la guerison en Gaule au IV siecle // Annales Ё .S.C. 1976. P. 1085−1107.
- P. Russell (Hg.). Skaldsagas: text, vocation, and desire in the Icelandic sagas of poets. Berlin, 2001. (=Erganzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde / hrsg. von H. Beck. Bd. 27).
- Sartori P. Zahlen, Messen, Wagen // Am Ur-Quelle. Bd.IV. Hamburg, 1885. Schadenwaldt H. Elementargedanken in der Entwicklung der Heilkunde. // Die Medizinische Welt. 1987. N38. S. 5−8.
- Scheibelreiter G. Das Wunder als Mittel der Konfliktbereinigung // Archiv fur Kulturgeschichte. 1992. Bd. 74. S. 257−276.
- Schipperges H. (Art.) Antike und Mittelalter / Krankheit, Heilkunst, Heilung // H. Schipperges, E. Seidler, P.U.Unschuld (Hg.). 1978. S. 229−261.
- Hildegard von Bingen. Ein Zeichen fur unsere Zeit. Frankfurt a. M., 1981.
- Hildegard von Bingen Heilkunde. Das Buch von dem Grund und Wesen und der Heilung Krankheiten. Nach den Quellen iibersetzt und erlautert. Salzburg, 1957.
- Der Garten der Gesundheit. Medizin im Mittellalter. Munchen, 1985.
- Die Kranken im Mittelalter. Munchen, 1990.
- D. Schmidtke (Hg.). Das Wunderbare in der mittelalterlichen Literatur. Goppingen, 1994.
- Schmid K. Gedachtniss, das Gemeinschaft stiftet. Munchen- Zurich, 1985
- Schmidt G. Schuld und Strafe. Eine unbekannte Stellungnahme des Rathramnus von
- Corbi zur Kindestotung // Deutsches Archiv. 1982. Bd. 38. S. 363−387.
- Schmidt P. Der Teufels- und Damonenglaube in den Erzahlungen des Caesarius von1. Heisterbach. Basel, 1926.
- Schmitt J.C. Le saint levrer. Guinefort, guerisseur d’enfants depuis le XIII siecle. Paris, 1979. (Dt.: Schmitt J.C. Der heilige Windhund. Die Geschichte eines unheiliges Kults. Stuttgart, 1982.).
- Religion et guerison dans l’Occident medieval / Historiens et sociologiques aujourd’hui. 1984. Extrait.
- Der Mediavist und der Volkskultur / Volksreligion im hohen und spaten Mittelalter // Dinzelbacher P., D.R.Bauer (Hg). Paderborn, 1990. S. 29−40.
- HeidenspaB und Hollenangst. Aberglaube im Mittelalter (нем. пер. с фр. издания 1988 г.). Frankfurt а. М., 1993.
- Schmugge L. Die Anfange des organisierten Pilgerverkehrs im Mittelalter. (QFIAB 64). Tubingen, 1984. S. 1−83.
- Schuh B. Jenseitigkeit in diesseitigen Formen Sozial- und mentalitatsgeschichtliche Aspekte spatmittelalterlicher Mirakelberichte. Graz, 1989.
- Seligmann S. Der bose Blick und Verwandtes. 2 Bde. Berlin, 1910.
- Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Hamburg, 1922. M. Sendrail (ed.). Histoire culturelle de la maladie. Toulouse, 1980.
- Siebenthal W.v. Krankheit als Folge der Sunde. Eine medizinische Untersuchung. Hannover, 1950.
- Siegerist H. E. Die Sonderstellung des Kranken // Kyklos. Bd. 2. 1919.
- Studien und Texte zur friihmittelalterliche Rezeptliteratur. (=Studien zur Geschichte der Medizin 13). Leipzig, 1923.
- Sigal P. A. Maladie, pelerinage et guerison au XII siecles. Les miracles de saint Gibrien a Reims //Annales E.S.C. 1969. Vol. 24. P. 1522−1539.1.homme et le miracle dans la France medievale, XI-XII siecles. Paris, 1985.
- Sprander E. Einftihrung in die Philosophi. Tubingen, 1948.
- Stewart C. Die Entstehung des Werwolfglaubens // Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde. 1909. Bd. XIX. S. 30−51.
- Siidhoff K. Die Heilsamen Eigenschaften des Magdalenenbalsams // Archiv fur Geschichte der Medizin. 1909. N1. S. 388−390.
- Schwaiger G. (Hg.). Monchtum, Orden, Kloster. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Miinchen, 1998.
- Tenbruck F. Perspektiven der Kultursoziologie. Gesammelte Aufsatze. Opladen, 1996.
- Thomas K. Religion and the Decline of Magic. New-York, 1971.
- Trub C. L. P. Heilige und Krankheit. Stuttgart, 1978. (= Geschichte und Gesellschaft.
- Bochumer historische Schrifien. Bd.19).
- Touati F.-O. Archives de la lepre. Atlas des leproseries entre Loire et Marne auл1. Moyen Age. Paris, 1996.
- Uelie E. Nordische-Germanische Mythologie als Mysteriengeschichte. Stuttgart, 1965.(1. Aufg. 1926).
- Uhrmacher M. Leprosorien in Mittelalter und friiher Neuzeit. Koln, 2000.
- Ulrich-Bochsler S. Vom «enfant sans ame» zum «enfant du ciel». Die mittelaltelichen
- Totengeburten von Oberburen // Uni Press Bern. 1997. Bd. 92. S. 17−24.
- Unwert W.v. Untersuchungen tiber Totenkult und Odinnverehrung bei Nordgermanenund Lappen mit Excursen zur altnordischen Literatur. Breslau, 1911.
- Vanja C. Krankheit (Art.) // Europaische Mentalitatsgeschichte. Hauptthemen in
- Einzeldarstellungen / P. Dinzelbacher (Hg). Stuttgart, 1994. S. 195 -200.
- Vogel C. Les «Libri Paenitentiales». Turnhout, 1978 Vovelle M. Ideologies et mentalites. Paris. 1982.
- Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. 2 Bd. Berlin, 1970. (3 Aufl.) Wallfahrt und Alltag in Mittelalter und Frtiher Neuzeit. Internationales Round-Table-Gesprach, Krems an der Donau, 8. Okt. 1990. Wien, 1992.
- Ward B. Miracles and the medieval mind- Thory, Record and event, 1000- 1215. Philadelphia, 1982.
- Wandel der Geschlechterbeziehungen am Beginn der Neuzeit / H. Wunder, Chr. Vanja (Hg.). Gottingen, 1991.
- Waschnitius V. Perht, Holda und verwandte Gestalten. Ein Beitrag zur deutschen Religionsgeschichte // Sitzungsbericht der Keis. Akad. der Wiss. (Philos.-hist. Kl.). Bd. 174. 2. Abt. 1913.
- Weber M. Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftlehre. Tubingen (5.Aufl.), 1982. (Цит. по русскому изданию: Вебер M. Избранные произведения. М., 1990). Weinhold К. Altnordisches Leben. Berlin, 1856. Wenz-Haubfleish A. Miraula post mortem. Siegburg, 1998.
- W.Welzig (Hg.). Predigt und soziale Wirklichkeit: Beitrage zur Erforschung der Predigtliteratur. Amsterdam, 1981.
- Wendel-Widmer R. B. Die Wunderheilungen am Grabe der Heiligen Elisabeth von Tiiringen. Zurich, 1987.
- Wesche H. Der altnordische Wortschatz im Gebiet des Zaubers und des Weissagung. Halle, 1940.
- Wesjohann A. IndividualitatsbewuBtsein in frtihen franziskanischen Quellen? Eine Suche nach Indizien/ Das Eigene und das Ganze. Zum individuellen immittelalterlichen Religiosentum // G. Melville, M. Schurer (Hg.). Munster, 2002. S. 225−268.
- Wiegelmann G. Der «lebende Leichnam» im Volksbrauch // Zeitschrift fur Volkskunde. 1966. Bd. 62. S. 161−183.
- Willerding U. Botanische und palao-botanische Untersuchung auf der Plesse // Plesse-Archiv. 1991. Bd. 27. S. 259−264.
- D.Williman (Ed.) The Black Death. The Impact of the 14-th Century Plague. New-York, 1983.
- Wittmer-Butsch M. E. Zur Bedeutung von Schlaf und Traum im Mittelalter. Krems, 1990. (= Medium Aevum Quotidianum I).
- P. Wunderli (Hg.). Der kranke Mensch im Mittelalter und Renaissance. Dusseldorf, 1986.
- Zimmermann G. Ordensleben und Lebensstandart. Die Cura corporis in den Ordensvorschriften Hochmittelalters. Miinchen, 1973.
- Zinser H. Glaube und Aberglaube in der Medizin. Dortmund, 2000.