Эволюция доктрин и политики безопасности латиноамериканских стран
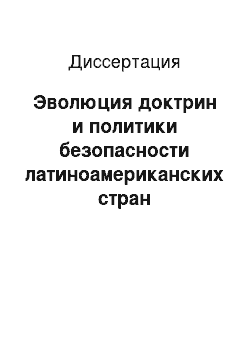
Алексеева Т. Г. Дилеммы безопасности: американский вариант. — Полис, 1993, № 6, с. 16−27- Богатуров А. Д. Плюралистическая однополяр-ность и интересы России, — Свободная мысль., 1996, № 2, с.26−29, его же: Современные теории стабильности и международные отношения России в Восточной Азии в 1970;90-е гг. М., 1996; Гаджиев К. С. О природе конфликтов и войн в современном мире. — Вопросы Философии… Читать ещё >
Содержание
- Введение. Обзор источников и литературы
- Глава II. ервая. Влияние цивилизационных и геополитических особенностей на формирование представлений о безопасности вранах региона
- 1. Социо-культурные и исторические аспекты проблематики безопасности
- 2. Геополитические реалии Западного полушария как фактор формирования представлений о безопасности
- Глава Вторая. Эволюция доктрин и политики безопасности латиноамериканскихран в XX веке
- 1. Интересы национальной безопасности государств региона и создание межамериканской системы в первой половине XXолетия
- 2. Сущность латиноамериканского национализма. Доктрины национальной безопасности в годы правления военных режимов
- 3. Политика «супер — безопасности» как фактор дестабилизации
- Глава Третья. Проблемы перехода латиноамериканских государств к новой модели региональной безопасности
- 1. Региональные конфликты 80-х годов и начало перотра концепции континентальной безопи
- 2. Влияние глобальныхвигов 90-х годов на изменение подходов латиноамерикаихран к проблемам безопи
- 3. Концепции и политика безопасности ведущих гдав региона
- Глава. Четвертая. Региональная безопасность в Западном полушарии и проблемы глобального регулирования
- 1. Интеграция иановление региональных режимов «безопитрудничва»
- 2. Глобальная проекция региональныхстем и режимов безопасности латиноамериканскихран
- 3. Латиая Америка и Рия: пеективы глобального взаимодевия
Эволюция доктрин и политики безопасности латиноамериканских стран (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Диссертация посвящена исследованию эволюции доктрин и основных направлений политики безопасности государств Латинской Америки во второй половине XX века и перспектив ее становления в качестве многоуровневой интегративной безопасности следующего столетия.
Проблемы безопасности находятся сегодня в центре внимания мировой общественности и политической науки. Начиная от уровня личной и общественной безопасности и кончая ее более высокими «этажами» — национальной, региональной и глобальной, «безопасность» все чаще начинает восприниматься как комплексная система, условие дальнейшего существования человечества на нашей планете. Субъективные представления о безопасности отдельных людей, различных социальных групп, общественных, неправительственных организаций сегодня все больше начинают находить свою объективацию во внутренней и внешней политике государств.
Под влиянием роста процессов глобализации и информатизации в мире, сокращения значимости военно-политических компонентов безопасности, имеет место прогрессирующая дифференциация этого понятия, насыщение его такими нетрадиционными компонентами, как «экономическая», «экологическая», «информационная», «этно-культурная», «социальная», «нравственная» и т. д. безопасность. Таким образом, развитию представлений о безопасности по вертикали (многоуровневость), корреспондирует расширение ими своих горизонтальных пределов (интегративность). Это позволяет говорить о складывающейся сегодня в умах политиков, политологов и рядовых граждан идее интегративной и многоуровневой безопасности будущего мира, все компоненты которой находятся в системной связи друг с другом.
Практическое значение изменения представлений о безопасности, связанного с переносом акцентов с военно-политических и геополитических компонентов на экономические и общегуманитарные, для мировой экономики и политики уже в самой ближайшей перспективе может быть очень велико. Серьезные попытки в деле осмысления этих новаций и их практической реализации уже предпринимаются в ряде стран и регионов земли, в том числе в государствах Латинской Америки (ЛА), исторически внесших большой вклад в появление и развитие первой в мире системы регионального сотрудничества и безопасности (Панамериканская система, 1889 г., Организация американских государств, 1948 г.).
Страны латиноамериканского региона, длительное время, вплоть до начала 70-х годов нашего столетия находившиеся как бы в стороне от большой мировой политики, прошли, тем не менее, весьма значимый путь развития представлений о собственных интересах национальной и региональной безопасности, связанный с долгой борьбой за их практическое обеспечение. Сегодня, стремясь упрочить свои позиции на международной арене и войти в XXI век в качестве авторитетных членов мирового сообщества, они пытаются перестроить систему региональной безопасности, сложившуюся в Западном полушарии, на основе идей, близких к парадигме многоуровневой интегративной безопасности (МИБ), неизбежно внося в нее свою региональную и страновую специфику.
В наши дни, многие политические явления и процессы, происходящие в различных государствах и регионах Земли, в том числе — и в весьма удаленных друг от друга, могут быть поняты лишь на основе увязки в восприятии общих для всех, универсальных тенденций, и той специфики развития, которая определяется региональными и страновыми условиями. Среди этих условий, наряду с социально-экономическими, можно выделить исторические, геополитические, этнокультурные, религиозные и другие, которые в сумме составляют «цивилизационный облик» того или иного региона, государства или нации.
Специфика политики государств латиноамериканского региона в сфере их региональной безопасности обусловливается чертами, делающими изучение ее эволюции весьма интересным как с точки зрения современной политологии, так и с учетом интересов развития нашего государства. Это, в первую очередь, особый характер латиноамериканских обществ с присущим ему трудным процессом становления специфической, национально-ориентированной модели демократии и рынка, который на региональном уровне предполагает реализацию стратегии устойчивого развития, а в более дальней перспективе стремится к осуществлению инварианта глобального развития, акцентирующего духовно-нравственные ценности человечества.
Для России, также занятой сегодня поисками комплексной, национально — ориентированной стратегии развития, особую важность в этом плане представляет некоторая схожесть правосознания латиноамериканцев и россиян, традиционно, сообразно католическому и православному мироощущению, отдающих приоритет ценностным и духовным началам в праве (доктрины «естественного права») перед его нормативными и позитивистскими основами, возвышаемыми в протестантской этике. Соответственно, региональные подходы стран ЛА к решению многих сложных проблем, затрагивающих их интересы в сфере безопасности, таких как, например, обеспечение государственного суверенитета в условиях роста глобальной взаимозависимости, укрепление режимов безопасности в рамках интеграционного взаимодействия, миротворчество и поддержание внутригосударственной стабильности, могли бы представлять определенный интерес для России.
Изучение эволюции доктрин и политики региональной безопасности стран ЛА дает возможность проследить закономерности вызревания современных, отвечающих реалиям XXI века, концепций МИБ государств, имеющих схожие черты цивилизационного и исторического развития, заранее определить возможные трудности и «узкие места» в преодолении ими внутрии внешнеполитического наследия тоталитаризма и авторитаризма, в укреплении их демократической стабильности и внешнеполитического авторитета, что представляет интерес не только в научном, но и в практическом плане.
Исследование такого явления, как национализм в странах ЛА представляется весьма актуальным благодаря его особой обусловленности геополитическими реалиями и связи с понятиями «национальная безопасность» и «государственный суверенитет». Зависимость стран ЛА от их могущественного северного соседа, все еще сохраняющая свою актуальность в наши дни, проблема преодоления сложных геополитических и националистических «раскладов» в регионе, обусловленных уникальным положением Бразилии на южноамериканском континенте, историческим соперничеством между Бразилией и Аргентиной, территориальными проблемами в «Южном конусе», Андском субрегионе и центральноамериканских странах — многое из этого сегодня созвучно тем проблемам, с которыми сталкивается или может столкнуться Россия на постсоветском пространстве, в Европе и Азии. Сегодняшняя региональная геополитика, все больше становящаяся «геоэкономикой», попытки создания новых геополитических осей сотрудничества (Бразилиа — Буэнос-Айрес — Сантьяго), и предпринимающиеся на этой основе усилия по самостоятельному выходу некоторых государств региона для участия в глобальном регулировании XXI века и построении основ будущего миропорядка, представляют особый интерес с точки зрения укрепления интеграционных процессов в СНГ и повышения международного авторитета России.
Анализ основных теоретических постулатов, положенных в основу политики «супер-безопасности» в таких странах, как Бразилия, Аргентина, Перу и Боливия, которая стала одной из важных причин кризисного развития региона в восьмидесятые годы, рассмотрение в контексте эволюции концепций безопасности всего комплекса проблем, связанных с военно-гражданскими отношениями в латиноамериканских обществах, начиная от проблемы автономизации вооруженных сил (ВС) как особого социального института, и заканчивая вопросами демилитаризации и разоружения, может способствовать совершенствованию военной доктрины и доктрины национальной безопасности России, становлению более углубленной и взвешенной политики в отношении ее вооруженных сил, нахождению оптимального баланса в сфере военно-гражданских отношений.
Весьма актуальным с точки зрения интересов национальной безопасности России, перспектив ее «вписываемости» в систему нового миропорядка XXI века и практического утверждения концепции многополярного мира, может быть рассмотрение усилий стран ЛА в построении, на основе интеграционного взаимодействия, новой системы (систем) региональной (субрегиональной) безопасности Западного полушария. Важную роль здесь призван сыграть выбор такой стратегии и режима безопасности, которые соответствовали бы не только экономическим императивам, но и цивилизационной специфике интегрирующихся стран (в латиноамериканском случае — стратегия «открытого регионализма» и режим «безопасности сотрудничества»).
Большой интерес представляет анализ предлагаемых в доктринах и концепциях безопасности стран ЛА путей и методов укрепления регионального сотрудничества в военной сфере, урегулирования межгосударственных споров и противоречий, борьбы с терроризмом, наркотрафиком, контрабандой оружия, преступностью и коррупцией. Особого внимания заслуживает изучение разрабатываемых ими теоретических основ, направленных на совершенствование и развитие правовой базы современных международных отношений, с целью исключения из международной практики любых новых форм гегемонизма.
Цель данного исследования — раскрытие эволюции концептуальных основ, а также практической политики латиноамериканских государств в области обеспечения ими своих национальных интересов, выявление основных направлений политики безопасности и их взаимодействия, с целью определения перспектив становления в регионе системы МИБ и ее главных компонентов. Исходя из указанных целей, были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать цивилизационные и геополитические особенности стран ЛА и оценить их влияние на формирование представлений о безопасности;
2. Проследить эволюцию доктрин и политики латиноамериканских стран в сфере безопасности в конце XIX — начале XX столетия, раскрыть значение радикального национализма и политики «супер-безопасности» как факторов кризисного развития в 70-е -80е годы;
3. Рассмотреть воздействие региональных конфликтов 80-х годов на начало практического пересмотра странами региона концепции континентальной безопасности, ускорение процессов субрегиональной и региональной интеграции и разработку основ нового режима безопасности («безопасность сотрудничества»);
4. Изучить влияние глобальных сдвигов, происшедших в 90е годы, на дальнейшую эволюцию представлений о безопасности, рассмотреть доктрины национальной безопасности ведущих государств региона и выделить содержащиеся в них новые направления и приоритеты;
5. Выявить препятствия и трудности, стоящие на пути создания латиноамериканскими странами системы МИБ, исследовать степень общности их интересов в этой области и пределы их самостоятельности в отстаивании последних;
6. Проанализировать перспективу более активного подключения стран ЛА к проблемам глобального регулирования, в том числевозможность их теоретического вклада в разработку актуальных политико-правовых проблем, связанных с поддержанием международной безопасности, оценить их потенциал стран в деле наполнения практическим содержанием концепции многополярного мира;
7. Рассмотреть варианты сотрудничества между Россией и странами ЛА в политико — правовой, торгово-экономической и военно-технической областях на основе нахождения общих точек зрения на проблематику безопасности в рамках концепции многополярного мира, оценить перспективы такого сотрудничества и его пользу для интересов нашей страны;
8. Параллельно с этим, в ходе диссертационного исследования развить понятийный аппарат, попытавшись точнее, с учетом реалий сегодняшнего дня, определить смысл таких понятий, как «безопасность», «геополитика», «национализм», «национальный интерес», «суверенитет», «конфликт» и «стабильность», активно использующихся в современной политологии.
В качестве предмета исследования избраны концептуальные установки и практическая политика государств Латинской Америки (кроме Кубы), по всему комплексу проблем, связанных с обеспечением интересов их безопасности.
Тема диссертации впервые стала объектом комплексного изучения и обобщающего анализа в отечественной научной литературе. В последние годы остро ощущалась необходимость в раскрытии темы о доктринах и политике безопасности в странах ЛА как самостоятельной, не подчиненной смежным с ней вопросам экономики, внешней и внутренней политики. Назрела также потребность в историческом и политологическом рассмотрении этой темы, позволяющем обнаружить генезис и судить о стабильности рассматриваемых явлений.
Новым является и использование цивилизационных методов. Мировая практика, особенно последних лет, показала, что рассмотрение вопросов, связанных с темой личной, общественной, государственной и международной безопасности невозможно лишь на основе формационного подхода, без анализа цивилизационной и культурно-эмоциональной среды в тех или иных обществах, социально-политических объединениях, государствах, субрегиональных и региональных структурах. Для Латинской Америки, долгие годы находившейся как бы «в тени» своего «великого северного соседа», особую значимость приобрели вопросы, связанные с пробуждением национального самосознания ее народов, которое на протяжении истории нередко принимало форму либо радикального, либо конструктивного национализма. Исследование в значительной степени является новым и для зарубежной историографии.
В диссертации, с учетом цивилизационных особенностей стран ЛА, исследуются генезис, социально-экономические, геополитические и исторические основы складывавшихся в регионе представлений о безопасности, а также политики, направленной на ее обеспечениепоказывается роль и значение этих особенностей в формировании такого явления, как национализм, и анализируется влияние последнего на распространение в регионе авторитарных режимов. Впервые, с учетом практики военных правительств, поднимается вопрос о негативном воздействии гипертрофированных представлений о безопасности («супербезопасность») на экономику и политику большинства государств. Также впервые показывается роль изменения этих представлений в 70-е годы на последующую их демократизацию. В исследовании рассматривается проблема становления нового латиноамериканского регионализма, основанного на концепции МИБ, а также предпринимаемые странами ЛА практические шаги по переходу к политике, преследующей цель их более активного участия в формировании миропорядка XXI века.
Наряду с этим в диссертации:
1/ вскрываются причины неудач радикального реформирования континентальной системы безопасности и лежащих в ее основе доктринобосновывается бесперспективность возрождения межамериканского сотрудничества в этой сфере в таких формах, которые изолировали бы страны региона от активного участия в мировой политике;
2/ исследуются новые компоненты военных доктрин и концепций безопасности ведущих государств региона;
3/ устанавливается взаимосвязь системного подхода к внедрению новых компонентов политики национальной безопасности в политическую жизнь отдельных стран и всего региона в целом с общей внутриполитической стабилизацией и укреплением международных позиций латиноамериканских государств;
4/ прослеживается взаимодействие между интеграционными усилиями стран ЛА и их новыми подходами к обеспечению безопасностирассматривается влияние внешних и внутренних факторов, как препятствующих, так и способствующих становлению новой системы (систем) и режимов безопасности в Западном полушарии;
6/ обосновывается важность более активного подключения латиноамериканских стран к решению основных проблем глобальной безопасности в XXI веке, выделяются основные направления, где такое подключение могло бы быть особенно эффективным.
Практическое значение диссертации заключается в том, что анализ основных направлений концептуального и практического развития политики безопасности в странах ЛА помогает найти оптимальный баланс между консерватизмом и радикализмом в политическом и экономическом развитии государств с близкими цивилизационными и социальноэкономическими характеристиками, лучше понять меру корректного соотношения меиоду силовыми и несиловыми методами обеспечения безопасности.
Раскрытие усилий латиноамериканских стран по внедрению новых системообразующих компонентов в теорию и практику обеспечения их внутренней и внешней безопасности, дает, кроме того, многообещающий пример выхода из тяжелого структурного кризиса на качественно-новый уровень межгосударственного сотрудничества, сориентированного на демократизацию, региональную интеграцию и активизацию международной политики таких государств.
Осмысление новаций, протекающих в сфере обеспечения комплексных интересов безопасности стран ЛА, представляется важным для дальнейшего развития российской латиноамериканистики, сравнительной и региональной политологии и конфликтологии. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке лекционных курсов по новейшей истории, политологии и праву, для прогнозирования политического развития как стран Западного полушария, так и России и государств СНГ, а также для построения перспективных моделей субрегиональной и региональной безопасности.
Хронологические рамки диссертации охватывают преимущественно период конца 60-х — 90 годов XX века. При этом, для выяснения генезиса интересов безопасности в регионе, диссертант обращался к проблематике конца XIX — первой половины XX столетия. Попытка разработки перспективных сценариев развития отношений безопасности в Западном полушарии потребовала расширения хронологических рамок работы на среднесрочную перспективу (10−15лет).
В своем исследовании диссертант стремился использовать элементы как формационного, так и цивилизационного подходов, что позволяло должным образом учитывать наряду с социально-экономическим условиями изучаемых стран, геополитические, психологические, религиозные, социо-культурные и военные компоненты их исторического развития, а также воздействие на него разнообразных внешних факторов.
Исходя из этого, в диссертацию сознательно не была включена проблематика англоговорящих государств Карибского бассейна, имеющих значительные цивилизационные отличия от испанои португалоговорящих стран Северной, Центральной и Южной Америки. Кроме того, по чисто формальным признакам (англоговорящие государства Карибского бассейна не являются, например, участниками Межамериканского договора о взаимной помощи — МДВП 1947 г.), рассмотрение их в контексте проблем, связанных с региональной безопасностью, было бы некорректным. Кубинская проблематика, в силу своей особой специфики, также не затрагивалась диссертантом специально. Ситуация, сложившееся вокруг Кубы после 1962 г. (исключение из всех структур континентальной безопасности), лишила ее возможности участвовать в коллективных усилиях латиноамериканских стран по их реорганизации. В то же время, диссертант полагает, что изучение воздействия Кубы на проблему обеспечения безопасности Западного полушария могло бы стать темой самостоятельного исследования.
Диссертант считает некорректным употребление термина «региональная безопасность» применительно к межамериканской системе. Географические, цивилизационные и социально — экономические различия между двумя Америками, по его мнению, слишком велики, чтобы можно было объединять их понятием «регион». Такое искусственное объединение было продиктовано в свое время политикой Соединенных Штатов, основанной на идее о якобы существующем «единстве интересов» США и государств ЛА. Сегодня, когда интересы стран латиноамериканского региона, в том числе и в сфере безопасности, оказались уже достаточно идентифицированы, диссертанту представляется более уместным говорить о «континентальной» безопасности в тех случаях, когда речь идет о структурах с участием США и Канады, и о «региональной» там, где участвуют государства Латинской Америки.
При раскрытии темы применялись исторический и сравнительный методы исследования, дававшие возможность раскрывать как общие тенденции концептуального и практического развития представлений о национальной безопасности в странах ЛА, так и отслеживать специфику отдельных государств в этом процессе. Диссертант широко пользовался теоретическими разработками международной политологии и конфликтологии, а также международного права в исследовании природы и особенностей таких понятий, как «безопасность», «геополитика», «суверенитет», государственные", «национальные» интересы и «конфликт» государственных интересов.
В качестве теоретической основы диссертации были избраны произведения основоположников формационного подхода 1], а также ученых, внесших решающий вклад в становление цивилизационной методологииТойнби А., Вебера М., Шпенглера О., Ясперса К. 2]. Раскрытие цивилизационной и политико-правовой специфики латиноамериканских стран потребовало от диссертанта обращения к произведениям Боливара С. 3] и Бельо А. 4], а также к трудам латиноамериканских юристовмеждународников — Де Бустаманте А., Пуига Х.-К., Йепеса Х.-М., Хименеса де Аречаги Э. 5]. Понимание российских цивилизационных корней и особенностей российского правосознания было облегчено благодаря произведениям H.A. Бердяева H.A., Гинса Г. Л., Кистяковского Б. А, Котляревского С. А, Покровского И. А., Соловьева Вл.С., Тихомирова Л. А., Чаадаева П. Я. 6]. Для уяснения специфики современной российской международно — правовой доктрины диссертант обращался к трудам отечественных юристов 7].
При изучении проблематики внутригосударственных и международных отношений, концепций «национальных» и «государственных» интересов, роли и влияния силовых факторов в политике, вопросов, относящихся к геополитике, соотношению этического, правового и силового измерений в представлениях о безопасности, диссертант принимал во внимание как теоретические разработки ведущих представителей различных направлений современной политической мысли Запада (Арон Р., Бузан Б., Дарен-дорф Р., Кохен Р., Кеннан Дж., Кеннеди П., Киссинджер Г., Моргентау Г., Розенау Дж., Фукуяма Ф., Хантингтон С.) 8], так и труды российских и латиноамериканских авторов, внесших свой вклад в дискуссию по вышеназванным проблемам.
В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют обобщающие работы, посвященные комплексному изучению эволюции доктрин и политики безопасности латиноамериканских государств. Вышедшие в 60еначале 70х годов работы Гонионского С. А. 9], Гвоздарева Б. И. 10], Тарасова К.С.11], Селиванова В. Н. 12], затрагивали лишь отдельные аспекты этой темы в рамках исследования проблематики отношений США со странами ЛА. В целом правильно раскрывая экспансионистскую сущность политики Вашингтона, специфику и характер межамериканской системы и межамериканских военных отношений, эти работы, тем не менее, несли на себе отпечаток чрезмерной идеологизации. Кроме того в них, так же как и в некоторых других работах советских авторов, посвященных межамериканским отношениям и внешней политике латиноамериканских государств 13], эти последние трактовались зачастую как пассивные, несамостоятельные объекты международных отношений, не имеющие собственных интересов на международной арене.
Изменению такого подхода во многом способствовало появление ряда работ по внутри — и внешнеполитической проблематике стран ЛА 14J, где четко очерчивались интересы различных классов и слоев латиноамериканских обществ, в том числе — военных, интеллигенции и государственных служащих, имевших собственные воззрения на внешнюю политику и вопросы обеспечения безопасности. Среди монографий, посвященных роли армий в странах региона, в этом смысле особенно выделялись работы Антонова Ю. А., Мирского Г. И. и Шульговского А. Ф. 15]. Затрагивая определенные стороны проблемы обеспечения безопасности, в частности, такую важную ее область, как военно-гражданские отношения, эти работы не касались, однако, общей эволюции и перспектив развития политики безопасности.
Новыми подходами к восприятию латиноамериканских стран, как достаточно автономных субъектов международных отношений, имеющих исторические корни и перспективы самостоятельного развития, были отмечены появившиеся в 80-е — 90-е годы работы отечественных латиноаме-риканистов Вольского В. В., Бобровникова A.B., Глинкина А. Н., Григорьяна Ю. М., Давыдова В. М., Дабагяна Э. С., Ермольевой Э. Г., Зубрицкого Ю. А., Ивановского З. В., Лазарева М. И., Капустян Е. Г., Клочковского Л. Л., Коваля Б. И., Лунина В. Н., Матлиной A.A., Майданика К. Л., Мерина Б. М., Окуневой Л. С., Сударева В. П., Сизоненко А. И., Тепермана В. А., Чумаковой М. Л., Шереметьева И. К., Шестопала A.B., Шульговского А. Ф., Яковлева П. П. и других. Для этих работ было характерным проведение четкого водораздела между национальными интересами США и интересами латиноамериканских государств, наряду с констатацией у последних неуклонного нарастания общности подходов к проблеме обеспечения своих национальных интересов.
Наиболее взвешенный подход к этому вопросу был характерен для коллективной монографии под редакцией Глинкина А. Н. «Латинская Америка в международных отношениях. XX век». В ней прослеживалась борьба стран региона за утверждение принципа невмешательства и неприменения силы, исторически обосновывалось наличие у них собственных интересов, во многом отличных от интересов США 16].
Тема соотношения политики США и государств Латинской Америки в межамериканской системе и ОАГ поднималась в монографии Антясова M B. «Панамериканизм: идеология и политика» 17], в диссертационной работе Капустян Е. Г. «Эволюция и противоречия межамериканской системы во второй половине 70-х — середине 80-х годов (на примере ОАГ)», а также в работах Глинкина А. Н., и Сударева В. П. 18]. Касаясь эволюции межамериканской системы с 40-х по начало 80-х годов, эти авторы подчеркивали ее глубокий кризис, отмечая, что ОАГ долгое время находилась как бы «на перепутье», и предвидели дальнейшее усиление борьбы в межамериканских отношениях, в том числе — и идеологической, вокруг проблемы континентальной и региональной безопасности. При этом ими не исключалось появление в будущем новых, «чисто» — латиноамериканских структур сотрудничества в этой области.
Среди работ, посвященных проблемам военной безопасности латиноамериканских стран следует упомянуть коллективную монографию «Латинская Америка: гонка вооружений и проблемы безопасности» 19], где впервые была предпринята попытка дать целостную картину воззрений латиноамериканских государств на проблемы регионального военного сотрудничества, разоружения, нераспространения ядерного оружия и урегулирования локальных конфликтов в 80-е годы, а также работу «ВПК стран Латинской Америки: тенденции, проблемы, перспективы» 20].
Роль коллективной дипломатии латиноамериканских стран в решении вопросов безопасности и миротворчества на примере центральноамериканского кризиса была хорошо показана в монографии.
Центральноамериканский конфликт: от противоборства к урегулированию" под редакцией Глинкина А. Н. и Сударева В. П., а также в докторской диссертации Чумаковой М. Л. «Политические процессы в Центральной Америке» 21]. В этих работах анализ одного субрегионального кризиса — центральноамериканского, впервые был дан в контексте как региональных, так и глобальных тенденций развития современных представлений о безопасности, теории и практики мирного разрешения конфликтов. Кроме того, в российской литературе затрагивались различные аспекты обеспечения некоторых отдельных видов и направлений политики безопасности в странах ЛА — военной, экономической, экологической, продовольственной, энергетической, национально-культурной, рассматривались проблемы обеспечения внутриполитической стабильности, борьбы с коррупцией, наркоторговлей и преступностью 22].
К концу 90-х годов в отечественной латиноамериканистике окончательно встала в повестку дня необходимость самостоятельного и комплексного изучения зарождающейся в государствах региона новой парадигмы безопасности, ее общей эволюции и современного состояния, а также перспектив развития на среднесрочный период.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.
Достоверность диссертационного исследования обеспечивается использованием широкого круга документальных источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Основные источники, используемые в диссертации, можно разделить на пять групп.
К первой группе относятся официальные документы правительств и парламентов ведущих латиноамериканских стран, американской администрации и Конгресса США, Указы Президента РФ, международные договоры и соглашения, меморандумы, протоколы и декларации, затрагивающие проблематику международной, региональной и национальной безопасности латиноамериканских стран, США и России, а также архивные материалы 23]. Содержащиеся в них сведения предоставляют важную фактологическую и концептуальную основу для отслеживания эволюции взглядов латиноамериканских стран на проблемы обеспечения их безопасности, а также отношения к этому Соединенных Штатов. Особое место в этой группе занимают разработки независимых экспертов США, положенные затем в основу латиноамериканской политики нескольких американских администраций (доклады «Комиссии Линовица», «Документ Санта-Фе») 24]. Изучение отдельных положений военной доктрины и Концепции национальной безопасности РФ помогло диссертанту обнаружить универсальные тенденции в развитии концепции МИБ и наметить перспективы росеийсколатиноамериканского сотрудничества в этой сфере.
Вторую группу составляют документы международных организаций, ООН и ОАГ, а также структур латиноамериканского субрегионального (интеграционные объединения), регионального («Группа Рио»), и межрегионального сотрудничества (встречи «Группа Рио» — ЕС, Ибероамерикан-ские конференции) 25]. Сюда же относятся документы различных комитетов и комиссий, действующих как под эгидой международных организаций, так и независимых, где уделяется внимание вопросам безопасности. Здесь следует упомянуть разработки Института ООН по изучению проблем разоружения (ЮНИДИР), а также специализированных межамериканских комиссий и комитетов, как постоянных, так и созданных ad hoc 26]. В последние годы проблематика безопасности активно освещается в материалах латиноамериканских неправительственных и общественных организаций и фондов, таких, как, например, Латиноамериканский Факультет социальных наук (ФЛАКСО) Чили, Институт исследований в области международных отношений (ИПРИ) Фонда Апешандри ди Гузмао (Бразилиа), Центр социальноэкономических и политических исследований для Латинской Америки (СЕСПАП) Аргентины, Европейско — латиноамериканский Форум по проблемам устойчивого развития, и т. д. 27], что свидетельствует о наличии стойкого интереса к ней самых широких слоев латиноамериканской общественности.
Третью группу образуют официальные доктринальные разработки, документы и руководства в области обеспечения безопасности, принимающиеся в правительственных ведомствах, в первую очередь — в министерствах иностранных дел, военных и силовых министерствах различных латиноамериканских государств. Особую значимость в этой группе источников имеют документы Высшей Военной Школы (ВВШ) и Центра стратегических исследований (CEE) Бразилии, а также Национальной Академии политических и стратегических исследований Чили. Публикации в специализированных журналах министерств и ведомств — «Политика и эстратехиа» (Чили), «Политика эштерна», «Парсериас эстратежикас» (Бразилия), «Сегуридад эстратехика рехиональ» (Аргентина), «Политика интернасьо-наль» (Перу) и др. способствовали лучшему пониманию диссертантом специфики военно-гражданских отношений в странах ЛА, обнаружению и оценке нюансов в подходах к обеспечению национальной, региональной и международной безопасности различных звеньев их государственного аппарата 28].
Четвертая группа представлена материалами прессы латиноамериканских государств, США и западноевропейских стран, а также отечественной периодикой. В ней содержатся декларации партий и общественных организаций, мнения экспертов по вопросам национальной безопасности, а также важный фактологический материал. Особый интерес в этом плане представляют публикации в академических журналах стран Европы и Америки, а также документальные и специализированные приложения к ним 29].
Пятая группа источников включает в себя статистические обзоры, касающиеся социально-экономического развития стран латиноамериканского региона, импорта и экспорта вооружений, масштабов и перспектив собственного производства вооружений отдельными странами ЛА и параметров их военных бюджетов, подготовленные национальными и международными организациями. Из последних наибольшей репрезентативностью отличаются публикации независимого Стокгольмского института по изучению проблем мира (СИПРИ), Всемирного банка, Межамериканского банка развития (МАБР) и Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 30].
При исследовании темы автор использовал обширную литературу по проблемам международных отношений, политики и экономики Латинской Америки и развивающихся стран, а также труды отечественных философов, политологов, социологов, историков и юристов-международников, специализирующихся по вопросам безопасности, геополитики и международного права.
Весомым дополнением к разработке социальных и экономических факторов, лежащих в основе стремления латиноамериканских стран к независимому развитию, стало исследование в отечественной латиноамери-канистике такого сложного и многогранного явления, как национализм. В коллективной монографии «Национализм в Латинской Америке: политические и идеологические течения» под редакцией А. Ф. Шульговского 31], обращали на себя внимание диалектический подход авторов к этой проблеме, ранее трактовавшейся с узко-классовых позиций, а также попытка выделить в латиноамериканском национализме конструктивное, антиимпериалистическое течение, способное питать идеологию регионального единства.
Дальнейшее развитие изучение национально — культурной специфики латиноамериканских стран получило в 90-е годы в работах российских латиноамериканистов Гончаровой Т. Г., Коваля Б. И., Семенова С. И., Сте-ценко А.К., Шемякина Я. Г. 32]. Ими обосновывалась необходимость синтеза формационного и цивилизационного подходов к изучению социально-политических процессов в регионе, отмечалась важность преодоления односторонности при анализе его национальной и страновой конкретики. Намечая некоторые «цивилизационные параллели» между ибероамерикан-скими странами и Россией, эти авторы подводили теоретическую основу под возможность компаративных исследований политических процессов, протекающих сегодня в странах ЛА и на постсоветском пространстве, в том числе, в такой важной сфере, как обеспечение безопасности.
Освещение проблем внешней политики и международной безопасности, а также общей социально-экономической проблематики развивающихся стран на страницах журналов «Латинская Америка», «Международная жизнь» «Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы философии», «Свободная мысль» и некоторых других, публиковавшиеся в них материалы дискуссий и «круглых столов», существенным образом расширяли представление диссертанта о современных взглядах латиноамериканских государств на проблемы обеспечения своей безопасности с учетом социально-экономических, геополитических, психологических и этнокультурных факторов.
В появившихся в 90-е годы российских публикациях по правовой и политологической тематике таких авторов, как Алексеева Т. Г., Богатуров А. Д., Виноградов В. А., Гаджиев К. С., Здравомыслов А. Г., Капустин А. Я., Капустин Б. Г., Колосов Ю. М., Косолапов H.A., Кортунов C.B., Красин Ю. А., Пархалина Т. Г., Пирумов B.C., Петровский В. Е., Прохоренко И. Л., Рогов С. М., Рубанов В. А., Садовничий В. А., Скакунов Э. И., Сорокин К. Э. 33] и др., содержался интересный дискуссионный материал, позволяющий лучше уяснить современное содержание таких понятий, как «национализм», «геополитика», «государственный суверенитет», «национальные интересы», «национальная безопасность», «стабильность», «конфликт» и т. д. В работах этих авторов присутствовали важные идеи относительно необходимости учета цивилизационной составляющей этих понятий, которая, наряду с социально-экономическими параметрами, имеет самое непосредственное значение для практического обеспечения интересов безопасности различных стран, в том числе и России.
В зарубежной литературе разным аспектам проблемы безопасности латиноамериканских государств посвящены многочисленные работы американских, европейских и латиноамериканских ученых. Отмечается нарастание интереса к этой теме со стороны специалистов Канады, Австралии, Южноафриканской Республики и Израиля.
На сегодняшний день можно констатировать острую борьбу мнений между различными школами западной политологии по проблеме выработки единого подхода к понятию «безопасность». Это серьезно затрудняет выбор практического курса Запада, прежде всего — США, в отношении как латиноамериканского региона в целом, так и его отдельных государств.
До недавнего времени, господство в западной политологии школы «политического реализма» предопределяло собой такую его трактовку, согласно которой объектом политики безопасности являлись лишь военные и военно-политические отношения, а ее субъектом могло быть только государство или группа государств (Арон Р., Киссинджер Г., Моргентау Г.,.
Уолтц К. и др.) 34]. При этом интересы безопасности личности, обществ, этносов считались производными от государственных интересов. Такая точка зрения, однако, постоянно размывалась требованиями радикального расширения проблематики безопасности и дополнения ее экономическими, экологическими и социальными компонентами, которые излагались в докладах Римского Клуба, «Комиссии Брунтланд», документах глобальных форумов по окружающей среде, социальному развитию, народонаселению и т. д. Она не поддерживалась большинством развивающихся, не в последнюю очередь — латиноамериканских государств, чьи представления о безопасности связывались, в первую очередь, с обеспечением всестороннего («интегрального», «устойчивого») развития.
Определение безопасности, данное ООН в конце 80-х гг. гласило, что она является «условием, при котором государство считает себя свободным от угрозы военного нападения, экономического и политического принуждения и имеет возможность беспрепятственно осуществлять цели национального развития и прогресса». Новым здесь стало не только уравнивание экономической угрозы с политической и военной, но и признание неделимости безопасности на государственную (национальную) и международную, которые провозглашались «все более зависимыми друг от друга» 35]. В отчете Генерального секретаря ООН Кофи Аннана за 1998 г. говорилось о необходимости выработки всемирной организацией нового, «всеобъемлющего» понятия о безопасности («holistic security»), которое включало бы в себя экономические, социальные и гуманитарные параметры 36].
Необходимость широкого подхода к парадигме безопасности все больше стала признаваться в трудах западных ученых (Бузан Б., Регги Дж., Кохен Р., Най Р., Хуру Ю. и др.) 37]. Известный политолог Б. Бузан вообще определил безопасность, как «относительное» понятие, поскольку «мы не можем воспринимать национальную безопасность государства без представления о той международной взаимозависимости, в которую она вкраплена» 38]. В то же время, на фоне отсутствия единства в походах, появились авторы, допускающие целесообразность временного сосуществования в мире двух парадигм безопасности: одной, традиционной, основывающейся на военно-политических критериях, для развитых, другой, максимально широкой, — для развивающихся и «переходных» государств (Уайтхед П., Петтифорд Л.) 39].
В американской историографии, традиционная борьба между консерваторами и либералами, в контексте этих новаций, вылилась в дискуссию по вопросу о пределах суверенитета латиноамериканских стран. Глобальные сдвиги 90-х гг. в целом укрепили позиции консерваторов, которые активно взяли на вооружение тему о «размывании» суверенитета и грядущем отмирании государств-наций, отстаиваемую в работах так называемой неомодернистской школы (Розенау Дж., Чемпель Э.-О., Вебер С., Омаэ К., Хоффман С.) 40].
На рубеже 90-х годов такие авторы, как Киссинджер Г., Фалькофф М., Виарда Г., Хейес М. 41], «охотно» признали, вслед за сделавшими это ранее либералами (Лоуэнталь А., Вейки В., Файнберг Р., Линовиц С., Тульчин Дж., и др), особое значение проблем демократии и соблюдения прав человека, а также всего комплекса экономических и социальных угроз, борьбы с наркотрафиком, терроризмом, преступностью и т. д. для интересов безопасности Западного полушария, руководствуясь, при этом, однако, глобальными интересами США.
Большинство исследователей, — отмечал американский ученый либерального направления Тульчин Дж., — стали считать в 1990 м году ООН «мировым полицейским», а Соединенные Штаты — ее основной ударной силой, по той простой причине, что США выиграли «холодную войну» 42]. Взгляды консерваторов — «неореалистов» отличались от взглядов либералов тем, что интересы безопасности латиноамериканских стран продолжали ими игнорироваться как и прежде, соответствуя высказанному ими ранее призыву к администрации «принимать во внимание интересы других наций, даже соседей и союзников, только в том случае, если они совпадают с американскими национальными интересами» 43]. Не слишком уповая на способность самих латиноамериканских стран добиться демократической стабильности и развития, Хейес М., например, прямо оговаривала для США «право» на интервенцию «на задворках» США — в странах Центральной Америки и Карибского бассейна 44].
В основе наметившегося в конце 90-х годов некоторого сближения взглядов консерваторов и либералов по вопросам политики безопасности в Западном полушарии, лежало, как представляется, единство конечной цели — так или иначе сохранить страны ЛА в качестве американской сферы влияния. При этом, если раньше ставка делалась на «общность интересов» в противодействии «коммунистической угрозе», то сегодня активно используется идеология «общих ценностей» — рынка, демократии, прав человека. Неизменным, однако, осталось то, что любое отклонение от специфического понимания этих ценностей, основанного на цивилизационной и исторической специфике США, и не свойственного региону, прошедшему совершенно иной путь цивилизационного и социально-экономического развития, вызывает у многих американских авторов ностальгию по санкциям, в том числе — и с применением военной силы.
Наиболее дальновидные представители либеральной школы не были склонны, однако, соглашаться с идеей «отмирания» суверенитета. В вышедшей в 1996 г. монографии «За пределами суверенитета. Коллективная защита демократии в Америках», под редакцией Фарера Т., ряд авторов высказали мысль о неодинаковости понятия «демократия» для Соединенных Штатов с одной стороны, и латиноамериканских стран — с другой. Они считали, что Вашингтон, руководствуясь своими долгосрочными национальными интересами, должен воздерживаться от акций, нарушающих суверенные права стран региона, в первую очередь — при проведении миротворческих операций. В книге содержался призыв к администрации США дать, наконец, латиноамериканским странам возможность «самим быть собственными гидами» в обеспечении ими своей внутренней и внешней безопасности 45].
В целом, следует констатировать, что в американской историографии множатся призывы к пересмотру традиционной политики США в деле обеспечения безопасности Западного полушария, поскольку, во-первых, «большинство правительств стран региона уже не разделяют принципиальные подходы США к ее основным приоритетам» (Коуп Дж.) 46], а во-вторых, потому что страны ЛА, «используя инструменты международного сотрудничества, все чаще стремятся выносить проблематику безопасности на глобальный уровень» (Тульчин Дж.) 47].
Особый интерес, по мнению диссертанта, представляют последние исследования некоторых западноевропейских, канадских и австралийских ученых. В значительной степени лишенные налета политической конъюнктуры, которой зачастую отличаются многие работы американских авторов, они более выпукло показывают ту грань, которая образовалась в подходах США и стран ЛА к проблемам безопасности в 90-е годы.
Более взвешенный подход был продемонстрирован ими, вопервых, в отношении понятия «безопасность личности», которое усилиями США превращается в главенствующее во всей пирамиде безопасности в Западном полушарии. Известный политолог Бузан Б. считая, наряду с большинством современных исследователей, что «индивидуальная безопасность стала важной составной частью общей парадигмы безопасности», подчеркивал, тем не менее, ее обусловленность более высокими «этажами» этой «пирамиды» — государственной (национальной) и международной, поскольку слабые государства («failed states»), неспособные эффективно осуществлять свой внутренний и внешний суверенитет, наихудшим образом могут гарантировать права индивидуумов 48]. Аналогичного мнения придерживался и Серенсен Г. (Дания), полагавший, что чисто — формальный, не наполненный конкретным содержанием «суверенитет» многих недавно освободившихся государств, не способен гарантировать их внутриполитическую стабильность и безопасность их соседей 49]. С эти мнением был согласен и Макинда С. (Австралия), отстаивавший тесную связь между понятием «безопасность» и «суверенитет», и считавший, что только одновременное обеспечение и «юридического» и «эмпирического» суверенитета способно гарантировать обеспечение всех уровней безопасности государства 50].
Вовторых, многие западноевропейские исследователи полагали, что для поддержания должного баланса между безопасностью личности и государства в странах, не достигших должного уровня демократической стабильности и экономического развития, необходимы, кроме «чисто» политических и экономических, и другие меры, усиливающие внутриполитическую безопасность государства на переходном этапе. Среди таковых упоминалась необходимость «самоидентификации государства как нации», т. е. политики, учитывающей цивилизационные и исторические особенности данного народа, а также необходимость проведения активной внешней политики, направленной на укрепление суверенитета государства в международных делах, достижение эффективной интеграции с соседями и обеспечение участия страны в решении глобальных проблем 51].
Вслед за западноевропейскими учеными, в пользу предоставления Латинской Америке «большего поля для маневра» в современном мире, начинают выступать и канадские. Эксперт по вопросам международной безопасности Канадского фонда Америк (ФОКАЛ) Клепак X., полагал, например, что политическое и экономическое значение латиноамериканских стран в мире начиная с 70-х годов возросло уже настолько, что активное сотрудничество с ними Канады могло бы смягчить «всеподавляющую мощь и значение США» в национальной и культурной жизни этой страны. Выделяя ряд возможных направлений сотрудничества в сфере безопасностисовершенствование системы континентальной безопасности, борьбу с наркотрафиком, терроризмом, преступностью и т. д., Клепак X. в качестве его самостоятельной основы выделил и цивилизационные параллели, в частности — языковую и религиозную близость франко-канадцев и латиноамериканцев. В этой связи он высказал надежду на то, что Латинская Америка и Канада смогут совместно противодействовать угрозе исчезновения своей национально — культурной самобытности под влиянием гомогенизированной масс-культуры современности 52].
Среди обширной латиноамериканской литературы, посвященной различным аспектам проблемы безопасности, можно выделить несколько направлений, каждое из которых имело преобладающее значение на различных этапах исторического развития стран ЛА в послевоенный период.
Первое их них, которое можно было бы определить как «радикально-антиимпериалистическое», господствовало в период 60х — начала 70-х годов в условиях, когда эйфория, связанная с победой кубинской революции, с одной стороны, и практически полное согласие правительств латиноамериканских стран с «идеалами панамериканизма» с другой, предопределили несколько романтизированные взгляды ряда представителей латиноамериканской интеллигенции на проблемы обеспечения безопасности своих стран. Данное направление включало в себя как авторовмарксистов (Куэнка Э., Рамирес Некочеа Э.) 53], считавших, что ее могут гарантировать только революционные перемены с последующим созданием единого военно-политического блока стран ЛА, так и радикальных националистов, полагавших, что это может быть достигнуто путем полного отказа от военного сотрудничества с США, с помощью развития военно-политических связей за пределами Западного полушария (Венерони О., ДиасКальехас А., Саксе-Фернандес Дж., Сересоле Н.) 54]. Крайняя утопичность этих взглядов проявилась уже к середине 80-х гг. Их логическое развитие в трудах аргентинского автора Сересоле Н. свелось к утверждению неизбежности силового противостояния Аргентины с США, Великобританией и их «союзниками» из числа латиноамериканских стран (Чили, Бразилия), пропаганде милитаризма и всемерного наращивания военно-промышленного потенциала страны.
Серия военных переворотов, прокатившаяся по странам региона начиная с середины 60-х гг., обусловила появление и развитие геополитического направления, связанного, в первую очередь, с интеллектуальной деятельностью профессиональных военных. Среди геополитиков, воззрения которых получили особую популярность, можно было выделить как проимпериалисгическое (Голбериде-Коуто-э-Силва, Мейра Маттос А., Пиночет А.), так и патриотическое (Гульяльмели X., Меркадо Харрин Э.) течения, общей чертой которых являлся национализм 55]. При этом «патриоты» — геополитики, также как и их коллеги из проимпериалисгического течения, почти одинаково стремились к созданию «сильного» государства, настаивали на государственном вмешательстве в экономику, планировании и импортозамещающей индустриализации. Они с одинаковым недоверием относились к соседям по региону, предпочитая сотрудничеству в сфере безопасности односторонние действия по ее укреплению.
Уход от власти военных правительств и дискредитация выдвинутых ими доктрин по-новому поставили вопрос об обеспечении безопасности в странах ЛА. Начиная с середины 80-х годов в регионе наблюдался «бум» политологического анализа, связанного с этой проблематикой. Новые разработки, однако, в подавляющем большинстве, не представляли из себя радикального разрыва со старыми, связанными, так или иначе, с различными вариантами геополитических школ. Они, скорее, являлись продуктом творческого переосмысления последних и их сплава с либеральными концепциями в области безопасности, которые развивались в странах, сохранявших в 70-е годы демократическую форму правления — Мексике, Колумбии и Венесуэле. Для авторов, придерживавшихся либеральных взглядов (Бермудес Д., Охеда М., Матос Очоа С., Шапошник Э.) 56], было характерным стремление отстаивать идею автономности решений стран ЛА по широкому комплексу проблем национальной и региональной безопасности, в том числе — и безопасности экономической, подчеркивая при этом важность укрепления внутриполитической безопасности, способной создать реальные гарантии для демократического развития и профессионализации армий.
Конец 80-х гг. был отмечен резким падением былой популярности крайних направлений — радикально-антиимпериалистического и геополитического, и становлением так называемого интеграционистского подхода, предполагающего объединение усилий стран региона в деле совместного обеспечения им своей интегративной безопасности. Одним из основоположников этого подхода являлся перуанец Меркадо Харрин Э., который в своей работе «Система безопасности и обороны Южной Америки» проводил мысль о том, что безопасность — «это интегральная концепция, пронизывающая различные сферы деятельности — политику, экономику, экологию, культуру и военное дело», а демократический строй — «основа стабильности, без которой невозможна безопасность» 57]. Другим автором, внесшим немалый вклад в развитие интеграционистского направления, стал чилийский ученый Варас А., детально разработавший понятие «демократическая безопасность», как многоуровневое и интегративное в своей основе. Он считал несовместимыми интересы безопасности США в Западном полушарии и интересы латиноамериканских стран, и выступал за создание самостоятельной, независимой от Вашингтона системы безопасности государств региона 58].
Радикальные перемены в мире 90-х годов выдвинули на передний план угрозу маригинализации латиноамериканских стран в мировой политике и мирохозяйственных связях XXI века. В этот период наблюдается значительное сближение позиций многих авторов, как военных, которые, по прежнему, занимают важные позиции в разработке теорий безопасности, так и представителей академического мира, в рамках общего интегра-ционистского направления. В работах адм. Видигала А. и Гедеса да Коста Т. (Бразилия), ген. Бальса М. и Карасалеса X. (Аргентина), Муньоса Э. и Рохаса Аравена Ф. (Чили), Пардо Леаля Ф. (Колумбия) и Сагасти Ф. (Перу), Саласара Паредееа Ф. (Боливия) и др. отстаивалась идея собственной ответственности стран Латинской Америки за состояние своей безопасности. При этом никто из них не оспаривал необходимости сотрудничества с США в этом направлении.
Чилийский ученый и дипломат Муньос Э., в своей книге «Международная политика нового времени» поддержал идею созданию новой системы региональной безопасности, поскольку старая (ОАГ) «предоставляла гарантии лишь США, а не Латинской Америке». По его мнению, такая система должна будет учитывать все новые направления парадигмы безопасности, появившиеся в последние годы — экономическое, экологическое и т. д., а также весь комплекс вопросов, относящихся к поддержанию демократической стабильности. Само понятие демократии представлялось уже не как модель, навязывавшаяся долгое время Соединенными Штатами, а как условие обеспечения многоуровневой и интегра-тивной безопасности, автохтонное латиноамериканской политической реальности и возникшее в ходе самостоятельной исторической эволюции последней. Идея «нового американизма», предложенная Муньосом, была рассчитана не столько на «понимание» Соединенными Штатами новой парадигмы безопасности, вызревающей в условиях ЛА, сколько на общие усилия стран региона в рамках развивающихся интеграционных процессов, способные нейтрализовать эгоизм США и сделать так, чтобы «его голос на международной арене был бы, наконец, услышан» 59].
Основой новой системы безопасности в Западном полушарии латиноамериканским авторам видятся субрегиональные интеграционные блоки, некоторые из которых (Меркосур), начинают ими восприниматься уже не просто как экономические объединения, но как «стратегические альянсы», направленные на укрепление демократической стабильности, экономической безопасности и усиление международной проекции латиноамериканских государств 60]. Все чаще в их работах стала проводиться мысль о том, что «идея национальной обороны выходит за рамки обеспечения интересов безопасности отдельного государства» и концентрируется вокруг «координации действий в защиту процессов региональной интеграции и чувства общей безопасности» (Гедес да Коста Т.) 61].
Большинство из перечисленных выше авторов признавали наилучшим для латиноамериканских интеграционных схем режим безопасности сотрудничества, как наименее институциолизированный и, тем самым, менее затрагивающий суверенитет государств-участников и способствующий их межгосударственному сотрудничеству в осуществлении общей стратегии безопасности. В конце 90-х годов важнейшими направлениями такого сотрудничества, направленного против угрозы маргинализации, были признаны борьба с бедностью и повышение образовательного уровня населения 62].
При общей близости взглядов сторонников интегралистского направления, между ними существовали и различия, связанные с нюансами политики тех или иных государств региона. Эти различия затрагивали, прежде всего, проблему суверенитета, значительно осложнившуюся в условиях растущей глобализации. Так, например, аргентинская исследовательница Диаминт Р. допускала определенную «меру» гегемонии США в будущих межамериканских отношениях безопасности, а также о возможность ограничения принципа невмешательства, отражая, тем самым, взгляды сторонников политики «периферийного реализма», проводимой президентом Аргентины Менемом К. 63]. Большинство же бразильских ученых отвергало любую перспективу сохранения гегемонии Соединенных Штатов. Они настаивали на таких отношениях с Вашингтоном, которые не ущемляли бы суверенитет их страны. Подчеркивая важность сохранения и в современных условиях таких традиционных принципов суверенитета, как территориальная целостность государства и невмешательство в его внутренние дела, Гедес да Коста Т., Сарденберг Р., Каннабрава И. 64] и др. считали, что сегодня на передний план выходят такие его составляющие, как право государства заключать, без постороннего вмешательства, международные соглашения и вступать в союзы с другими странами. В то же время, Фелисио Ж.-Э. полагал, что «мифическая» концепция эксклюзивного суверенитета «серьезно дискредитирована современной реальностью и не может являться основой для построения миропорядка, адекватного нуждам и чаяниям людей XXI века» 65]. Впрочем и он выступал за координацию политик латиноамериканских стран в деле отстаивания ими своих интересов безопасности, в том числе — и в рамках инициатив, выдвигаемых США (НАФТА, Американская зона свободной торговли). В целом же, большинство латиноамериканских ученых считали необходимой выработку более точного представления о суверенных правах государств во взаимозависимом мире, поскольку отсутствие таковой создает ситуацию, когда «одни государства расширяют сферу влияния своих интересов безопасности, а другие становятся с каждым разом все более зависимыми.» (Саласар Паредес, Ф.) 66].
Существуют различные точки зрения относительно роли ОАГ в будущих отношениях безопасности. Так, Патиньо Э. (Аргентина), Перикас Б. (Бразилия) и некоторые другие авторы полагали, что несмотря на переживаемый этой организацией «кризис идентичности», происходящий из-за различия интересов США и Латинской Америки, она все же может, после проведения радикальных реформ, стать эффективным инструментом политики безопасности государств региона 67]. В то же время, большинство интеграционистов были склонны разделять мнение исследователей Латиноамериканского Факультета социальных наук (ФЛАКСО) в Сантьяго (Чили), которые считали, что главная роль в обеспечении «новой, устойчивой позиции латиноамериканских стран в постконфронтационном мире» должна перейти от межамериканской системы и ОАГ к самостоятельным структурам межлатиноамериканского сотрудничества 68].
В конце 90-х годов в латиноамериканской историографии заметно усилилось направление, связанное с критикой неолиберальных идей, содержавшееся в работах Cea Л., Мельгар Бао Р. (Мексика), Каплана М.
Аргентина) и других. Большинство представителей этого направления разделяли взгляды интеграционистов на необходимость коллективных усилий латиноамериканцев в деле обеспечения МИБ, специально акцентируя наличие у них особой региональной культурно — исторической общности. При этом, однако, они гораздо меньше были склонны доверять правительствам и государственным структурам своих стран, особенно — военным. Считая, что неолиберальная модель, принятая в большинстве стран региона, ущемляет суверенитет и достоинство латиноамериканских наций, поляризует их общества, вредит национальной культуре, эти авторы опасались возврата к власти военно-диктаторских режимов на волне радикального национализма, которая может быть спровоцирована в случае продолжения неолиберальных реформ 69]. Для борьбы с угрозой маргинализации ими была предложена такая степень региональной интеграции, которая окончательно преодолела бы интересы отдельных стран, «поощрявшиеся колониализмом ради обеспечения собственной безопасности» 70]. Так, Айербе Л. (Бразилия) в качестве сверхзадачи интеграции видел «укрепление национально-культурного пространства Латинской Америки» и становление ее как самостоятельной «цивилизации», одного из центров будущего многополярного мира. Бразильский исследователь полагал при этом, что «политические формы» и способы «культурного самовыражения» различных латиноамериканских стран внутри «общего пространства» могут быть различны 71].
Картина основных направлений политической мысли в странах Латинской Америки была бы неполной без упоминания автономистского направления, которое делало акцент на понятии этнической безопасности и выступало за самоопределение с предоставлением максимальной автономии, «вплоть до определения собственного политического режима и социально-экономической системы», индейским общинам в различных странах Латинской Америки. Сторонники этого направления — Диас-Поланко Э. и Де ла Пенья К. и (Мексика) 72], считали, что такое общее понятие, как «нация», распространяемое на этнические меньшинства, способствовало утверждению в странах ЛА «идеологии национальной безопасности» и культа милитаризма, провоцируя территориальные и другие конфликты. Однако, отвергая неолиберальную модель развития, Де ла Пенья К., фактически продемонстрировала солидарность с одним из ее основных постулатовоб «отмирании» в регионе понятия «нация» и «государственный суверенитет», считая, что только политика самой широкой автономизации способна стать реальной альтернативой процессам глобализации 73].
Такова, в общих чертах, источниковедческая и историографическая база работы, позволившая осуществить исследование избранной темы.
1. Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения в трех томах. М., 1970.
2. Тойнби А. Дж. Постижение Истории. М., 1991; Вебер М. Избранные произведения. М., 1990; Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993; Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
3. Bolivar S. Obras completas. Antologia de escritos politicos. San Jose, 1976.
4. Bello A. Obras completas. Vol. 1−20. Caracas, 1951;62.
5. Bustamante-y-Sirven A. La Segunda Conferencia de la Paz. Tomo 1,2. Madrid, 1908; Puig J.C. Doctrinas internacionales y autonomia latinoamericana. Caracas, 1980; Yepes M.J. Un protocolo viciado de nulidad. Quito, 1960; Хименес де Аречага Э. Современное международное право. М., 1983.
6. Бердяев H.A. Смысл Истории. М., 1990; Его же: Самопознание. Лениз-дат, 1991; Гинс Г. Л. Новые идеи в праве и основные проблемы современности. Харбин, 1931; Кистяковский Г. А. В защиту права. — Вехи. Из глубины. М., 1991; Котляревский С. А. Правовое государство и внешняя политика. М., 1909; Покровский И. А. Перуново заклятье. — Вехи. Из глубины. М., 1991; Соловьев Вл.С. Оправдание добра. — Сочинения, т. 1, М., 1988; Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. БуэносАйрес, 1968; Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма. М., 1991.
7. Арцыбасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989; Жидков O.A. Государственно-правовые проблемы стран Латинской Америки. М., 1988; Лазарев М. И. Военные базы США в Латинской Америкемеждународный деликт. М, 1970; Его же: Как урегулировать спор об островах. М., 1992; Международное право в современном мире. М., 1991; Проблемы Латинской Америки и международное право. М., тт. 1−2, 1995; Международное право и международная безопасность. М., 1991; Клименко Б. М. Мирное решение территориальных споров. М., 1982; Орлов А. Г. Политические системы стран Латинской америки. М., 1982; Пушмин Э. А. Мирное разрешение международных споров. М., 1974; Скакунов Э. А. Самооборона в международном праве. М., 1973; Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. М., 1971.
8. Aron R. Paz е guerra entre as nacoes. Brasilia, 1989; Его же: Демократия и тоталитаризм. М., 1993; Buzan В. People, States and Fear. London, 1991; Dahrendorf R. A Lei e a Ordern. Sao Paolo, 1993. Его же: Urna grande visao universal. Sao Paolo, 1993; Keohane R. After Hegemony. Princeton, 1984; Kennan J.F.O Declinio da ordern Europeia de Bismarck. Brasilia., 1985; Kennedy Р. A Ascencao е queda das grandes potencias. Rio de Janeiro, 1992. Ero же: Preparando para o seculo XXI. Rio de Janeiro, 1993; Kissinger H. Politica exterior americana. Barcelona., 1971. Ero же: A America Latina e a Nova Ordem Internacional — Os novos blocos economocos: desafios e oportunidades. Rio de Janeiro, 1993. Ero же: Diplomacy. New York., 1994; Mor-genthau H. Politics Among Nations. New York., 1978; Rosenau J. Turbulence in World Politics. Princeton., 1993; Fucuyama F. O fim da Historia e o Ultimo Homem. Rio de Janeiro., 1992; Huntington S. Political Order in Changing Society. New Heaven, 1968. Ero же: «Грядущее столкновение цивилизаций ?», «Если не цивилизации, то что?» — «США: экономика, политика, идеология» М., 1994, №№ 3,6.
9. Гонионский С. А. Латинская Америка и США. 1939;1959. Очерки истории дипломатических отношений. М., 1960.
10. Гвоздарев Б. И. Организация Американских государств. М., 1960; Его же: Эволюция и кризис межамериканской системы. М., 1966.
11. Тарасов К. С. США и Латинская Америка. М., 1972.
12. Селиванов В. Н. Экспансия США в Латинской Америке. М., 1975.
13. Вишня Г. Ф. США — Латинская Америка: внешнеполитические отношения в современных условиях. 1968;1976. М., 1978.
14. Проблемы идеологии и национальной культуры Латинской Америки. М., 1967; Межгосударственные отношения в Латинской Америке. М., 1977; Господствующие классы Латинской Америки. М., 1978; Внешнеполитические доктрины и концепции стран Латинской Америки. М., 1980; Перу: социально-экономическое и политическое развитие (1968;1980). М., 1982; Мексика: тенденции экономического и социально-политического развития. М., 1983; Колумбия: тенденции экономического и социально-политического развития. М., 1986;Социальные сдвиги в Латинской Америке. М., 1986; Латинская Америка 80-х годов. М., 1988; Международные отношения в Центральной Америке и Карибском бассейне в 80-х годах. М., 1988; Латинская Америка. Новые реалии 90-х годов. М., 1992; Бразилия: тенденции экономического и социально-политического развития. М&bdquo- 1993.
15.Антонов Ю. А. Бразилия: армия и политика. М., 1973; Мирский Г. А. Третий мир. Общество, власть, армия. М., 1976; Шульговский А. Ф. Армия и политика в Латинской Америке. М., 1979.
16.Латинская Америка в международных отношениях. XX век. Отв. ред. АН. Глинкин АН., тт. 1,2. М., 1988.
17. Антясов М. В. Панамериканизм: идеология и политика. М., 1981.
18. Капустян Е. Г. Эволюция и противоречия межамериканской системы во второй половине 70-х — середине 80-х годов. Дисс. канд. ист. наук. М., 1987; Glinkin A. Inter-American Relations: From Bolivar to the Present. Moscow, 1990; Sudarev V. Rusia en la CEI y la experiencia del Sistema Interamericano. Moscow, 1996.
19.Латинская Америка: гонка вооружений и проблемы безопасности. М., 1990.
20.ВПК стран Латинской Америки: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1994.
21.Центральноамериканский конфликт: от противоборства к урегулированию. М., 1992; Чумакова М. Л. Политические процессы в Центральной Америке (70−90 гг.). Дисс. доктора политических наук. М., 1996.
22. Петровский В. Ф. Разоружение: концепции, проблемы, механизмы. М., 1982; Мартынов Б. Ф., В. П. Сударев В.П. Территориальные споры в Латинской Америке.-Латинская Америка. 1982, №№ 8,9- Яковлев П. П., Жирнов О. А., Горохов В. В. Латинская Америка: проблемы вооружения и разоружения. М., 1983; Мальвины: колониальная война XX века. М., 1984; Гневушев Н А. Гонка вооружения и проблемы развития освободившихся стран. М., 1985; Тузмухамедов Б. Р. Зоны мира. М., 1986; Давыдов В. Ф. Безъядерные зоны и международная безопасность. М., 1988; Бабуркин С. А. Армия и политика в Андских странах (Венесуэла, Колумбия, Эквадор). Ярославль, 1990; Кононученко С. Б. Модернизация вооруженных сил Латинской Америки и перспективы сотрудничества с Россией. — Латинская Америка, 1995, № 4- Майданш К. Л. Демократия и авторитаризм. — Латинская Америка, 1989, № 5, с. 59−70- Матлина А. А. Латинская Америка в меняющемся мире. М., 1992; Латинская Америка: экономика и экология природопользования. Отв. ред. Тарасов К. С. М., 1993; Слинько А. А. Терроризм и кризис политической системы — Латинская Америка, 1994, № 5 с. 44−47, — Международный наркобизнес и Россия. Материалы дискуссии. — Латинская Америка, 1996, № 4 с. 49−65- М. С. Степанов. Коррупция — болезнь века. — Латинская Америка, 1996, № 10, с. 82−86- Лунин В. Н. Концепция устойчивого развития: латиноамериканский ракурс. — Латинская Америка, 1996, № 7−8 с. 125−133;
23. Дипломатический вестник, М.- «Congressional Record». Wash.- «The Department of State Bulletin». Wash- «Vital Speeches of the Day» .Wash.- U.S. Relations with Latin America. Hearing before the Subcommitte on Western Hemisphere Affeirs of The Commettee on Foreign Affairs. House of Representatives, 94th Congress, Wash., 1975; U.S. Policy on Latin America. Hearings. 99th Congress, Wash., 1985; «Cuadernos de Relaciones internacionales». Mexico- «O Diario Oficial». BrasiliaАрхив Внешней политики России. Фонд Канцелярия, 1906, д. 118- 1910, д. 107- 1912, д. 97.
24.The Americas in the Changing World. N.Y., 1975; Los Estados Unidos у America Latina: Proximos pasos. Un segundo informe de la Comision sobre relaciones entre los Estados Unidos y America Latina. Wash., 1976; A New Inter-American Policy for the Eighties. Wash., 1980; Report of the National Bipartisan Commission on Central America. Wash., 1985.
25-Док. UN. A/40/553. United Nations. N.Y., 1986; Boutros Ghali B. An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping. Report of the Secretary General. UN Doc. N 47/277 (S/24 111), 17 june, 1992; Annan K. Partnership for Global Community. Annual Report on the Work of the Organization 1998. United Nations. N.Y., 1998; OEA. Informe Anual del Secretario General 1994;1995. Secretaria General. Wash., 1995; OEA. The OAS and the EvoFution of the Inter-American System. OEA General Secretariat. Wash., 1988;The Organization of American States after the Second Summit of the Americas. OEA., Wash., 1998; IX Reunion de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Rio. Declaracion de Quito, 5 de setiembre de 1995. -Politica Internacional. Lima, 1995, N41, pp. 143−149- Cumbre Iberoamericana de Bariloche, octubre de 1995 — Politica Internacional. Lima, 1995, N 42, pp.133−161- Declaracion de Vina del Mar. VI Cumbre Interamericana de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno. Santiago y Vina del Mar, Republica de Chile, 11 de noviembre de 1996, — Panorama Centroamericano. Reporte Politico, Guatemala, 1996, N 121, pp.1−14-ll Dialogo Union Europea — Grupo de Rio sobre temas de seguridad. Documento de base. IRELA, Madrid, noviembre de 1996. Respeto a Soberania e igualdad juridica de Estados. Declaracion de Asuncion. — «El Nacional», Mexico, 24. 08. 1997; El Acuerdo de cooperacion Union europea — Mercosur. — Relaciones Internacionales y Desarrollo. La Paz, 1998, N 4.
26. United Nations. National Security Concepts of States: Argentina. UNIDIR. N.Y., 1992; United Nations. Managing Arms in Peace Processes: Aspects of Psychological Operations and Intelligence. UNIDIR. N.Y., 1996; Aportes a un nuevo concepto de seguridad hemisferica — seguridad cooperativa. Documento preparado por el Presidente de la Comision Especial sobre Seguridad Hemisferica de la OEA en mayo de 1993. — Seguridad Estrategica Regional. SER en 2000. Buenos Aires, 1993, N 4.
27. Chile y Brasil. Desafios de la Cuenca del Pacifico. Estudio estrategico de America Latina 1994;95. FLACSO, Santiago de Chile, 1995; ChileMercosur: Una Alianza estrategica. FLACSO, Santiago de Chile, 1997; Temas de politica externa brasileira I, II, vol. 1,2. Fundacao Alexandre de Gusmao. IPRI, Brasilia, Sao Paolo, 1989, 1994; Seminario Argentina — OTAN. Perspectivas sobre la seguridad global. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Buenos Aires, 1993; Nuevas Amenazas a la Seguridad. Centro de Estudios Socioeconomicos y Politicos para America Latina (CESPAL), Buenos Aires, 1995; Foro America Latina — Europa para un desarrollo social sostenible en el siglo XXI. Resumen preliminar. Punta del Este, nov. 1997.
28.A Escola Superior da Guerra. Manual Basico NN 1,2,3, Rio de Janeiro 197 476- CAEM: Planteamientos Doctrinarios y Metodologicos de la Defensa Nacional. Lima, 1985; Medidas de confianza mutua en la region. Reflexiones de la Armada Argentina presentados en los Estados Unidos en mayo de 1995. -SER en 2000. Buenos Aires, 1995, N 8- Geopolitica e intereses nacionalesRevista de la Escuela de defensa nacional. Buenos Aires, 1995, N 44- Ejercito de Nicaragua. Estado Mayor General. Manual., Managua, 1996; Documento sobre politica de Defesa Nacional.- Parcerias Estrategicas, Brasilia, 1996, N2- O Brasil e o mundo no seculo XXI, — Politica Externa, Sao Paolo, 1996;97, N 3- La Politica exterior chilena y su relacion con seguridad y defensa del pais. — Politica y Estrategia, Santiago de Chile, 1997, N 72- O Brasil e a Cupufa das Americas. — Politica Externa, 1998, N 2- Urna politica de Defesa Sustentavel para o Brasil. — Parcerias Estrategicas, 1998, N 5.
29. Вопросы философииКентаврЛатинская АмерикаМеждународная жизньМировая экономика и международные отношенияПолисСоциальнополитический журналСША: экономика, политика, идеологияAmericasComercio ExteriorCuadernos PoliticosCurrent PolicyCurrent HistoryForeign AffairsForo InternacionalForeign PolicyHispanic American Historical ReviewIntrrnational OrganizationInternational Strategic StudiesJournal of Strategic StudiesJournal of Conflict ResolutionThe Journal of PoliticsLatin American Regional ReportsLe Monde DiplomatiqueNueva SociedadOrbisPanorama CentroamericanoPolitica InternazionaleSecurity DialogueThird World QuarterlyWorld Politics;
30.World Armaments and Disarmament. London. S1PRI Yearbook, Stockholm, 1980;1997; Analisis de los gastos en defensa globales segun cifras publicadas por el Banco Mundial. Anexo documental. — SER en 2000. Buenos Aires, 1993, N 4, pp.96−104- CEPAL. Indicadores economicos. Santiago de Chile,.
1997; CEPAL. Anuario estadistico de America Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 1997.
31. Национализм в Латинской Америке: политические и идеологические течения. Отв. ред. Шульговский А. Ф., М., 1976.
32. Семенов С. И. Куда идет Южная Америка: тенденции и перспективы. -Рабочий класс и современный мир., 1986, № 2, с. 49−60- Шемякин Я. Г. Проблема смены парадигм в отечественных гуманитарных науках. — Латинская Америка, 1994, № 7, с. 6−12- Гончарова Т. В., Стеценко А. К., Шемякин Я. Г. Универсальные ценности и цивилизационная специфика Латинской Америки., кн. 1,2., М., 1995. Цивилизационные исследования. Отв. Ред. Б. И. Коваль. М., 1996; Коваль Б. И., Семенов С. И. Цивилизационная идентификация России и ибероамериканские параллели. Аналитические тетради ИЛА РАН, М., 1998, № 4.
33. Алексеева Т. Г. Дилеммы безопасности: американский вариант. — Полис, 1993, № 6, с. 16−27- Богатуров А. Д. Плюралистическая однополяр-ность и интересы России, — Свободная мысль., 1996, № 2, с.26−29, его же: Современные теории стабильности и международные отношения России в Восточной Азии в 1970;90-е гг. М., 1996; Гаджиев К. С. О природе конфликтов и войн в современном мире. — Вопросы Философии, 1997, № 6, с. 3−24, его же: Геополитика: история и современное содержание дисциплины. — Полис. 1996, № 2, с. 169−183, его же: Геополитика, М., 1997; Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1995; Капустин Б. Г. «Национальный интерес» как консервативная утопия, — Свободная мысль. 1996., № 3, с. 13−29- Международные отношения: социологические подходы (Отв. ред. Цыганков П.А.) М., 1998; Международное право в современном мире. Отв. ред. Колосов Ю. М., М., 1991; Косолапов H.A. Конфликты постсоветского пространства.- Мировая экономика и международные отношения. 1995. №№ 10,11,12., 1996. № 2- Красин Ю. А. Национальные интересы: миф или реальность? — Свободная мысль., 1996. № 3, с. 3−12- Петровский В. Е. Азиатскотихоокеанские режимы безопасности после «холодной войны». М., 1998; Пархалина Т. Г. Геополитические прогнозы и Россия. — Россия в новом геополитическом пространстве. Проблемно-теоретический сборник ИНИОН РАН. 1996, № 1, с. 7−28., М., 1996; Пирумов В. С. Некоторые аспекты методологии исследования проблем национальной безопасности России в современных условиях. -Геополитика и безопасность. М., 1993, т.1,с. 7−16- Прохоренко И. Л. Национальный интерес во внешней политике государства. На примере Испании. М., 1995; Рогов С. М. Новая военная доктрина России. — США: экономика, политика, идеология, 1994, №№ 4,5, с. 3−10, 3−11- Рубанов В. А. Безопасность и будущее России.- Свободная мысль., 1995, № 10, с. З-11- Садовничий В. А. Образование и наука как фактор национальной безопасности — Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. 1996, № 1, с. 3−10- Скакунов Э. И. Методологические проблемы исследования политической стабильности. — Международные исследования. М, 1992 (6), с. 5−24- Сорокин К. Э. Государственные интересы как обобщение национальных. — Полис, 1995, № 1, с. 92−96.
34. Aron R. Paz е guerra entre as nacoes. Brasilia, 1989; Его же: Демократия и тоталитаризм. М., 1993; Kissinger H. Politica exterior americana. Barcelona., 1971. Его же: A America Latina e a Nova Ordern Internacional — Os novos blocos economocos: desafios e oportunidades. Rio de Janeiro, 1993.
Его же: Diplomacy. New York., 1994; Morgenthau H. Politics Among Nations. New York., 1978; Waltz K. Theory of International Politics. Reading, MA: AddisonWesley Publ. Co, 1979.
35. Док. UN. A/40/553. United Nations. N.Y., 1986.
36. Annan K. Partnership for Global Community. Annual Report on the Work of the Organization 1998. United Nations. N.Y., 1998, p. 10.
37. Buzan В. A Framework for regional security analysis. In: South Asian Insecurity and the Great Powers. London, 1986; People, states and Fear — An Agenda for Security Studies in the Post — Cold War Era. London, 1991; Keo-hane R., Nye J. Power and Interdependence. In: World Politics in Transition. Glenview, 1989; Ruggie J. Multilateralism: the anathomy of an institution. -International Organization. Boston, 1992, N 3, p. 561−598- Хуру Ю. Безопасность как широкая, многоаспектная концепция для объединяющейся Европы. — Безопасность, сокращение вооружений и разоружение. Актуальные проблемы Европы. Проблемно-теоретический сборник ИНИОН РАН., М&bdquo- 1998, № 2, с. 22−45.
38. Buzan В. A Framework for regional security analysis.p. 4−5.
39. Whitehead L. Sovereignty, Democracy and Socialism: Reflections on the Grenada Experience. San Jerman, 1986; Pettiford L. Changing Conceptions of Security in the Third World. — Third World Quarterly, London, 1996, N2, p. 289−306.
40. Rosenau J. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton, 1990; Rosenau J., Czempiel E.-O. Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge, 1992; Ohmae K. The Rise of the Region State. — Foreign Affairs. N.Y., 1993, vol. 72, N2, p. 7887- Hoffman S. The Politics and Ethics of Military Intervention. — Survival, 1995;96, N 4, p. 29−51- Weber C. Simulating Sovereignty: Intervention, the state and symbolic exchange. Cambridge, 1995.
41. Falkoff M. Desafios a la seguridad del hemisferio: Una vision norteamericana — En: El fin del fantasma: las relaciones interamericanas despues de la Guerra fria. Santiago de Chile, 1992, p. 25−38- Wiarda H. US Strategic Policy in Latin America in the PosCold War Era. In: Evolving US Strategy for Latin America and the Caribbean. Washington, 1992, p. 24−29- Hayes M. Vision de los Estados Unidos. — Seguridad Estrategica Regional (SER en 2000). Buenos Aires, 1995, N 7, p. 26−28.
42.Tulchin J. Redefining National Security in the Western Hemisphere: The Role of Multilateralism. Peace and Security in the Americas, September 1994, p.1.
43. Stuart J. Tigner J. Latin America and the United States. N.Y., 1975, p.44.
44. Hayes M. Una vision de los Estados Unidos. En: Actualizacon de las propuestas sobre seguridad hemisferica.- Seguridad Estrategica Regional. Buenos Aires, 1995, N7, p. 27.
45. Beyond Sovereignty. Collectively Defending Democracy in the Americas. Ed. by Farer T. The Jonh Hopkins Univ. Press, 1996, p. 285.
46. Cope J. Hemispheric Security Relations. Remodelling the US Framework for the Americas. Strategic Forum, 1998, N 147, p.2.
47. Tulchin J. Op. Cit, p. 3.
48. Buzan В. People, States and Fear., p. 100−101.
49. Sorensen G. Individual Secutity and National Security. The State Remains the Principal Problem. — Security Dialogue. Oslo, 1996, N4, p. 377−385.
50. Makirida S. Sovereignty and Global Security. — Security Dialogue, 1998, N3, p. 284−290.
51. Karlsson W., Malakhi A. (Ed). Growth, Trade and Integration in Latin America. 48th International Congress of Americanists (ICA). Stockholm, july 4−9,.
1994. Proceedings of the Symposium. Stockholm, 1996, p. 1−30, 35−59, 149 181- II Congreso Europeo de Latinoamericanistas. Halle 4−8 de septiembre de 1998. CEISAL Impressum. Halle, 1998, 201p.
52. Klepak H. Whaf s in it for us? Canada’s Relationship with Latin America. Ottawa, 1994, p. 26−28.
53. Рамирес Некочеа Э. США и Латинская Америка. 1930; 1965. М., 1967; Куэнка Э. Военные в Аргентине. М., 1973.
54. Veneroni Н. Fuerza militar interamericana. Buenos Aires, 1966, Estados Unidos y las fuerzas armadas de America Latina. La dependencia militar. Buenos Aires, 1973; SaxeFernandez J. De la seguridad nacional. Mexico, 1977; Diaz-Callejas A. Contadora: Desafio al Imperio. Bogota, 1985; Ceresole N. Peru o el nacimiento del Sistema latinoamericano. Buenos Aires, 1971, Geopolitica del control espacial. Buenos Aires, 1986.
55. Golbery do Couto e Silva. Geopolitica do Brasil. Rio de Janeiro, 1967; Meira Mattos C. Brasil: geopolitica e destino. Rio de Janeiro, 1975; Pinochet A. Geopolitica. Santiago, 1980; Mercado Jarrin E. Un sistema de seguridad y defensa suramericano. Lima, 1989, La geopolitica en el tercer milenio. Lima,.
1995.
56. Ojeda M. Mexico y America Latina: La Nueva politica exterior. Mexico, 1974; Matos Ochoa S. El Panamericanismo a la luz del derecho internacional. Caracas, 1980; Shaposhnik E. Democratizacion de las Fuerzas Armadas venezolanas. Caracas, 1985; Bermudez D. La relacion MexicoEstados Unidos y la seguridad nacional en 1986., en: Los nuevos mecanismos de la politica exterior. Mexico, 1986, p. 10−17.
57. Mercado Jarrin E. Un sistema de seguridad y defensa sudamericano., p. 204, 206.
58. Varas A. La politica de las armas en America Latina. Santiago, 1988.
59. Munos H. Politica internacional de los nuevos tiempos. Santiago, 1996, p. 33.
60. ChileMercosur: Una alianza estrategica. Paz Milet A., Rojas Aravena F. (Ed). FLACSO, Santiago, 1997.
61.Guedes da Costa T. Avaliacao estrategica da seguranca internacional no Atlantico Sul: passado e perspetivas futuras. Em: Pinheiro Guimaraes S. (Org.). Brasil e Africa do Sul. Riscos e oportunidades no tumulto do globali-zacao. Sao Paolo, 1998, p. 225−248.
62. Ottone E. Overcoming Poverty and Exclusion as Causes of Insecurity in Latin America. — Security Dialogue, Oslo, 1997, N1, p. 7−16.
63. Diamint R. Cooperation for Peace policies: The Case of Argentina. In: Psalia P. Redefining National Security in Latin America. The Woodraw Wilson Working Papers N 204, Washington, 1993, p. 11−13.
64. Guedes da Costa T. Mercosur, seguridad regional y defensa nacional en Brasil. — Seguridad Estrategica Regional. SER en 2000, Buenos Aires, 1993, N 4, p. 10- Cannabrava I. O Brasil e as operacoes de manutensao da paz. -Politica Externa. Sao Paolo, 1996;97, N 3, p. 100- Sardenberg R. Panorama estrategico brasileiro. — Parcerias estrategicas. Brasilia, 1998, p. 220.
65. Feiicio J. Os regimes de controle das tecnologias avancadas e a insercao do Brasil na nova equacao do poder internacional. Em: Fonseca J., Nabuco de Castro S. Temas da politica externa Brasileira II, vol. 2, Sao Paolo, 1993, p. 11 -13.
66. Salazar Paredes F. Seguridad nacional y fronteriza — Relaciones Internacionales y Desarrollo. Revista Boliviana. La Paz, 1998, p. 132−145.
67. Patino H. Seguridad Hemisferica. — Revista de la Escuela de Defensa Nacional. Buenos Aires, 1995, N 4, p. 95−101- Pericas B. Perspetivas do Sistema Interamericano. — Temas da politica externa Brasileira II, vol. 2, p. 123- 134.
68. ChileMercosur: Una alianza estrategica, p. 24.
69. Bao M. La militarizacion interamericana de democracias.- Memoria, Mexico, 1997, N 101, p. 19−31.
70. Zea L. Integracion, el gran desafio para Latinoamerica. — Cuadernos Americanos, Mexico, 1996, N 60, p. 22.
71. Ayerbe L. America Latina — Estados Unidos. Neoconservadurismo y la guerra cultural. — Nueva Sociedad, Caracas, 1997, N 147, p. 75−87.
72. DiazPolanco H. Autonomia Regional. La autodeterminacion de los pueblos indios. Siglo XX, Mexico, 1991; De la Pena C. Planteos de autonomia en America Latina. — Nueva Sociedad, Caracas, 1997, N 147, p. 12−19.
73.lbid" p. 19.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Развитие доктрин и политики безопасности в странах латиноамериканского региона в XX столетии представляло из себя сложный эволюционный процесс. Он завершается в наши дни принятием парадигмы многоуровневой интегративной безопасности, призванной служить их новым национальным, государственным, региональным и глобальным интересам в XXI веке.
Зарождение представлении о безопасности среди правящих элит и в широких общественных кругах стран Латинской Америки было обусловлено особыми социально — экономическими, историческими, геополитическими и цивилизационными факторами. Политика, осуществлявшаяся на их основе, традиционно несла в себе сугубо региональную специфику.
Этническая, религиозная, языковая, культурная и историческая близость народов Латинской Америки, схожесть уровней их социально-экономического развития, предопределяли ранее, и продолжают предопределять теперь, необходимость проведения ими общерегиональной политики в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Отсутствие явно выраженной внешней угрозы молодым латиноамериканским странам явилось, по мнению диссертанта, первой, одной из наиболее веских причин, по которой не удалось осуществить планы Боливара С. по созданию политического союза латиноамериканских стран еще в начале XIX столетия. Вскоре препятствием для этого стала геополитическая близость Соединенных Штатов, превратившихся, благодаря некоторым особенностям менталитета латиноамериканских правящих элит, в «образец для подражания» почти всех стран региона. Усиление экономического, военного и политического могущества США в странах Западного полушария и в мире в целом в конце XIX — начале XX столетия, позволило Вашингтону взять на себя в одностороннем порядке «ответственность» за обеспечение не только внешней, но и, зачастую даже внутренней безопасности некоторых стран ЛА {Центральная Америка, страны Карибского бассейма). Союзнические отношения США с государствами региона в Первой, и, особенно, во Второй мировых войнах, серьезно ускорили формирование под его эгидой континентальной системы безопасности, завершившееся в 1948 году образованием Организации Американских государств.
Такое развитие событий оказывалось возможным в течение столь длительного времени лишь вследствие неразвитости в Латинской Америке собственных представлений о национальной безопасности, так как, вплоть до начала 60-х годов нашего столетия, национальные интересы народов латиноамериканских стран повсеместно подменялись интересами и воззрениями правящих элит {" государственные интересы"). Для них было характерным стремление колировать американские политические институты и американский образ жизни, слепо перенимать образцы западной политической мысли. Распространение в регионе американских и европейских геополитических доктрин способствовало сохранению и обострению там старых территориальных и других межгосударственных противоречий, возникновению отношений соперничества между двумя крупнейшими государствами южноамериканского ареала — Бразилией и Аргентиной. Однако неоднородность элит, присутствие среди них патриотических элементов, а также постоянное присутствие в регионе основ цивилизационного взаимодействия, предопределяли собой периодическое проявление в тот период коллективных акций латиноамериканских государств, идущих вразрез с интересами США, объективно отвечающих национальным интересам {интересы большинства населения) стран региона. Этим же можно объяснить и неизменное сохранение элементов «регионализма» в рамках официального «континентализма», в частности то, что при создании континентальной системы безопасности латиноамериканскими странами преследовались цели, зачастую весьма отличные от стратегических планов США. Тем не менее, слабая дифференцированность интересов «государственной» и «национальной» безопасности в те годы еще не могла предполагать более последовательного отстаивания общерегиональных интересов во внутренней и внешней политике латиноамериканских государств.
Подобное «запаздывающее» развитие послужило причиной небывалого взлета патриотических и националистических чувств в странах Латинской Америки в конце 50-х — начале 60-х гг., связанного с общей демократизацией международных отношений после Второй Мировой войны и крушением колониальной системы. Их кульминацией стала Кубинская революция, а также «выход на сцену» в большинстве государств региона военных режимов. Военный авторитаризм тех лет отличался, по сравнению с периодом «каудильизма», гораздо большей идеологизированностью (появление особых доктрин национальной безопасности, развитие собственных геополитических концепций), что объяснялось повышенным влиянием патриотических и националистических чувств на менталитет латиноамериканских военных элит.
Угроза вовлечения латиноамериканских стран в глобальное противоборство {кубинский «ракетный кризис» 1962 г., распространение партизанского движения в регионе), временно способствовала усилению «автоматического равнения» латиноамериканских государств на США. Однако уже вскоре, к концу 60-х гг., политика как «правых», так и «левых» военных режимов, равно как и стран, сохранивших демократическую форму правления, вновь стала характеризоваться подчеркнутым национализмом, переходящим, в целом ряде случаев, в антиамериканизм. В качестве главной угрозы внешней безопасности Бразилии, Аргентины, Перу, Панамы, Боливии, Мексики, Колумбии, Эквадора и других стран все чаще стали фигурировать развитые страны, препятствующие их всестороннему {" интегральному") развитию.
Военные националисты, пытаясь выступать в тот период в своей «классической» для Латинской Америки роли привилегированных носителей ценностных понятий о государстве и праве, сумели существенно активизировать общерегиональный дискурс по проблемам безопасности. Их видение последних в целом отражало определенную часть объективных процессов, происходивших в регионе и в мире, о чем свидетельствовала, в частности, близость «доктрин национальной безопасности», разрабатывавшихся военными, с теориями ЭКЛА и проблематикой диалога «СеверЮг». Идея о неразрывной связи безопасности и развития, о несводимости последнего лишь к вопросам «чистой» экономики, легли с тех пор в основу всей последующей эволюции взглядов стран ЛА на проблемы обеспечения своей внутренней и внешней безопасности. Однако крайний, радикальный национализм военных режимов, абсолютизировавший роль государства в вопросах развития, и, соответственно, признававший интересы безопасности лишь «государства» < политика «супербезопасности»), не мог стать основой для нахождения широкого регионального консенсуса по этим проблемам. Немалый вред процессам становления региональной интеграции нанесли консервативные взгляды военных, пытавшихся, наперекор императивам цивилизационного взаимодействия, перенести подходы «классической» геополитики в контекст региональных отношений.
Уход военных от власти, завершившийся к середине 80-х гг., ознаменовался новым восприятием проблематики национальной безопасности, которая в представлениях правящих элит и широких общественных слоев стран региона стала приобретать комплексный, интегративный и многоуровневый характер. Безопасность личности и общества, наряду с безопасностью государства, стала впервые рассматриваться как важная составляющая пересмотренных доктрин и концепций безопасности. Демократическая форма правления в этом смысле начала восприниматься не просто как «должное», или как некий «идеал», а как насущная потребность, способная лучше всего оградить государства региона от внутриполитических конфликтов и гарантировать их «интегральное» развитие и равноправное участие в международных делах. Сразу же неизбежно встал вопрос о том, должна ли демократия в странах ЛА как-то отражать цивилиза-ционную и социально — экономическую специфику этого региона или же он, как и прежде, будет ориентироваться на североамериканскую «модель» .
Конфликты 80-х — Центральноамериканский и Фолклендский {Мальвинский) убеждали в том, что для развития демократии далеко недостаточно наличия одних лишь ее формальных признаков, что безопасное развитие — это, прежде всего, развитие самостоятельное, и что интересы внешней и внутренней безопасности каждой из стран региона лучше всего могло бы обеспечить наличие новой региональной системы безопасности, основанной на общности или близости интересов входящих в нее отдельных государств.
Начало 90-х гг. ознаменовалось резкими переменами в мире, которые окончательно сняли с повестки дня «угрозу международного коммунизма» для стран Западного полушария. В условиях временного падения интереса США к странам региона в тот период, его правящие элиты, опираясь на широкий общенациональный консенсус внутри своих стран, признали в качестве главной угрозы региону перспективу его эвентуальной маргинализации в мировой экономике и политике XXI века. Противодействие этой угрозе, согласно программным установкам правительств и док-тринальным разработкам экспертов, предполагало борьбу с новыми вызовами экономического, социального, экологического, информационного и т. д. характера.
Учитывая комплексность вызовов безопасности в современном мире и их тенденцию к постоянной мультипликации, новая парадигма безопасности латиноамериканского региона неизбежно принимала интегративный и даже в чем-то «агрессивный» характер, вовлекая в свою «сферу влияния» все новые и новью направления человеческой деятельности в области политики, экономики и культуры. Другой отличительной чертой новой парадигмы стала ее многоуровневость, когда в условиях взаимозависимого мира оказались тесно переплетены между собой различные, ранее рассматривавшиеся обособлено друг от друга, уровни безопасности — начиная от личных и общественных, и кончая глобальными. Конкретные вызовы безопасности, такие как терроризм, наркотрафик, преступность, коррупция, неконтролируемая миграция, потеря национальнокультурной идентичности, торговый протекционизм со стороны развитых стран и практика односторонних экономических и политических действий со стороны последних, стали рассматриваться не обособленно друг от друга, а с точки зрения общей парадигмы многоуровневой интегративной безопасности (ОДИБ) отдельных стран и всего региона в целом. Подтверждением этому стало формулирование в 90-е годы в различных документах регионального, континентального и межрегионального сотрудничества двух центральных проблем, от решения которых зависел бы успех или неуспех ответа на все эти новые вызовы — проблемы борьбы с бедностью и проблемы повышения образовательного уровня населения.
Сложность поставленных задач предполагала необходимость объединения усилий стран ЛА в рамках региональной и/или общеконтинентальной интеграции. Уже в конце 80-х гг. интеграция, наряду с последовательной демократизацией, стала рассматриваться не только как гарантия недопущения возврата к власти военных режимов, но и как средство реального обеспечения МИБ. Новые международные реалии поставили в повестку дня вопрос о том, нужно ли латиноамериканским странам стремиться к созданию своего собственного, нового центра силы в формирующемся многополярном мире, или же для обеспечения МИБ им будет достаточно выступать в роли «второго эшелона» в общеконтинентальном блоке, возглавляемом США. Таким образом, в 90-е гг. к вопросу о цивилиза-ционной составляющей интересов внутренней безопасности стран ЛА добавился вопрос и о цивилизационной составляющей интересов их внешней безопасности.
Попытка США перехватить в середине 90-х гг. инициативу в формировании новой парадигмы безопасности в Западном полушарии на основе идеи создания Американской Зоны свободной торговли {АЗСТ), выдвинула на острие дискуссий ряд важных вопросов. Это вопрос о пределах суверенитета государств региона в рамках «глобализующегося» мира и степени самостоятельности их внешних политик, о роли армий во внешней и внутренней политике латиноамериканских обществ и об их общем функциональном предназначении, о режиме безопасности и об основных приоритетах в континентальных отношениях безопасности. Дискуссии, разворачивавшиеся на континентальном уровне — как в ОАГ, так и за ее пределами {" саммиты" Америк, конференции министров обороны стран Западного полушария), выявили серьезные расхождения между США и большинством стран ЛА.
Обсуждения, проходившие на субрегиональном и региональном уровнях {интеграционные группировки, «Группа Рио»), показали, что латиноамериканские государства в своем подавляющем большинстве отвергали попытки какого либо ограничения их суверенитета под предлогом глобализации", а также низведения их вооруженных сил на уровень полицейских формирований, предназначенных для борьбы с «главной опасностью», которой США считали терроризм и наркотрафик. Такие крупные страны региона, как Бразилия, Чили, Мексика, Венесуэла, Колумбия и Перу считали современную международную обстановку достаточно непредсказуемой, предпочитая иметь небольшие, но хорошо оснащенные и достаточно современные ВС. Последним отводилась также такая важная роль как освоение малоосвоенных территорий и поддержка внешнеполитических позиций своих стран. Эти государства выступали против усиления наднациональных функций каких-либо международных организаций, будь то ОАГ или ООН, и в этом смысле достаточно «осторожно» относились к идее миротворческих операций, проводимых под их флагом, не приемля в целом практики силового «принуждения к миру» .
Однако разногласия между «двумя Америками» по проблемам безопасности простирались, как полагает диссертант, гораздо дальше «частных» вопросов. Парадигма МИБ латиноамериканских стран необходимо предполагала их активное включение в обеспечении своей внешнейрегиональной, международной и глобальной безопасности, что, учитывая их цивилизационную специфику, должно было стать важной частью поддержания их демократической стабильности. Этот непреложный аспект «национально — государственной» безопасности в 90-е гг. начал осознаваться даже небольшими государствами региона — Парагваем, Боливией, Эквадором, центральноамериканскими республиками. Соединенные Штаты, предлагая странам ЛА «стабильность» в рамках возобновленной континентальной системы, не были склонны однако, судя по их доктринальным установкам и конкретному внешнеполитическому курсу, согласиться на нечто большее, гарантирующее последним возможность национально-ориентированного, «интегрального» развития и равного с «великими державами» доступа к участию в процессах «глобального регулирования» .
Как показывала практика 90-х гг., акцент в обеспечении интересов МИБ странами ЛА был перенесен на органы межлатиноамериканского субрегионального и регионального сотрудничества. Эти органы все чаще начали выходить на прямые контакты с интеграционными объединениями за пределами Западного полушария. Особая роль принадлежала в этом Мер-косур и Труппе Рио". Наиболее последовательным сторонником «регионализации» и «глобализации» политики стран ЛА выступала Бразилия — страна, имеющая собственную ярко выраженную региональную и международную проекцию и, соответственно, собственные ярко выраженные представления об интересах безопасности. Последние требовали, как минимум, усиления Меркосур и его самостоятельной роли в деле создания АЗСТ, а как максимум — образования, путем присоединения к Меркосур других стран и интеграционных объединений, «Южноамериканской зоны свободной торговли» (ЮАЗСТ), способной стать самостоятельным центром многополюсного мира со своей собственной, исторически — и цивилизаци-оннообусловленной моделью безопасности и развития. Об этом свидетельствовала как активность Меркосур в деле присоединения новых членов и установления контактов за пределами Западного полушария (со странами ЕС, АТЭС, Африки и СНГ), так и стремление государствучастников Меркосур, прежде всего — Бразилии, сохранить его единство и обеспечить высокую динамику развития.
Для Меркосур, а также, в определенной степени, для СЦАИ (Система центральноамериканской интеграции) оказались в наибольшей степени свойственны такие специфические черты, как «открытый регионализм» и стремление к установлению режима «безопасности сотрудничества», позволяющие в максимальной степени сохранять суверенные права стран-членов и избегать возрождения старых геополитических и других противоречий. Отнюдь не случайным представлялось, в этом плане, наметившееся в конце 90-х гг. определенное дистанцирование латиноамериканских стран от режима коллективной безопасности континентальной системы и их стремление наделить механизм политических консультаций -" Группу Рио", уже заявленную ими в качестве коллективного органа для отстаивания своих интересов на международной арене, более широкими правами, а также собственной организационной структурой. Это было связано, не в последнюю очередь, с нежеланием США согласиться с принятием в ОАГ режима «безопасности сотрудничества» .
Как представляется диссертанту, дальнейшее развитие интересов МИБ латиноамериканских стран будет преимущественно связано с формирующимися сегодня институтами и режимами межлатиноамериканского субрегионального и регионального взаимодействия. Континентальная система в таком контексте может сохраниться скорее как средство для развязывания конкретных узлов межамериканских противоречий, чем как институт, служащий целям конструктивного и долгосрочного сотрудничества. При этом, разумеется, следует учитывать, что экономическое, политическое, военное и культурное влияние США, стремящихся увековечить состояние однополярности в Западном полушарии и в мире в целом, будет по-прежнему направлено против такого развития событий. Соединенные Штаты, очевидно, постараются по мере возможности избегать в будущем обострения противоречий на межгосударственном уровне со странами ЛА, усиливая роль ТНК, международных финансовых организаций, экономических, психологических и геополитических рычагов воздействия на сознание их правящих элит, а также играя на еще остающихся, в скрытом или открытом состоянии, противоречиях между самими латиноамериканскими странами, в том числе — и в сфере безопасности (территориальные споры, субрегиональное соперничество). В последнее время достаточно отчетливо, например, просматривалось стремление Вашингтона внести диссонанс в политику Меркосур, используя «особую позицию» Аргентины, а также стимулировать возобновление гонки вооружений в регионе с помощью отмены запрета на поставки туда современных вооружений и военной техники.
Геополитические реалии, игравшие в прошлом решающую роль, дополнились сегодня факторами «невоенной» безопасности, и в значительной степени потеряли роль того «магнита», который традиционно притягивал к Вашингтону страны ЛА. Однако новые факторы безопасности — экономические, демографические, социальные, экологические и т. д. усилили асимметричную взаимозависимость США с близлежащими странами и субрегионами — Мексикой, Центральной Америкой и, особенно, государствами Карибского бассейна. В этой связи уместно предположить более активное участие последних, по сравнению, например, со странами «южного конуса», в системах и режимах сотрудничества и безопасности, возглавляемых США (НАФТА, «обновленная» ОАГ), при одновременном поддержании ими на достаточно высоком уровне всего комплекса своих региональных связей. Все это может сделать формирующуюся в регионе систему МИБ достаточно сложной и не лишенной внутренних противоречий.
Новое восприятие парадигмы безопасности в странах ЛА открывает хорошие возможности для интенсификации российсколатиноамериканского сотрудничества в контексте строительства многополярного мира. Для того, чтобы обеспечить хороший задел для этого уже в самом ближайшем будущем, разработчикам российской внешней политики, как представляется, необходимо отойти от традиционной «торгово-экономической» менталь-ности и обратить внимание на схожесть позиций РФ и большинства стран региона по таким актуальным проблемам международной безопасности и международного права, как реформирование ООН и вопросы миротворчества, проблема суверенитета в условиях взаимозависимости, перспективы реализации принципов стратегии устойчивого развития, противодействие односторонним мерам в мировой экономике и политике и т. д. Важными направлениями сотрудничества уже сегодня становятся такие вопросы, как борьба с международным терроризмом, наркотрафиком и преступностью. По мнению диссертанта, лишь углубление политического партнерства и партнерства в сфере обеспечения международной безопасности, в котором объективно заинтересованы как Россия, так и страны ЛА, могло бы дать необходимый стимул налаживанию наших торгово-экономических связей и научно-технического сотрудничества в XXI столетии, особенно в таких перспективных и, в то же время, «чувствительных» областях, как поставки вооружений и военной техники, освоение космического пространства и т. д. Правильное построение российской политики в отношении этого региона потребует постоянного учета интересов многоуровневой интегра-тивной безопасности как его отдельных стран, так и субрегиональных и общерегиональных интересов МИБ, а также перспектив их развития.